Текст книги "В сторону Свана"
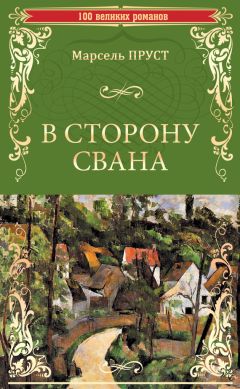
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Даже во время наших прогулок по местам, лежавшим за церковью, откуда ее не было видно, городской пейзаж всегда казался построенным в соотношении с колокольней, которая проглядывала то здесь, то там и была, может быть, еще более волнующей, когда показывалась таким образом без церкви. Конечно, существует множество других колоколен, с виду более красивых, когда смотришь на них с подобных пунктов, и я храню в своей памяти виньетки колоколен, возвышающихся над крышами, которым присущ совсем другой художественный характер, чем перспектива печальных улиц Комбре. Я никогда не забуду двух прелестных домов XVIII века в любопытном нормандском городке невдалеке от Бальбека, домов, во многих отношениях дорогих и памятных мне, между которыми, если смотреть на них из красивого сада, уступами спускающегося к реке, взлетает ввысь готический шпиль спрятанной за ними церкви, как бы увенчивающий и завершающий их фасады, но состоящий из вещества столь отличного, столь драгоценного, столь хрупкого, столь розового, столь блестящего, что сразу видна его такая же непричастность к ним, как непричастна пурпурная и зазубренная стрелка веретенообразной и покрытой блестящей эмалью раковины к двум лежащим рядом красивым галькам, между которыми она была найдена на морском берегу. Даже в Париже, в одном из самых невзрачных кварталов, я знаю окно, откуда виден где-то на третьем или даже на четвертом плане, за беспорядочно нагроможденными крышами нескольких улиц, фиолетовый колокол, иногда красноватый, а иногда также в самых тонких «оттисках», какие дает от него атмосфера, черновато-пепельный, являющийся не чем иным, как куполом церкви Сент-Огюстен, и придающий этому парижскому виду характер некоторых римских видов Пиранези. Но так как ни в одну из этих маленьких гравюр, с какой бы любовью я мысленно ни воспроизводил их, память моя не могла вложить чувства, способность к которому давно уже мной утрачена и которое заставляет нас смотреть на предмет не как на зрелище, но верить в него, как в существо, не имеющее себе равных, то ни одна из них не держит в зависимости от себя целого периода моей интимной жизни, как это делает воспоминание о разных видах колокольни в Комбре с улиц, расположенных позади церкви. Видели ли мы ее в пять часов, когда ходили за письмами на почту, на расстоянии нескольких домов от нас, налево, неожиданно вздымавшуюся одинокой вершиной над гребнем крыш, или же, напротив, желая пойти узнать о здоровье г-жи Сазра, следили глазами за этим гребнем, понижавшимся по ту сторону удаленного от нас ее ската, зная, что нужно будет повернуть во вторую улицу за колокольней; либо, отправляясь еще дальше, на вокзал, замечали ее в косом направлении, и она показывала нам в профиль новые грани и поверхности, точно какое-нибудь твердое тело, внезапно застигнутое в одном из неизвестных нам ранее аспектов во время обращения его вокруг своей оси; либо, наконец, с берегов Вивоны, когда абсида, мощно напрягшая свои мышцы и приподнятая перспективой, казалось, искрилась усилием, которое производила колокольня, чтобы швырнуть свой шпиль в самое сердце неба: каждый раз неизменно приходилось возвращаться к колокольне, каждый раз она господствовала над всем, объединяя дома неожиданным остроконечным зубцом, поднятым передо мною, словно палец Бога, тело которого могло быть скрыто в массе человеческих тел, и я все же благодаря этому пальцу не смешал бы его с ними. И сейчас еще, если в каком-нибудь большом провинциальном городе или в плохо знакомом мне парижском квартале прохожий, сообщая, как попасть в желательное для меня место, показывает мне вдали в качестве опорного пункта какую-нибудь каланчу или монастырскую колокольню, поднимающую на углу улицы, на которую я должен повернуть, остроконечную верхушку своей священнослужительской шапки, то достаточно моей памяти найти у нее самой смутное сходство с дорогими исчезнувшими очертаниями, – и прохожий, если он вздумает обернуться, чтобы удостовериться, не сбился ли я с пути, может, к удивлению своему, заметить, что я, позабыв о предпринятой прогулке или о поручении, которое мне необходимо было выполнить, целыми часами остаюсь на том же месте, перед колокольней, неподвижный, пытаясь припомнить, чувствуя, как в самой глубине моего существа площади, залитые водами Леты, постепенно высыхают и на них вновь появляются постройки; и, несомненно, в тот момент, еще более исступленно, чем несколько времени тому назад, когда я просил его показать мне дорогу, я продолжаю искать ее, я поворачиваю за угол… но… все это путешествие я совершаю в моем сердце…
Возвращаясь от мессы, мы часто встречали г-на Леграндена, которого удерживали обыкновенно в Париже его профессиональные занятия (он был инженер), так что, исключая Святки, он мог приезжать к себе домой в Комбре только на время от вечера субботы до утра понедельника. Он был одним из тех людей, которые помимо ученой карьеры, делаемой ими, впрочем, с блестящим успехом, обладают еще совсем иного рода культурой, литературной или художественной; этой культуре не дает никакого применения профессиональная работа по их специальности, но они обнаруживают ее в своем разговоре. Более начитанные, чем многие литераторы (мы не знали в то время, что г-н Легранден имел уже некоторое литературное имя, и были бы крайне изумлены, если бы до нас дошло, что какой-нибудь известный композитор написал музыку на его стихи), одаренные большей «легкостью руки», чем многие художники, они воображают, что жизнь, которую им приходится вести, не является жизнью, соответствующей их способностям, и вносят в свою профессиональную работу либо беззаботность, смешанную с прихотливостью, либо чрезмерно подчеркнутую старательность, презрительную, горькую и добросовестную. Высокий, прекрасно сложенный, с тонким задумчивым лицом и длинными светлыми усами, с разочарованными голубыми глазами, утонченно-вежливый собеседник, какого мы никогда не слыхали, он был в глазах моей семьи, всегда ставившей его в пример, образцом настоящего джентльмена, относящегося к жизни как нельзя более благородно и деликатно. Бабушка упрекала его только в том, что он слишком уж хорошо говорил, почти как книга, и его речь была лишена той естественности, с какой он повязывал широким и небрежным бантом галстуки «лавальер» и носил прямой и короткий, почти как у школьника, пиджак. Она удивлялась также пламенным тирадам, которыми он часто разражался против аристократии, светской жизни и снобизма, «несомненно, являющегося тем грехом, что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит о грехе, который не получит прощения».
Светское честолюбие было чувством, которое бабушка до такой степени была не способна испытать и даже понять, что ей казалось совершенно нестоящим делом вкладывать столько горячности в его осуждение. Кроме того, она не считала признаком очень хорошего вкуса то, что г-н Легранден, сестра которого была замужем за одним нижненормандским дворянином, жившим невдалеке от Бальбека, так яростно набрасывался на знать и даже ставил в упрек Великой революции, что она не гильотинировала всех ее представителей.
– Здравствуйте, друзья, – говорил он, идя нам навстречу. – Как вы счастливы, что можете жить здесь подолгу; а мне завтра нужно возвращаться в Париж, чтобы снова зарыться в свою конуру. – О! – продолжал он, с особенной ему свойственной мягко-иронической, разочарованной и рассеянной улыбкой. – Конечно, в моем доме есть куча бесполезных вещей. В нем недостает только необходимого: большого куска неба, как здесь. Старайтесь всегда сохранить кусок неба над вашей жизнью, мальчик, – прибавлял он, обращаясь ко мне. – У вас красивая душа, редкого качества, артистическая натура; не лишайте же ее того, что ей необходимо.
Когда по нашем возвращении тетя посылала спросить нас, действительно ли г-жа Гупиль опоздала к мессе, никто из нас не мог ей ответить. Зато мы увеличили ее тревогу, сообщив ей, что в церкви работает художник: снимает копию с витража Жильбера Дурного. Франсуаза, тотчас же посланная к бакалейщику, вернулась, ничего не узнав, благодаря отсутствию Теодора, которому его двойная профессия певчего, принимавшего участие в поддержании церковного благолепия, и приказчика в бакалейной лавке не только позволяла вступать в сношения с представителями всех общественных классов, но и давала энциклопедическую осведомленность.
– Ах! – вздыхала тетя. – Поскорей бы наступил час, когда должна прийти Евлалия. Она единственный человек, который в состоянии сказать мне это.
Евлалия была деятельная и глухая хромоножка, «удалившаяся на покой» после смерти г-жи де ла Бретонери, у которой она служила с самого детства; она сняла комнату рядом с церковью, но дома почти не сидела и вечно находилась в церкви, то на службах, то молясь в одиночестве или помогая Теодору, когда службы не было; остальное время она проводила в посещении больных вроде тети Леонии, которой она докладывала все происходившее в церкви во время мессы или вечерни. Она не упускала случая увеличить случайными доходами скромную ренту, обеспеченную ей семьей прежних хозяев, и время от времени приводила в порядок белье кюре или другой значительной особы из числа комбрейского духовенства. Сверх черного суконного плаща она носила маленький белый чепчик, почти как монахиня, и какая-то накожная болезнь окрашивала часть ее щек и ее крючковатый нос в ярко-розовые тона бальзамина. Ее посещения были большим развлечением в жизни тети Леонии, не принимавшей больше почти никого, за исключением г-на кюре. Тетя понемногу исключила из списка приглашаемых всех других лиц, так как все они были в ее глазах повинны в том, что принадлежали к одной из двух категорий людей, которых она не могла выносить. Люди первой категории, самые ужасные, от которых она отделалась в первую очередь, представляли собой субъектов, советовавших ей не обращать столько внимания на свое здоровье и исповедовавших – пусть даже чисто отрицательно, выражая ее только в форме неодобрительного молчания или улыбок сомнения, – пагубную доктрину, будто маленькая прогулка в солнечный день и хороший бифштекс с кровью принесут ей больше пользы (это ей-то, которая в течение четырнадцати часов хранила в своем желудке два злосчастных глотка виши!), чем все ее лекарства и ее постель. Другая категория состояла из лиц, делавших вид, будто считают, что тетя больна серьезнее, чем она думает, что она больна так серьезно, как она говорит. В результате лица, которым она после некоторого колебания и настойчивых уговоров Франсуазы позволяла подняться к себе и которые во время своего визита показывали, насколько они были недостойны оказанной им милости, рискнув робко заметить: «Не кажется ли вам, что если бы вы размялись немного в хорошую погоду…» – или же, напротив, в ответ на ее жалобу: «Мне так худо, так худо, это конец, дорогие друзья» – говоря: «Да, это ужасно – лишиться здоровья! Но вы еще можете протянуть в таком состоянии», – такие лица, и первой и второй категории, могли быть уверены, что дверь тетиных комнат никогда больше для них не откроется. И если Франсуазу очень забавлял испуганный вид тети, когда со своей кровати она замечала на улице Сент-Эспри кого-нибудь из этих лиц, как будто намеревавшихся зайти к ней, или слышала звонок у своей двери, то еще больше ее смешили, как ловкая выдумка, всегда победоносные хитрости тети, изобретаемые с целью спровадить нежелательного гостя, и вытянутая физиономия такого гостя, вынужденного удалиться, не повидавши тетю: и Франсуаза втайне восхищалась своей барыней, так как считала, что она стоит неизмеримо выше этих людей, поскольку может не принимать их, если не желает их видеть. В общем, тетя требовала от своих посетителей, чтобы они в одно и то же время и одобряли ее образ жизни, и выражали ей соболезнование по поводу ее страданий, и уверяли ее, что она в конце концов поправится.
Во всех этих отношениях Евлалия была бесподобна. Тетя могла повторять ей двадцать раз в течение минуты: «Пришел конец мне, бедная моя Евлалия», – двадцать раз Евлалия неизменно отвечала ей: «Если знать свою болезнь так, как вы ее знаете, то можно прожить до ста лет, как говорила мне вчера еще г-жа Сазрен». (Одним из самых твердых убеждений Евлалии, которое не в состоянии было поколебать никакое число изобличающих его неправильность показаний, заключалось в том, что настоящей фамилией г-жи Сазра была фамилия Сазрен.)
– Я не прошу у Бога прожить до ста лет, – отвечала тетя, предпочитавшая не назначать точно определенной границы дням своей жизни.
А так как Евлалия умела, кроме того, как никто другой, развлекать тетю, не утомляя ее, то ее посещения, имевшие место регулярно каждое воскресенье – разве только случалось что-нибудь непредвиденное, – были для тети удовольствием, перспектива которого держала ее в состоянии радостного возбуждения, очень скоро, впрочем, сменявшегося состоянием мучительным, как слишком долго не удовлетворяемый голод, стоило только Евлалии немного опоздать. Слишком затягиваясь, это наслаждение ожидать Евлалию обращалось в пытку; тетя то и дело поглядывала на часы, зевала, жаловалась на недомогание. Если звонок Евлалии раздавался перед самым вечером, когда тетя теряла уже всякую надежду, то он почти что делал ее больной. Действительно, по воскресеньям она только и думала, что об этом посещении, и по окончании завтрака Франсуаза с нетерпением ожидала момента, когда мы покинем столовую, чтобы ей можно было подняться наверх и «заняться» тетей. Но (особенно когда в Комбре устанавливалась хорошая погода) проходило много времени с тех пор, как горделивый полуденный час, нисходивший с колокольни Сент-Илер, которую он украшал на мгновение двенадцатью геральдическими зубцами своей звучащей короны, успевал пробить над нашим столом, возле освященного хлеба, который также запросто приходил к нам из церкви, – а мы все еще сидели перед тарелками со сценами из «Тысячи и одной ночи», отяжелевшие от жары, а еще больше от еды. В самом деле, к неизменной основе из яиц, котлет, картофеля, варенья, бисквитов, о появлении которых на столе Франсуаза даже не объявляла нам больше, она присоединяла – соответственно урожаю на огородах и в фруктовых садах, результатам морского улова, случайностям рынка, любезности соседей и своим собственным талантам, так что наше меню, подобно тем четырехлистникам, которые высекались в XIII веке на порталах соборов, в известной степени отражало чередование времен года и событий человеческой жизни: камбалу, так как торговка поручилась ей за ее свежесть; индейку, так как ей попалась отличная на рынке в Руссенвиль-ле-Пен; испанские артишоки с мозгом, так как она еще не готовила их нам этим способом; жареного барашка, так как прогулка на свежем воздухе возбуждает аппетит и до обеда придется ждать еще целых семь часов – время достаточное, чтобы переварить этого барашка; шпинат – для разнообразия; абрикосы, так как они были еще редкостью, смородину, так как через две недели ее нельзя уже будет достать; малину, так как г-н Сван собственноручно принес ее; вишни, которые в первый раз уродились на вишневом дереве нашего сада после того, как в течение двух лет оно не давало плода; творог со сливками, который я так любил в те времена; миндальное пирожное, так как она заказала его накануне; кулич, так как пришла наша очередь приносить его в церковь. Когда же все это бывало съедено, на стол подавался нарочно для нас приготовленный, но посвященный главным образом моему отцу, большому любителю таких вещей, шоколадный крем, плод творческого вдохновения Франсуазы, воздушный и легкий, как произведение, исполненное для чрезвычайного случая, в которое она вложила весь свой талант. Тот, кто вздумал бы отказаться от него, сказав: «Спасибо, я уже кончил; больше не могу», – сразу был бы низведен до уровня тех варваров, которые, получая от художника в подарок какое-нибудь его произведение, исследуют его вес и материал, тогда как в нем ценны только замысел и подпись автора. Даже оставить хотя бы самый маленький кусочек на тарелке было бы такой же невежливостью, как встать и уйти из концертного зала до окончания музыкального номера под носом у композитора.
Но вот наконец мама обращалась ко мне: «Милый, не оставайся здесь без конца; поднимись в свою комнату, если ты находишь, что на дворе очень жарко, но пойди сначала подыши воздухом, нельзя садиться за книгу сразу после еды». Я направлялся к насосу с каменным желобом, украшенным там и сям, подобно готической купели, саламандрами, оживлявшими истершийся камень подвижным рельефом своих гибких аллегорических тел, и усаживался подле него на скамейку без спинки, под тенью сиреневого куста, в том уголке сада, откуда был выход через маленькую калитку на улицу Сент-Эспри; на довольно заброшенной его территории возвышалась двумя уступами задняя кухня, соединенная с домом, но казавшаяся с места, где я сидел, самостоятельной постройкой. Ее красные каменные плиты блестели, словно порфирные. Она была похожа не столько на убежище Франсуазы, сколько на маленький храм Венеры, и вся была наполнена приношениями молочника, фруктовшика, торговки овощами, приходившими подчас из довольно отдаленных деревень, чтобы посвятить ей первые плоды своих полей. И конек ее крыши всегда был увенчан воркующим голубем.
В прежние времена я не задерживался в священной роще, окружавшей этот храм, так как, прежде чем подняться к себе наверх и приняться за чтение, забирался в маленькую гостиную, которую занимал в нижнем этаже дядя Адольф – дедушкин брат, старый военный, вышедший в отставку в чине майора, – и которая, даже когда открытые окна давали доступ, если не солнечным лучам, редко заглядывавшим туда, то стоявшей на дворе жаре, неиссякаемо источала тот неопределенный, но свежий запах, отдающий одновременно лесом и старомодным образом жизни, что так приятно щекочет ноздри и погружает нас в мечтательность, когда мы входим в какой-нибудь заброшенный охотничий домик. Но уже несколько лет я не заходил больше в комнату дяди Адольфа, так как он перестал приезжать в Комбре вследствие ссоры, происшедшей между ним и моей семьей по моей вине, при следующих обстоятельствах.
В Париже один или два раза в месяц меня посылали навестить дядю, и я входил к нему обыкновенно, когда он кончал завтракать, одетый в скромную тужурку; за столом ему прислуживал лакей в рабочей блузе из грубого холста в лиловую и белую полоску. Дядя тотчас же начинал с ворчаньем жаловаться, что я редко прихожу к нему, что его совсем забыли; он угощал меня марципанами или мандаринами, затем мы покидали столовую и проходили через комнату, где никто никогда не задерживался, где никогда не зажигали огня, комнату со стенами, украшенными золоченой резьбой, с потолком, расписанным в голубой цвет в подражание цвету неба, и с мебелью, обитой атласом, как у моих бабушки и дедушки, только желтым; располагались мы в следующей комнате, которую дядя называл своим «рабочим» кабинетом; по стенам ее были развешаны гравюры, изображавшие на черном фоне какую-нибудь дебелую розовую богиню, правящую колесницей, стоящую на шаре или со звездой на лбу; гравюры эти были в большой моде при Второй империи, так как тогда считалось, что они напоминают помпейскую живопись; потом к ним стали относиться пренебрежительно, а теперь снова начинают ими увлекаться на том единственном основании (какие бы другие основания ни приводились), что они напоминают Вторую империю. И я оставался у дяди до тех пор, пока не приходил к нему камердинер спросить от имени кучера, к какому часу дядя прикажет закладывать лошадей. Дядя погружался тогда в раздумье, которое восхищенный камердинер боялся потревожить малейшим движением, с любопытством ожидая, к какому результату приведет оно. Но результат был всегда один и тот же: после мучительных колебаний дядя неизменно произносил: «В четверть третьего». Камердинер с изумлением, но без возражений повторял: «В четверть третьего? Хорошо… передам ему…»
В те времена я очень любил театр, любил платонически, так как мои родители ни разу еще не позволяли мне пойти туда, и я настолько неверно представлял себе удовольствия, которые там получают, что недалек был от предположения, будто каждый зритель смотрит на сцену как бы в стереоскоп и видимая им картина существует только для него одного, хотя она и похожа на тысячу других картин, предстоящих глазам каждого из остальных зрителей.
Каждое утро я бегал к столбу с афишами посмотреть, какие спектакли объявлял он. Ничто не могло быть бескорыстнее и счастливее грез, навеваемых моему воображению каждой объявленной пьесой и обусловленных, с одной стороны, ассоциациями, неразрывно связанными со словами, составлявшими название пьесы, а с другой – цветом афиш, еще влажных и сморщенных от клея, на которых это название было напечатано. Если не считать таких странных произведений, как «Завещание Цезаря Жиродо» или «Эдип-царь», напечатанных не на зеленых афишах Комической Оперы, но на афишах винного цвета Французской Комедии, то ничто не казалось мне более отличным от пера сверкающей белизны «Бриллиантов короны», чем гладкий таинственный атлас «Черного домино»; так как мои родители сказали мне, что для своего первого посещения театра я должен буду сделать выбор между этими двумя пьесами, то я стремился последовательно углубить их заглавия (ибо заглавия эти были все, что я о них знал), пытаясь таким образом угадать в каждом удовольствие, которое оно сулило мне, и сравнить его с удовольствием, таившимся в другом заглавии; в заключение я с такой яркостью представлял себе, с одной стороны, ослепительно сверкающую и горделивую пьесу, а с другой – пьесу спокойную и бархатистую, что бывал так же не способен решить, какой из них следует отдать предпочтение, как не способен был бы сделать выбор между предложенными мне на сладкое рисом a l’lmpératrice[3]3
Императрица (фр.).
[Закрыть] и знаменитым шоколадным кремом.
Все мои разговоры с товарищами вращались вокруг актеров, игра которых, хотя она оставалась для меня еще неизвестной, была первой из многочисленных форм Искусства, в которой оно дало мне почувствовать свое очарование. Самые незначительные различия в их манере декламировать какую-нибудь тираду казались мне исполненными неизмеримого значения. И на основании чужих отзывов об актерах я размещал их в порядке их талантливости в списки, которые твердил наизусть с утра до вечера, так что в заключение они как бы окаменели в моем мозгу и стали досаждать мне своей неподвижностью.
Впоследствии, во время пребывания моего в коллеже, заводя на уроках разговор с каким-нибудь новым другом, когда преподаватель не смотрел на меня, я всегда начинал с вопроса, бывал ли уже в театре мой сосед и согласен ли он, что нашим величайшим актером является Го, что за ним следует Делоне и т. д. И если, по его мнению, Февр был ниже Тирона или Делоне ниже Коклена, то внезапная подвижность, которую приобретало в моем мозгу имя Коклена, утратившее каменную твердость, чтобы перекочевать там на второе место, а также чудесная живость и необычное одушевление, которым бывало наделено имя Делоне, чтобы отодвинуться на четвертое место, сообщали моему освеженному и оплодотворенному мозгу ощущение зацветания и жизни.
Но если мысль об актерах до такой степени занимала меня, если вид Мобана, выходящего после полудня из Французской Комедии, причинял мне тревогу и терзания безнадежной любви, то насколько же большее смятение вызывали во мне имя какой-нибудь этуали, сверкавшее на дверях театра, или вид женского лица, принадлежавшего, может быть, актрисе, которое я замечал сквозь стеклянную дверцу проезжавшей по улице двухместной кареты, запряженной лошадьми с вплетенными в челки розами! Как бесплодны и мучительны бывали мои усилия представить себе ее частную жизнь! Я размещал в порядке талантливости самых знаменитых: Сару Бернар, Берма, Барте, Мадлену Броан, Жанну Самари, но все они интересовали меня. Между тем дядя был знаком со многими из них, а также с кокотками, которых я недостаточно ясно отличал от актрис. Он принимал их у себя. И если мы посещали дядю только в определенные дни, то это объяснялось тем, что в другие дни к нему приходили женщины, с которыми дядины родственники не могли встречаться – по их мнению, по крайней мере, – так как что касается самого дяди, то он, напротив, проявлял необычайную готовность любезно представлять моей бабушке красивых вдов, которые никогда, может быть, не были замужем, и графинь с громкой фамилией, являвшейся, вероятно, только благозвучным псевдонимом, или даже дарить им фамильные драгоценности, – готовность, которая уже не раз бывала причиной его размолвок с дедушкой. Мне часто приходилось слышать, как отец мой при упоминании в разговоре фамилии какой-нибудь актрисы с улыбкой говорил матери: «Приятельница твоего дяди», и я думал: «Солидные мужчины, может быть, годами тщетно добиваются чести быть принятыми такой-то женщиной, которая не отвечает на их письма и велит консьержу гнать их вон, а вот мой дядя мог бы избавить от всех этих мытарств такого мальчишку, как я, представив его у себя в доме актрисе, недоступной для стольких других, но являвшейся его интимным другом».
И вот однажды – под тем предлогом, что один из моих уроков был переставлен очень неудачно и уже несколько раз мешал мне и будет мешать впредь навещать дядю, – выбрав день, не принадлежавший к числу дней, в которые мы делали дяде визиты, я воспользовался тем, что мы позавтракали очень рано, и вышел из дому; но вместо того чтобы отправиться взглянуть на столб с афишами (на эту прогулку меня отпускали одного), я побежал к дяде. Я заметил перед его дверью экипаж, запряженный парой лошадей с шорами, украшенными красной гвоздикой, которая красовалась также в петличке кучера. Еще на лестнице я услышал смех и женский голос, но как только я позвонил, воцарилось молчание, потом раздался шум закрываемых дверей. Открывший мне камердинер, увидя меня, пришел в замешательство и сказал мне, что дядя очень занят и вряд ли примет меня; однако он все же отправился доложить обо мне, и в эту минуту тот же голос, который я слышал с лестницы, проговорил: «Милый, позволь ему войти, на одну только минутку, мне страшно хочется его увидеть. Ведь это его фотография стоит на твоем письменном столе? Рядом с фотографией твоей племянницы, его матери? Он так похож на нее, не правда ли? Я хочу только взглянуть на этого малыша».
Я услышал, как дядя заворчал и что-то сердито ответил; через некоторое время камердинер попросил меня войти.
На столе стояла та же тарелка с марципанами, что и обыкновенно; дядя был в своей неизменной тужурке, но напротив него сидела молодая женщина в розовом шелковом платье с большим жемчужным ожерельем на шее и доедала мандарин. Не зная, как обратиться к ней: «мадам» или «мадемуазель», я покраснел и, не осмеливаясь поднять глаза в ее сторону из боязни, что мне придется заговорить с ней, подошел поздороваться с дядей. Она с улыбкой смотрела на меня, и дядя сказал ей: «Мой племянник», не называя ни ей моей фамилии, ни мне ее, наверное, потому, что после неприятностей, которые вышли у него с дедушкой, он всячески избегал устраивать встречи между своими родственниками и знакомыми этого рода.
– Как он похож на свою мать, – сказала дама.
– Но ведь вы никогда не видели моей племянницы; по карточке судить недостаточно, – поспешно прервал ее дядя довольно грубым тоном.
– Извините, пожалуйста, дорогой мой, я как-то встретилась с ней на лестнице в прошлом году, когда вы были серьезно больны. Правда, я видела ее одно только мгновение, и ваша лестница довольно темная, но этого мгновения для меня было достаточно, чтобы найти ее очаровательной. У этого молодого человека ее прекрасные глаза, а также вот это, – продолжала она, проводя пальцем линию над бровями. – Скажите, ваша уважаемая племянница носит ту же фамилию, что и вы, мой друг? – обратилась она к дяде.
– Он похож больше на отца, – проворчал дядя, которому было так же нежелательно знакомить эту даму заочно с моей матерью, называя ее фамилию, как и сводить их лицом к лицу. – Он вылитый отец и похож еще, пожалуй, на мою бедную матушку.
– Я не знакома с его отцом, – сказала дама в розовом, слегка наклонив голову, – и никогда не была знакома с вашей бедной матушкой. Вы ведь помните, мы познакомились вскоре после постигшего вас горя.
Я испытывал некоторое разочарование: эта молодая дама не отличалась от других красивых женщин, которых я иногда видел в нашем доме; в ней было особенно много сходства с дочерью одного из наших кузенов, к которому я постоянно ходил с новогодним поздравлением. У приятельницы моего дяди были такие же живые и добрые глаза, такой же открытый и доброжелательный взгляд, и только одета она была лучше. Я не находил у нее никаких признаков театральной внешности, так восхищавшей меня на фотографиях актрис, не находил также демонического выражения, соответствовавшего жизни, которую, по моим предположениям, она должна была вести. Я с трудом верил, что это была кокотка, и никак не мог бы подумать, что это была кокотка шикарная, если бы не видел экипажа, запряженного парой, розового платья, жемчужного ожерелья, если бы не знал, что дядя водил знакомство только с птицами самого высокого полета. Я недоумевал, каким образом миллионер, даривший ей экипаж, особняк и драгоценности, мог находить удовольствие в проматывании денег на особу с такой скромной и приличной внешностью. И все же, когда я думал о том, чем должна быть ее жизнь, ее безнравственность волновала меня, может быть, больше, чем если бы она предстала мне в конкретной и наглядной форме – волновала своей невидимостью, как тайна какого-то романа, какого-то скандала, заставившего уйти из тихого родительского дома и сделавшего публичным достоянием, украсившего прелестями, обратившего в героиню полусвета и так прославившего женщину, которую выражение лица, интонации голоса делали похожей на стольких других знакомых мне женщин и, вопреки моей воле, побуждали меня рассматривать как молодую девушку из хорошей семьи, в то время как она не принадлежала больше ни к какой семье.
Тем временем мы перешли в «рабочий кабинет», и дядя, в некотором замешательстве от моего присутствия, предложил ей папиросу.
– Нет, благодарю вас, дорогой, – сказала она, – вы знаете, я ведь привыкла к папиросам, которые присылает мне великий князь. Я ему сказала, что они возбуждают в вас ревность. – И она вынула из портсигара несколько папирос с надписями золотыми буквами на иностранном языке. – Ну конечно же, – воскликнула она вдруг, – я встречалась у вас с отцом этого молодого человека! Ведь он ваш племянник? Как могла я забыть? Он был так мил, так изысканно вежлив со мной, – продолжала она скромно и трогательно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































