Текст книги "В поисках утраченного времени. Книга 4. Содом и Гоморра"
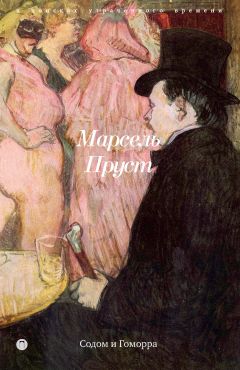
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Директор пришел спросить, не угодно ли мне спуститься вниз. На всякий случай он решил проверить, какое «помещение» отведут мне в столовой. Не увидев меня там, он забеспокоился: не начались ли у меня, как в прошлый раз, приступы удушья? Он выразил надежду, что, наверно, это у меня от легкой «красоты в горле» и что от нее хорошо помогает, как он слышал, «калипт».
Он передал мне записку от Альбертины. В этом году она не собиралась в Бальбек, но планы у нее изменились, и вот уже три дня, как она живет, правда, не в самом Бальбеке, а по соседству, в десяти минутах езды на трамвае. Боясь, что дорога утомила меня, она решила не встречаться со мной в день моего приезда, а теперь спрашивала, когда ей можно ко мне приехать. Я осведомился, сама ли она приходила, но осведомился не для того, чтобы увидеться с ней, а для того, чтобы избежать встречи. «Ну да, сама, – ответил директор. – Ей хочется с вами повидаться как можно скорее, если только вы ничего не имеете напротив. Вот видите, – заключил он, – все вас здесь жаждут, можете меня уверить». Мне же никого не хотелось видеть.
А между тем вчера, когда я приехал, меня как будто вновь обволокла упоительная нега жизни на морском курорте. Тот же лифтер, по-прежнему молчаливый, но только теперь не от высокомерия, а из почтительности, покраснев от удовольствия, пустил в ход свою машину. Поднимаясь вдоль столба, я вновь пролетал сквозь то, что когда-то составляло для меня тайну незнакомого отеля, где турист без протекции и без веса, любой из давно обосновавшихся здесь, возвращающийся к себе в номер, любая девушка, спускающаяся ужинать, горничная, идущая по коридору, – а коридоры здесь необычные, – приехавшая с компаньонкой из Америки девушка, спускающаяся ужинать, – все бросают на вас в день вашего приезда взгляды, в которых вы не улавливаете того, что вам хотелось бы в них прочитать. А сейчас я, напротив, получал чересчур успокоительное удовольствие от подъема на лифте в знакомом отеле, где я чувствовал себя как дома, где я еще раз осуществил то, что вечно приходится осуществлять, на что требуется не больше времени, не больше усилий, чем на то, чтобы поднять веко, а именно – вложил в вещи родственную нам душу взамен их души, пугающей нас. «Предстоит ли мне еще, – говорил я себе, не подозревая, что меня ждет резкая перемена душевного состояния, – останавливаться в отелях, где надо будет ужинать в первый раз, где привычка еще не успела убить страшных драконов, как будто стерегущих на каждом этаже, у каждой двери чью-то заколдованную жизнь, где мне суждено приблизиться к неведомым женщинам, которые в перворазрядных гостиницах, в казино, на пляжах объединяются, точно полипы, в большие колонии и живут общими интересами?»
Мне было приятно даже то, что скучному председателю суда не терпится повидаться со мной; чтобы вообразить в первый же день волны, эти голубые горные цепи моря, его ледники и водометы, его вздымания, его пренебрежительное величие, мне стоило лишь, когда я мыл себе руки, почувствовать в первый раз по прошествии долгого времени специфический запах чересчур душистого мыла, каким мылись в Гранд-отеле, – запах, как будто одновременно пропитавший и настоящий момент, и былые мои дни, проведенные здесь, реявший между ними, как действительно существующее очарование некой особой жизни, к которой возвращаешься, только чтобы переменить галстук. Простыни, чересчур тонкие, чересчур легкие, чересчур широкие, которые невозможно было подоткнуть, удержать, которые все время вздувались вокруг одеяла движущимися завитками, прежде навеяли бы на меня тоску. Теперь они только баюкали на неудобной выгнутой округлости своих парусов яркое, полное надежд солнце моего первого утра. Но утро так и не успело настать. Ночью я снова ощутил присутствие жестокого и сверхъестественного. Я попросил директора уйти и велеть, чтобы ко мне никто не входил. Я сказал, что буду лежать, и отказался от его предложения послать в аптеку за чудодейственным снадобьем. Он очень этому обрадовался – он боялся, что некоторым из живущих в отеле может быть неприятен запах «калипта». Он меня одобрил: «Я с вами единогласен (он хотел сказать: „согласен“), – и посоветовал: – Смотрите не запачкайтесь на дверь, а то я велел замки помазать маслом. Если кто-нибудь из служащих позволит себе постучать к вам в номер, я его как следует отсчитаю! Я не люблю выдворять мои распоряжения (по-видимому, это должно было означать: „я не люблю повторять мои распоряжения“). Вот только если вы захотите для бодрости выпить глоточек старого вина, то у меня внизу вина – хоть пролейся (понятно, „залейся“). Но я не принесу его вам на серебряном блюде, как голову Ионафана[162]162
…на серебряном блюде, как голову Ионафана… – Имеется в виду евангельский эпизод смерти Иоанна Крестителя, выступавшего с обличениями Ирода Антипы, правителя Галилеи, за что последний заточил его в темницу. На пиру Саломея, падчерица Ирода, настолько угождает отчиму своей пляской, что тот обещает выполнить любую ее просьбу. Саломея потребовала доставить ей голову Иоанна на золотом блюде (Мф. 14, 3–11; Мк. 6, 17–28). Персонаж Пруста отождествляет Иоанна Крестителя и Ионафана под влиянием «Иродиады» Флобера.
[Закрыть], и предупреждаю, что это не шато-лафит, но укус (вместо „вкус“) примерно тот же. А на закуску недурно было бы поджарить вам маленькую кабалу – это легкое блюдо». Я от всего отказался; меня только удивило, что он путает кабалу с камбалой, а ведь он, наверно, и счет потерял, сколько раз на своем веку заказывал эту рыбу.
Несмотря на заверения директора, мне все-таки вскоре принесли загнутую визитную карточку от маркизы де Говожо. Приехав повидать меня, почтенная дама осведомилась, здесь ли я остановился, и, узнав, что прибыл я только вчера и что мне нездоровится, не стала просить, чтобы ее пропустили ко мне, а (наверно, подождав около аптеки и галантерейного магазина, пока выездной лакей, спрыгнув с козел, платил по счету или что-нибудь покупал) поехала обратно в Фетерн в старой восьмирессорной коляске, запряженной парой лошадей. Между прочим, стук колес этой великолепной коляски часто слышался на улицах Бальбека и небольших прибрежных селений, расположенных между Бальбеком и Фетерном, и жители любовались ею. Главной целью выездов были все же не остановки у поставщиков. Целью была «чашка чаю» или garden party какого-нибудь худородного дворянина или у буржуа, недостойных такой великой чести. Маркиза, благодаря своему происхождению и богатству стоявшая неизмеримо выше местных захудалых дворян, по своей удивительной доброте и простоте боялась обидеть всякого, кто бы ее ни пригласил, и оттого посещала все светские сборища в своей округе. Разумеется, чем ехать в такую даль, чтобы в маленькой жаркой и душной гостиной слушать чаще всего бездарную певицу, которую ей потом по долгу местной аристократки и известной любительницы музыки придется осыпа́ть преувеличенными похвалами, маркиза де Говожо предпочла бы прокатиться или остаться в дивных садах Фетерна, у подножия которых замирают среди цветов сонные воды заливчика. Но она знала: хозяин дома – кто бы он ни был: дворянин или разночинец из Менвиль-ла-Тентюрьер или же из Шатонкур-л’Оргейе – уже сообщил гостям, что, по всей вероятности, она прибудет. А если бы маркиза де Говожо в этот день выехала, но не присутствовала на вечере, кто-нибудь из гостей, приехавших из поселков, разлегшихся на берегу моря, мог бы услышать стук колес и увидеть коляску маркизы, и тогда маркизе уже нельзя было бы отговориться тем, что ее задержали в Фетерне. Знакомые маркизы де Говожо часто видели, как она едет на концерт в такой дом, где, по их мнению, ей было не место; это, как они считали, небольшое унижение, на которое маркиза шла по безграничной своей доброте, уже не казалось им, однако, унижением, когда приглашали они, – в таких случаях они с лихорадочным нетерпением гадали, приедет она или не приедет на их скромную чашку чаю. Зато какое успокоение после волнений, длившихся несколько дней, наступало, когда, после того как дочь хозяев дома или же любитель, отдыхавший поблизости, что-то пропоет, кто-нибудь из гостей сообщит (то был верный знак, что маркиза прибудет на утренник), что видел лошадей и знаменитую коляску около часовой мастерской или аптеки! Тут маркиза де Говожо (а она в самом деле вскоре появлялась вместе с невесткой и своими гостями, которых она с разрешения хозяев, чрезвычайно охотно это разрешение дававших, привозила с собой) снова озарялась ореолом в глазах хозяев: ведь для них ее приезд, которого они так ждали, являлся той наградой, ради которой они, быть может, главным образом – хотя, конечно, скрывая эту причину – и решили месяц тому назад не жалеть ни усилий, ни расходов для устройства утренника. При виде маркизы, приехавшей к ним на чашку чая, они думали не о том, что маркиза роняет свое достоинство, разъезжая по домам их незнатных соседей, но об ее родовитости, о красоте ее замка, о неучтивости ее невестки, урожденной Легранден, заносчивость которой особенно была заметна при сравнении с чуть-чуть приторной благожелательностью свекрови. Им уже казалось, что они читают в светской хронике «Голуа» заметку, которую они же и состряпали в семейном кругу, при закрытых дверях, об «уголке в Бретани, где умеют веселиться от души», о «сверхизысканном утреннике, окончившемся лишь после того, как гости дали хозяевам слово скоро опять собраться под их кровом». Каждый день они ждали газеты со страхом, что в ней не будет сообщения об их утреннике и что о приезде к ним маркизы де Говожо будут знать только их гости, а не широкая публика. Наконец счастливый день наступал: «В этом году сезон в Бальбеке протекает необыкновенно успешно. В большой моде короткие дневные концерты…» и т. д. Слава богу, фамилия маркизы де Говожо была напечатана без ошибок, названа как будто бы вскользь, но среди первых из указанных лиц. Теперь хозяевам надо было делать вид, будто им неприятна эта шумиха в газетах, потому что она может рассорить их с людьми, которых они не имели возможности пригласить, и они лицемерно задавали себе вопрос при маркизе де Говожо, кто же автор нескромной заметки в газете, однако маркиза, доброжелательная и прекрасно воспитанная дама, успокаивала их: «Я понимаю, что вам это неприятно, а я – я, напротив, очень рада, что все узнают о моем приезде к вам».
На визитной карточке, которую я получил, маркиза де Говожо черкнула мне, что послезавтра у нее утренник. И конечно, еще два дня назад, как ни утомила меня светская жизнь, я был бы счастлив наслаждаться этой жизнью, пересаженной в сады, где благодаря местоположению Фетерна росли на свободе фиговые деревья, пальмы, розы, спускавшиеся к самому морю – морю подчас средиземноморской голубизны и спокойствия, – по которому перед началом увеселения отправлялась на тот берег бухты за важными гостями яхта, служившая потом, когда все были в сборе, столовой с опущенным для защиты от солнца тентом, столовой, куда приносили чай, а вечером отвозившая обратно тех, кто на ней приехал. То была упоительная роскошь, но так дорого стоившая, что отчасти именно для того, чтобы покрыть расходы, коих она требовала, маркиза де Говожо изыскивала различные способы увеличения своих доходов, – так, например, она впервые сдала на лето одно из своих имений, совершенно непохожее на Фетерн: Ла-Распельер. Да, два дня назад каким чудным отдыхом от парижского «высшего круга» показался бы мне такой вот утренник в новой для меня обстановке, съютивший незнакомых мне захудалых дворян! Но теперь мне было совсем не до развлечений. Я написал маркизе де Говожо письмо с извинениями, а за час до этого не пустил к себе Альбертину: горе убило во мне желание – так от сильного жара пропадает аппетит… На другой день должна была приехать моя мать. Я думал, что теперь я до известной степени заслужил право на то, чтобы она была со мной, что теперь она станет мне понятней, оттого что чуждая, унизительная для меня жизнь сменилась наплывом мучительных воспоминаний, терновый венец которых, облегая и мою и ее душу, облагораживал их. Так мне представлялось; на самом деле до настоящего горя, каким было горе моей матери, – горя, которое надолго, а в иных случаях и навсегда буквально вырывает вас из жизни, как только вы потеряли любимого человека, – очень далеко скоротечному горю, которым все-таки потом оказалось мое, – горю запоздалому и скоропреходящему, горю, которое подавляет нас много спустя после происшедшего события, ибо для того, чтобы восчувствовать горе, нам прежде надо осмыслить его; горю, которое постигает многих и всего лишь разновидность которого представляло собою то, что было пыткой сейчас для меня и что возникло под влиянием непрошеных воспоминаний.
Глубина горя моей матери мне открылась – об этом я еще расскажу – впоследствии, но не теперь и не такой, какой я ее себе рисовал. И все-таки, подобно актеру, которому надлежит знать свою роль и задолго до выхода быть на месте, но который является в последнюю секунду и, разок пробежав то, что он должен сейчас произнести, ловко умеет, подавая реплику, это скрыть, чтобы зрителям в голову не пришло, что он опоздал, мое горе, только-только мной овладевшее, помогло мне, когда приехала мать, заговорить с ней так, как будто это уже давнее горе. Моя мать, однако, склонялась к мысли, что всколыхнулось оно (дело было, однако, совсем не в этом), когда я опять увидел те места, где побывал с бабушкой. Тут я в первый раз – потому что хотя мои страдания по сравнению со страданиями моей матери были ничтожны, а все же они открыли мне глаза, – с ужасом представил себе, как она скорбит. В первый раз я уяснил себе, что этот остановившийся, не затуманенный слезою взгляд (именно из-за этого взгляда Франсуаза не очень жалела ее), появившийся у нее после кончины бабушки, приковывала к себе недоступная разуму пропасть между воспоминанием и небытием. И хотя на ней была все та же черная вуаль, – она только приоделась по случаю приезда в новые края, – здесь меня еще сильнее поразила происшедшая в ней перемена. Мало того что она утратила жизнерадостность, – усохнув, превратившись в окаменевший образ мольбы, она словно боялась слишком резким движением, слишком громким звуком голоса оскорбить страдание, ни на миг не разлучавшееся с ней. Но вот что особенно поразило меня: когда она, в пальто с крепом, вошла в мой номер, мне почудилось, – в Париже она на меня такого впечатления не производила, – что передо мною не мать, а бабушка. Как у королей и герцогов после смерти главы семьи его титул переходит к сыну и сын из герцога Орлеанского, принца Тарентского или принца де Лом превращается во французского короля, в герцога де ла Тремуй или в герцога Германтского, так часто по праву наследования иного порядка, имеющему более глубокое основание, мертвый хватает живого, и живой становится его преемником, похожим на него, продолжателем его прерванной жизни. Быть может, большое горе, каким явилась для такой дочери, как моя мама, смерть ее матери, лишь прежде времени разрывает оболочку куколки, ускоряет метаморфозу, а если бы не этот перелом, в силу коего существо, которое мы носим в себе, минует стадии и перескакивает через периоды, то оно все равно появилось бы, но только позднее. Быть может, печаль о той, кого больше нет в живых, обладает особой силой внушения, и эта сила рано или поздно выявляет существовавшие в потенции черты нашего сходства с умершей, а главное, накладывает запрет на наши наиболее ярко выраженные индивидуальные свойства (у моей матери такими свойствами были здравый смысл и унаследованная ею от отца насмешливая жизнерадостность), которые мы не боялись, пока было живо любимое существо, выказывать даже по отношению к нему и которые уравновешивали качества, перешедшие к нам от него. Как только оно умирает, нам становится совестно быть другими, мы восторгаемся только тем, что было в нем, что было и в нас самих, хотя с примесью иных особенностей, и что отныне заполонит нас. Именно в таком смысле (а вовсе не в том неопределенном, неверном смысле, какой обыкновенно в это вкладывается) можно говорить, что смерть не бесполезна, что умерший продолжает на нас воздействовать. Он воздействует на нас даже сильнее, чем живой, так как истинную реальность мы различаем с помощью разума, так как она является точкой приложения для наших умственных усилий, а потому мы действительно знаем лишь то, что вынуждены воссоздавать с помощью мысли, лишь то, что прячет от нас повседневность… Словом, возведя в культ печаль об усопших, мы поклоняемся всему, что они любили. Мать не могла расстаться не только с бабушкиной сумочкой, превратившейся для нее в более драгоценную вещь, чем если бы она была украшена сапфирами и брильянтами, с ее муфтой, со всей одеждой, еще резче подчеркивавшей их внешнее сходство, но даже с томиками писем г-жи де Севинье, которые бабушка всюду брала с собой и которые моя мать не обменяла бы на рукописный экземпляр этих писем. Раньше она подшучивала над бабушкой, которая в каждом письме к ней непременно приводила какую-нибудь фразу г-жи де Севинье или де Босержан. Во всех трех письмах, полученных мною от мамы перед ее приездом в Бальбек, она цитировала г-жу де Севинье, как будто эти три письма не она писала мне, а бабушка – ей. Маме захотелось выйти на набережную, чтобы посмотреть на взморье, о котором бабушка писала ей в каждом письме. Я видел из окна, как, с зонтиком своей матери в руке, вся в черном, она робко, благоговейно ступала по песку, по которому до нее ходил дорогой ей человек, шла как будто на поиски утопленницы, которую волной могло прибить к берегу. Чтобы ей не ужинать одной, я вместе с ней спустился в столовую. Председатель суда и вдова старшины попросили меня представить их ей. Крайне чувствительная ко всему, что относилось к бабушке, она была глубоко тронута тем, что́ сказал ей председатель, и потом всегда вспоминала о нем с благодарностью, а то, что вдова старшины ни единым словом не обмолвилась о покойной, обидело и возмутило ее. На самом деле ни председателю, ни вдове не было никакого дела до бабушки. Хотя у моей матери сложилось совершенно разное отношение к председателю и к вдове, задушевными словами и молчанием оба они, каждый по-своему, выражали наше обычное равнодушие к покойникам. И все-таки я думаю, что моей матери стало особенно тепло на душе от моих слов, так как я бессознательно вложил в них частицу моей скорби. Маму моя скорбь могла только порадовать (несмотря на ее нежную любовь ко мне), как и всё, благодаря чему посмертная жизнь бабушки продолжалась в людских сердцах. На пляже мать проводила время так, как проводила его бабушка, – читала любимые ее книги: «Мемуары» г-жи де Босержан и «Письма» г-жи де Севинье. Она, как и все мы, не выносила, когда г-жу де Севинье называли «остроумной маркизой», а Лафонтена – «добрым малым». Но когда в письмах г-жи де Севинье встречалось обращение: «Дочь моя» – ей слышался голос матери.
Однажды ей не повезло: когда она бродила в окрестностях Бальбека и ей особенно хотелось побыть одной, она встретила даму из Комбре и ее дочерей. Кажется, ее звали г-жа Пуссен. Но мы дали ей прозвище «Ты расскажешь мне об этом во всех подробностях», оттого что, предостерегая дочерей от болезней, какие они могли себе нажить, она всякий раз повторяла одно и то же, – так, например, если дочь терла себе глаз, она говорила: «Смотри, натрешь себе хорошенькое воспаленьице – тогда расскажешь мне об этом во всех подробностях». Маме она еще издали начала отвешивать медленные, скорбные поклоны, но не потому, чтобы она действительно сочувствовала маме, а потому, что так ее в детстве учили кланяться. В Комбре она жила довольно уединенно, в глубине огромного сада, и все ей казалось недостаточно нежным, вот почему она предпочитала употреблять слова и даже собственные имена в ласкательной форме. Она полагала, что название «ложка» для той серебряной вещицы, которой она разливала сиропы, – это название грубое, и говорила: «ложечка»; ей показалось бы оскорбительным для сладостного певца Телемака, если бы она произносила его фамилию твердо: «Фенелон»[163]163
Фенелон, Бертран де, граф (1878–1914) – французский аристократ, потомок писателя-классициста Франсуа Фенелона де Салиньяка (1651–1715), автора знаменитого романа «Приключения Телемака» (1699), один из ближайших друзей Пруста и прототипов Шарля Свана.
[Закрыть], как произносил я – произносил со знанием дела (ведь любимым моим другом был самый умный, добрый, милый человек, которого не могли забыть все, кто только его знал: Бертран де Фенелон), и она всегда выговаривала: «Фенелонь» – ей хотелось смягчить окончание. Зять г-жи Пуссен, человек не с такой нежной душой, фамилию которого я запамятовал, комбрейский нотариус, в один прекрасный день присвоил всю кассу, и по его милости мой дядя, например, лишился довольно крупной суммы. Однако большинство комбрейцев находилось в прекрасных отношениях с другими членами семьи Пуссен, и к охлаждению это не привело – все только жалели г-жу Пуссен. Она никого не принимала, но каждый, кто проходил мимо ее сада, останавливался, чтобы полюбоваться только густою листвой, оттого что ничего другого сквозь нее нельзя было разглядеть. Г-жа Пуссен почти не мешала нам в Бальбеке; я встретил ее только однажды и как раз когда она говорила дочери, кусавшей ногти: «Смотри, будет у тебя хорошенькая ногтоеда – тогда расскажешь мне во всех подробностях».
Пока мама читала на пляже, я оставался в номере. Вспоминал конец жизни бабушки и все с ним связанное, вспоминал входную дверь, остававшуюся отворенной до тех пор, пока не вышла бабушка, собравшаяся вместе со мной на свою последнюю прогулку. По сравнению с этим остальной мир представлялся мне почти призрачным – он был весь отравлен моей душевной болью. Наконец моя мать потребовала, чтобы я вышел погулять. Но на каждом шагу что-то мною забытое во внешнем виде казино, улицы, по которой я в первый вечер, в ожидании бабушки, дошел до памятника Дюге-Труэну[164]164
Дюге-Труэн, Рене (1673–1736) – знаменитый французский корсар, который прославился во время войн Людовика XIV против англичан и голландцев. Он оставил «Мемуары», в которых рассказал о своих подвигах. Его статуя находится в Сен-Мало, где он родился. Пруст мог ее видеть во время путешествия по Бретани, о котором рассказывал своей матери в одном из писем в августе 1904 г.
[Закрыть], меня останавливало, точно ветер, с которым невозможно сладить, и не пускало дальше; чтобы ничего не видеть вокруг себя, я смотрел под ноги. Сделав над собой некоторое усилие, я повернул обратно в отель, в отель, где, сколько бы я ни ждал, – в чем у меня не оставалось никаких сомнений – я теперь бы уже не нашел бабушку, как нашел ее когда-то, в первый вечер по приезде. Я вышел из своего номера в первый раз, поэтому множество слуг, которых я еще не видел, смотрело на меня с любопытством. У самой входной двери молодой посыльный, увидев меня, снял фуражку и сейчас же надел ее. Я решил, что Эме дал ему, как он выражался, «инструкцию» быть со мной почтительным. Но я тут же увидел, что посыльный снял фуражку и при виде другого человека, входившего в отель. Как потом выяснилось, этот молодой человек ничего не умел делать в жизни, кроме как снимать и надевать фуражку, но зато уж это у него выходило отлично. Поняв, что он ни к чему более не способен, а что тут он достиг совершенства, посыльный старался елико возможно чаще это проделывать, чем снискивал безмолвное, ни в чем себя не проявлявшее расположение останавливавшихся в отеле и заслужил большую симпатию швейцара, потому что швейцару вменялось в обязанность нанимать посыльных, но, пока ему не попался этот редкостный экземпляр, всех, кого он подыскивал, приходилось не позже как через неделю увольнять, к великому удивлению Эме. «Ведь от них же ничего не требуется, кроме как быть вежливым, – что ж тут трудного?» – говорил он. Кроме того, директору хотелось, чтобы у посыльных был «предстательный» вид, – очевидно, он путал «предстательный» и «представительный». Вид лужайки за гостиницей изменился: появились клумбы с цветами, экзотическое растение исчезло, исчез и посыльный, который тогда украшал вход в гостиницу гибким стеблем своего стана и необычным цветом волос. Он уехал с польской графиней, взявшей его к себе в секретари, – в данном случае он последовал примеру двух своих старших братьев и сестры-машинистки, которых, пленившись ими, похитили из отеля люди разных национальностей и обоего пола. Остался только младший брат, на которого никто не польстился, потому что он был косой. Когда польская графиня и покровители других его братьев останавливались в бальбекском отеле, он ликовал. Он завидовал братьям, но любил их, и, пока они жили в Бальбеке, он не скупился на изъявления братских чувств. Разве аббатиса Фонтевро[165]165
Аббатиса Фонтевро. – Имеется в виду Мари-Мадлен де Рошешуар (1645–1704), французская аристократка, сестра знаменитой г-жи де Монтеспан, фаворитки Людовика XIV, ставшая аббатисой монастыря Фонтевро в 1670 г., продолжая, однако, принимать самое деятельное участие в светской жизни.
[Закрыть] не покидала монахинь, чтобы воспользоваться гостеприимством Людовика XIV, которое он в это же самое время оказывал другой представительнице рода Мортемар – своей возлюбленной, г-же де Монтеспан? Посыльный жил в Бальбеке первый год; меня он не знал, но слышал, что старшие его товарищи обращаются ко мне: «Господин такой-то», и с первого же раза начал им подражать, получая видимое удовольствие – или оттого, что таким образом он обнаруживает осведомленность о человеке, который, как ему представлялось, пользуется известностью, или от сознания, что он подчиняется определенному правилу, и хотя еще за пять минут до этого он не имел о нем ни малейшего понятия, но соблюдать его он счел для себя необходимым. Я вполне понимал, что на некоторых могли действовать чары этого громадного роскошного отеля. Он возвышался точно театр, и снизу доверху его оживляли многочисленные статисты. Хотя проживавший в отеле представлял собой что-то вроде зрителя, все же он непрерывно принимал участие в представлении, и не так, как в некоторых театрах, где актеры вступают в общение с публикой в зрительном зале, а как если бы жизнь зрителя протекала среди великолепия сцены. В отель возвращался теннисист в белом фланелевом костюме, а на швейцаре, отдававшем ему письма, была синяя ливрея с серебряными галунами.
Если теннисисту не хотелось подниматься по лестнице, он все равно не избегал общения с актерами, так как рядом с ним вырастал столь же нарядно одетый лифтер и пускал в ход машину. На верхних этажах по коридорам неслышно текли ручейки горничных и девушек на посылках, красавиц взморья, похожих на участниц торжеств в честь Афины на фризе, в чьи комнатки любители поухаживать за смазливыми служаночками пробирались хитроумными окольными путями. Внизу преобладали мужчины и превращали отель – это были по большей части совсем еще юные бездельники-служащие – в некую иудейско-христианскую трагедию, которая облеклась в плоть и кровь и разыгрывалась беспрестанно. Вот почему, глядя на них, я вспомнил стихи Расина, но, конечно, не те, что пришли мне на память у принцессы Германтской, когда де Вогубер, беседуя с де Шарлю, смотрел на молодых сотрудников посольства, а другие, на сей раз не из «Эсфири», а из «Гофолии», так как от самого холла, или, как выражались в XVII веке, от самого портика, выстраивалось, преимущественно во время второго завтрака, «цветущее племя»[166]166
…«цветущее племя»… – Выражение из «Эсфири» Расина (11, 8).
[Закрыть] молодых посыльных, похожих на юных израильтян в хорах Расина. Но только я не думаю, чтобы хоть кто-нибудь из них смог ответить даже столь невразумительно, как ответил Иодай на вопрос Гофолии, обращенный к наследнику: «Каков ваш род занятий?»[167]167
«Каков ваш род занятий?» – Здесь и далее цитируется, иногда вольно, «Гофолия» Расина.
[Закрыть], оттого что они ничем не были заняты. В лучшем случае, если б у любого из них спросили, как спрашивала старая царица: «Но этот весь народ, в сем месте заключенный, что делает он здесь?» – мог бы ответить: «Я наблюдаю за торжественными обрядами и содействую их торжественности». Время от времени кто-нибудь из молодых статистов подходил к более значительному лицу, затем юный красавец возвращался в хор, и, если вслед за тем не наступал минутный созерцательный перерыв, все статисты вновь сплетали свои движения, бесцельные, почтительные, показные, каждодневные. «Взращенные вдали от света», удалявшиеся из храма только по «выходным дням», они находились при церкви, как левиты в «Гофолии», и при виде этой «юнцов вернейших рати», игравшей свою роль перед лестницей, устланной дивными коврами, я имел право задать себе вопрос: куда я вхожу – в бальбекский Гранд-отель или же в Храм Соломона?
Я поднялся прямо к себе в номер. Мои мысли все время были теперь связаны с последними днями бабушки, с той душевной пыткой, которая возобновилась во мне с новой силой, потому что я привносил в нее нечто даже более для нас болезненное, чем мучения другого человека: наше безжалостное сострадание; когда мы, как нам кажется, только воссоздаем муки любимого человека, наше сострадание преувеличивает их; но, быть может, оно в большей мере соответствует истине, чем то представление, которое создается об этих муках у тех, кто их терпит и от кого скрыта безрадостность их жизни – безрадостность, которую зато ясно видит сострадание и которая доводит его до отчаяния. Новый порыв моего сострадания оказался бы сильнее мучений бабушки, если б я знал тогда то, что еще долго будет мне неизвестно, – то, что бабушка за день до смерти, на минуту придя в сознание и убедившись, что меня поблизости нет, взяла маму за руку и прильнула к ней воспаленными губами. «Прощай, дочь моя, прощай навсегда», – выговорила она. И быть может, именно от этого воспоминания уже ни на миг потом не отводила взора моя мать. Затем ко мне стали возвращаться более отрадные воспоминания. Она – моя бабушка, я – ее внук. Выражения ее лица как бы написаны на языке, понятном мне одному; она для меня всё, другие люди существуют лишь постольку, поскольку имеют касательство к ней, в зависимости от того, что́ она мне о них скажет; но – увы! – наши взаимоотношения были недолговечны и, значит, случайны. Она уже не знает меня, я никогда больше ее не увижу. Мы не были созданы только друг для друга, она оказалась чужой. Сейчас я рассматривал эту чужую на снимке Сен-Лу. Мама, встретившая Альбертину и растроганная тем, как хорошо говорила Альбертина о бабушке и обо мне, настояла на том, чтобы я с ней повидался. Я назначил ей свидание. Предупредил директора, чтобы он попросил ее подождать в салоне. Он сказал, что знает ее давно, и подруг ее тоже, что знал он их задолго до того, как они «возженали», но что он на них сердит, так как они плохо отзываются об отеле. Стало быть, они девицы не «освещенные», если позволяют себе говорить такие вещи. А может, на них и наврали. Я сразу догадался, что «возженали» директор употребил вместо «возмужали». В ожидании, когда надо будет спуститься к Альбертине, я не отводил глаз, точно от рисунка, который мы так долго разглядываем, что в конце концов перестаем видеть его, от снимка Сен-Лу и вдруг подумал опять: «Это бабушка, а я ее внук» – так утративший память силится вспомнить, как его зовут, так больной замечает, что его личность претерпела изменения. Вошла Франсуа-за, сказала, что Альбертина идет, и, увидев фотографию, заметила: «Бедная барыня! Как живая, даже на щеке родинка; в тот день, когда маркиз ее снимал, она была очень больна: ей два раза делалось дурно. И она мне сказала: «Только смотри, Франсуаза, ничего не говори внуку». И она, бывало, виду не покажет, на людях всегда веселая, а вот если оставалась одна, то, глядишь, иной раз и заскучает. Но это быстро у нее проходило. И вот как-то она мне и говорит: «Если что со мной случится, у него должна остаться моя карточка. Я так ни разу и не снялась». Послала она меня к маркизу и велела передать, что если он ее не снимет, то пусть, мол, ничего вам не говорит, что она его просила. А когда я пришла и сказала, что он может снять, она было расхотела: уж очень она, мол, плохо выглядит. «Пусть уж лучше, – говорит, – совсем никакой карточки не будет». Но ведь она смекалистая была и в конце концов хорошо придумала: надела большую шляпу с загнутыми полями, и в тени ничего не было заметно. Очень она была рада, что снялась, потому как она тогда не надеялась, что живой уедет из Бальбека. Я, бывало, сколько ей твержу: «Барыня! Не надо так говорить, не люблю я, когда вы так говорите», – все-таки засело это у нее в голове. Да ведь и то сказать, бывали дни, когда она ничего в рот не брала. Вот тогда-то она и отсылала вас куда-нибудь подальше ужинать с маркизом. А сама, вместо того чтоб идти в столовую, будто бы книжку читает, но чуть только экипаж маркиза отъезжал, она поднималась к себе и ложилась. Иной раз надумает вызвать вашу матушку, чтоб в последний разок с ней повидаться. Но ведь она ей раньше ни на что не жаловалась и боялась, как бы не напугать: «Нет, Франсуаза, пусть лучше остается при муже». Тут Франсуаза посмотрела на меня и спросила: «Вам что, нездоровится?» Я ответил, что здоров, а она мне на это: «Заболталась я тут с вами. Ваша гостья, поди, уже пришла. Мне надо вниз. Только ей здесь не место. А потом, она ведь непоседа: могла и уйти. Она ждать не любит. Да уж, мадемуазель Альбертина стала теперь важной птицей». – «Ошибаетесь, Франсуаза: это место как раз для нее, может быть, она даже чересчур хороша для него. Но только скажите ей, что сегодня я ее принять не смогу».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































