Текст книги "Беглянка"
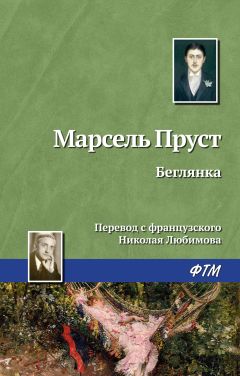
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Если я с утра до вечера не мучился из-за отъезда Альбертины, то это вовсе не значит, что я о ней не думал. Ее очарование все глубже пропитывало внешний мир, и пусть какая-то часть внешнего мира в конце концов уплывала от меня в даль, все же она будила во мне прежнее волнение, и, если что-нибудь наводило меня на мысль об Энкарвиле, или о Вердюренах, или о новой роли Леа, я не знал, куда мне деваться от тоски. То, что я называл мыслями об Альбертине, на самом деле были мыслями о том, как ее догнать, вернуть, узнать, чем она занята. Если бы в течение этих нескончаемых часов самоистязания можно было иллюстрировать его, то на иллюстрациях запечатлелись бы вокзал Орсе, банковские билеты, вручаемые г-же Бонтан, Сен-Лу, отправляющий мне телеграмму, но только не Альбертина. На протяжении всей нашей жизни наш эгоцентризм все время видит перед собой цель, к которой направляется наше я, но не смотрит на само это я, которое не устает эту цель изучать, – вот так и воля, управляющая нашими поступками, опускается до них, но не поднимается до себя, либо, будучи чересчур практичной, требует немедленного проявления себя в действии и пренебрегает знанием, либо устремляется к будущему, пытаясь вознаградить себя за разочарование в настоящем, либо трезвый ум толкает ее не на крутой подъем самоанализа, а на протоптанную дорожку воображения[6]6
Я собирался приобрести одновременно с автомобилем самую красивую по тем временам яхту. Стоила она баснословно дорого, и покупателей на нее не находилось. Кстати: положим, я бы ее купил, так вот, даже если предположить, что мы путешествовали бы не более четырех месяцев в год, содержание яхты обходилось бы мне более чем в двести тысяч франков ежегодно. Это означало бы, что в год мы проживали бы больше полумиллиона. Мог ли я содержать Альбертину долее семи-восьми лет? Но я перед этим не останавливался: когда у меня осталось бы не более пятидесяти тысяч франков ренты, я оставил бы их Альбертине и покончил с собой. Альбертина вынудила меня задуматься над своим «я». Поскольку это «я» живет, вечно о чем-то помышляя, то оно тоже является мыслью – мыслью о том, что его занимает; когда же все прочее случайно выпадет из поля зрения, то оно погружается в думы о себе и видит всего лишь холостой механизм, нечто незнакомое, к чему, для того, чтобы хоть как-то оживить его, оно присоединяет воспоминание о чьем-нибудь лице, которое оно видело в зеркале. Эта странная улыбка, эти неровно подстриженные усы – все это, без сомнения, исчезнет с лица земли. Когда я, через пять лет, покончил бы с собой, я уже не мог бы думать обо всем, что происходило перед моим умственным взором. Я исчез бы с лица земли и никогда не вернулся бы на землю, моя мысль замерла бы навеки. Мое «я» показалось бы мне еще ничтожнее, если б я представил себе, что оно не существует. Разве трудно посвятить той, к кому постоянно стремится наша мысль (той, которую мы любим), другое существо, о котором мы не думаем никогда: нас самих? Мысль о смерти, как познание моего «я», показалась мне необычной, но ничего неприятного для меня в ней не было. И вдруг от нее повеяло ужасной тоской: ведь если у меня не окажется большей суммы, то только потому, что будут еще живы мои родители, и тут я вспомнил о матери. Мысль о том, что моя смерть будет для нее горем, была для меня невыносимо тяжела.
[Закрыть]. В решительные часы, когда мы готовы поставить на карту свою жизнь, нам становится еще нагляднее то огромное место, какое существо, от которого она зависит, занимает в нашей душе, не оставляя в целом мире ничего, что не было бы им перевернуто вверх дном, между тем как образ этого существа уменьшается до размеров микроскопических. Благодаря волнению, которое мы испытываем, мы всюду находим следы его присутствия, а вот его самого – причину волнения – мы не обнаруживаем нигде. В эти дни я был не способен представить себе Альбертину, я был даже близок к тому, чтобы поверить, что не люблю ее, – так моя мать в минуты отчаяния, оттого что она не в состоянии вообразить себя моей бабушкой (за исключением одного случая, во время встречи во сне, который был ей до того отраден, что, не пробуждаясь, она попыталась изо всех остававшихся у нее сил продлить его), могла бы винить себя, – да и винила, – в том, что не жалела мать, смерть которой была ей бесконечно тяжела, но черты которой ускользали из ее памяти.
Почему я должен был верить тому, что Альбертина не любит женщин? Потому что она говорила, – в последнее время особенно часто, – что не любит их. Но разве наша совместная жизнь не была сплошным обманом? Альбертина ни разу меня не спросила: «Почему я не могу выходить из дому, когда захочу? Почему вы спрашиваете у других, чем я занята?» Но ведь наша жизнь была действительно настолько необычна, что Альбертина, – раз она не догадывалась, почему, – вправе была задать мне такие вопросы. А моему умолчанию о причинах заточения разве не соответствовало то, что Альбертина так упорно скрывала от меня свои вечные желания, бесконечные воспоминания, непреходящие мечты и надежды? У Франсуазы был такой вид, словно она понимала, что я лгу, намекая на скорое возвращение Альбертины. Ее убеждение было основано на чем-то большем, чем понимание, коим обычно отличалась наша служанка, полагавшая, что господа не желают быть униженными в глазах своих слуг и посвящают их лишь в то, что всецело не освобождает слуг от соблюдения правил льстивой почтительности. На сей раз ее убеждение как будто зиждилось на чем-то ином, как если бы она пробудила и поддержала в Альбертине мнительность, раскалила в ней злобу, – короче говоря, довела ее до того, что могла бы безошибочно предсказать неизбежность отъезда моей подружки. Если это было так, то придуманная мною версия временного отъезда могла вызвать у Франсуазы только недоумение. Однако мысль, что она теперь зависима от Альбертины, а также преувеличение «выгоды», которую в представлении ненавидевшей Альбертину Франсуазы Альбертина старалась из меня извлечь, могли отчасти поколебать ее уверенность. И когда я намекал, как на вещь вполне естественную, на скорое возвращение Альбертины, Франсуаза смотрела на меня (вот так же инстинктивно и жадно смотрела она на главного повара, который, чтобы ее позлить, читал ей, меняя слова, газету о новой политике, о которой она не знала, достоверно это или нет, например, о закрытии храмов и высылки духовенства, – смотрела, находясь на другом конце кухни и не имея возможности заглянуть в газету), как будто она могла увидеть, вправду это написано на моем лице или я это придумал.
Когда же Франсуаза заметила, что, написав длинное письмо, я начал искать точный адрес г-жи Бонтан, то ее до сих пор смутное опасение, что Альбертина вернется, окрепло. Но она была буквально потрясена, когда на другое утро передала мне письмо и на конверте узнала почерк Альбертины. Она задавала себе вопрос: не был ли отъезд Альбертины просто-напросто комедией? Это предположение огорчало ее вдвойне: во-первых, оно окончательно подтверждало, что Альбертина будет жить у нас, во-вторых, оно унижало меня, хозяина Франсуазы, а стало быть, и ее, тем, что Альбертина сумела так меня провести. Мне не терпелось прочитать письмо, и все-таки я не удержался и посмотрел Франсуазе прямо в глаза: все надежды из них улетучились, что доказывало неизбежность возвращения Альбертины – так любитель зимних видов спорта, глядя на то, как улетают ласточки, с радостью заключает, что скоро завернут холода. Наконец Франсуаза ушла, и, убедившись, что она затворила за собой дверь, я неслышно, чтобы не выдать своего волнения, распечатал письмо:
«Друг мой! Благодарю Вас за все Ваши ласковые слова, я готова исполнить Ваше распоряжение и отменить заказ на роллс, – если только Вы уверены, что у меня есть на это право, – я с Вами согласна. Вы только сообщите мне фамилию Вашего посредника. Вы бы только попались на удочку людям, которым важно одно: продать. Что бы Вы стали делать с автомобилем? Ведь Вы же никуда не выходите. Я глубоко тронута тем, что у Вас осталось приятное воспоминание о нашей последней прогулке. Поверьте, что и я никогда не забуду об этой, вдвойне мрачной прогулке (вдвойне, потому что темнело и потому что мы собирались расстаться) и что она изгладится из моей памяти лишь с наступлением полной темноты».
Я не сомневался, что эта последняя фраза – всего лишь фраза и что Альбертина не могла хранить до смерти столь приятное воспоминание о прогулке, которая безусловно не доставляла ей ни малейшего удовольствия, – ведь ей же не терпелось со мной расстаться. Но я не мог не восхититься талантливостью бальбекской велосипедистки, гольфистки, до знакомства со мной ничего, кроме «Есфири», не читавшей, и не убедиться в том, как я был прав, полагая, что, живя у меня, она стала развитее. Таким образом, в словах, какие я сказал ей в Бальбеке: «Я думаю, что дружба со мной будет вам полезной, потому что я как раз тот человек, который мог бы дать вам то, чего вам не хватает», в надписи на фотографии: «С уверенностью в том, что я ниспослан Вам Провидением», – в этих словах, которые я, сам в них не веря, говорил единственно ради того, чтобы она нашла во встречах со мной пользу для себя и не изнывала от скуки, которой на нее веяло бы от них, – в этих словах тоже заключалась истина. В сущности, я преследовал ту же цель, когда объявлял ей, что не хочу ее видеть из боязни влюбиться: ведь мне казалось, что при частых встречах мое чувство ослабевает, а разлука воспламеняет его; в действительности же частые встречи вызвали у меня тягу к ней неизмеримо более сильную, чем первое время в Бальбеке, так что и эти мои слова тоже оправдались.
Но, собственно говоря, письмо Альбертины ничего не меняло. Она просила меня сообщить фамилию посредника. Надо было выходить из этого положения, ускорить события, и тут мне в голову пришла одна мысль. Я велел немедленно отнести Андре письмо, в котором ставил ее в известность, что Альбертина у тетки, что мне одиноко, что она доставит мне огромное удовольствие, если поживет у меня несколько дней, что я не намерен ничего скрывать и прошу известить об этом Альбертину. Одновременно я написал Альбертине так, словно еще не получал ее письма:
«Друг мой! Простите мне то, что Вы так хорошо поймете; я терпеть не могу утаек и хочу, чтобы Вы были извещены и ею, и мной. Я был счастлив, что Вы рядом со мной, и у меня, образовалась дурная привычка не быть одному. Так как мы решили, что Вы не вернетесь, я подумал, что женщина, которая лучше, чем кто-либо, Вас заменит, потому что не сочтет нужным настаивать, чтобы я изменился, и будет напоминать мне о Вас, это – Андре, и я попросил ее приехать. Не желая требовать от нее поспешного решения, я попросил ее приехать только на несколько дней, однако, между нами говоря, я надеюсь, что это – навсегда. Как по-вашему: я прав? Вы знаете, что ваша бальбекская стайка всегда представляла собой клеточку общественного организма; она оказывала на меня огромное влияние, и я с большим удовольствием однажды к ней присоединился. Вне всякого сомнения, под этим влиянием я нахожусь до сих пор. Коль скоро в силу рокового несходства наших характеров и житейской невзгоды моя милая Альбертина не стала моей женой, я все-таки не теряю надежды, что жена у меня будет – не такая очаровательная, как она, но зато обладающая душевными качествами, благодаря которым, может статься, ее ожидает более счастливая жизнь со мной: это Андре».
Но только я отправил письмо, как ко мне в душу закралось подозрение, когда я прочел строки Альбертины: «Я бы с радостью вернулась, если бы Вы написали мне прямо». Что, если она высказала мне это потому, что я действительно не написал ей прямо? А что, если бы я это сделал, она все равно не вернулась бы, так как была бы довольна, узнав, что Андре – у меня и я женюсь на Андре, лишь бы она, Альбертина, была свободна? Ведь теперь она может вот уже целую неделю предаваться своим порокам, не связанная мерами предосторожности, какие я ежеминутно принимал на протяжении полугода в Париже и в каких теперь не было никакой необходимости, а ведь в течение этой недели она безусловно поступала так, как поступала, преодолевая мои постоянные препятствия. Я говорил себе, что она там, вероятно, злоупотребляет своей свободой, и, конечно, эта мысль не доставляла мне удовольствия, но жизнь Альбертины рисовалась мне в общем виде, без каких-либо особых случаев, с бесчисленным множеством подружек, о существовании которых я мог только догадываться, не останавливая своего умственного взора ни на одной из них и требуя от моего разума чего-то вроде непрерывного движения, отчасти болезненного, и все же то была, – пока я не представил себе точно, кто эта девушка, – боль терпимая. Но она стала мучительной, как только приехал Сен-Лу.
Прежде чем пояснить, отчего его отчет подействовал на меня удручающе, я должен рассказать, что произошло перед самым его приходом и взволновало меня до такой степени, что если и не ослабило болезненного впечатления, произведенного на меня разговором с Сен-Лу, то, по крайней мере, ослабило его значение. А произошло вот что. Сгорая от нетерпения увидеть Сен-Лу, я его поджидал на лестнице (чего не мог бы себе позволить при матери: больше всего на свете она ненавидела именно стояние на лестнице, «переговоров через окно»), как вдруг до меня донеслись слова: «Что? Вы затрудняетесь выставить неприятного вам субъекта? Да это же легче легкого! Стоит, к примеру, спрятать вещи, которые он должен принести; господа торопятся, зовут его, он ничего не находит, теряет голову; разгневанная тетя скажет: «Да что это с ним?» Когда же он явится с опозданием, все на него накинутся, а у него не будет того, что нужно. Можете быть уверены, что на четвертый или пятый раз его уволят, и уж непременно уволят, если вы испачкаете то, что он должен принести чистым; таких подвохов существует великое множество». Я был до того растерян, что потерял дар речи, оттого что эти жестокие макиавеллиевы слова произнес голос Сен-Лу. А я-то всегда считал его таким добрым, таким отзывчивым к горестям ближних, – вот почему его слова произвели на меня такое же впечатление, как если бы он репетировал роль сатаны; но нет, он говорил от своего имени. «Да ведь каждому нужно заработать себе на жизнь», – сказал его собеседник, – по его голосу я узнал одного из выездных лакеев герцогини Германтской. «Плевать вам на него, если только вы останетесь в выигрыше! – с раздражением возразил Сен-Лу. – Кроме того, вам будет доставлять удовольствие смотреть на козла отпущения. Вы можете опрокидывать чернильницы на его ливрею перед самым его выходом во время званого обеда, не давать ему ни минуты покоя, и в конце концов он сообразит, что самое лучшее – подобру-поздорову убраться. Да вам и я помогу, скажу тете, что я вами восхищаюсь: как это у вас хватает терпения служить вместе с таким олухом и неряхой?» Тут показался я, Сен-Лу ко мне подошел, но мое доверие к нему было поколеблено, едва я услышал его слова, не вязавшиеся с моим давно сложившимся представлением о нем. И я спрашивал себя, не сыграл ли тот, кто способен так жестоко поступить с несчастным, роль предателя по отношению ко мне, исполняя поручение к г-же Бонтан? И тогда я перестал смотреть на его неудачу как на доказательство того, что не могу надеяться на успех, если Сен-Лу меня оставит. Но пока он был тут, рядом, я все-таки думал о прежнем Сен-Лу, главным образом – как о моем друге, недавно расставшемся с г-жой Бонтан. Прежде всего он мне сказал: «Ты считаешь, что мне надо было звонить тебе чаще, но мне всякий раз отвечали, что ты занят». Моя душевная мука стала невыносимой, когда он сказал: «Начну с того, на чем я остановился в последней телеграмме. Пройдя что-то вроде гаража, я вошел в дом, прошел длинный коридор, а потом меня ввели в гостиную». Когда я услышал слова: «гараж», «коридор», «гостиная», и даже еще до того, как Сен-Лу их произнес, мое сердце сжалось сильнее, чем если б меня ударило током, потому что сила, делающая гораздо больше витков в секунду вокруг земли, – не электрический ток, а душевная боль. Сколько раз по уходе Сен-Лу я повторил впившиеся в мой слух слова: «гараж», «коридор», «гостиная»! В гараже можно уединиться с подружкой. А кто знает, чем занимается Альбертина, когда тетки нет дома, в гостиной? Мог ли я теперь вообразить дом, где живет Альбертина, без гаража и без гостиной? Нет, я вообще его себе не представлял, а если и представлял, то крайне расплывчато. Впервые я ощутил боль, когда географически определилось местонахождение Альбертины, когда я узнал, что она пребывает не в двух-трех наиболее вероятных местах, а в Турени; это сообщение ее консьержки отметило у меня в сердце, словно на карте, больное место. Когда же я свыкся с мыслью, что Альбертина – в Турени, то дома я себе не представлял; прежде мое воображение не задерживалось на этой ужасной гостиной, гараже, коридоре, зато теперь глазами видевшего их Сен-Лу я видел ясно комнаты, где Альбертина ходит взад и вперед, где она живет, именно эти комнаты, а не бесконечное количество комнат предполагаемых, рушившихся одна за другой. Услышав слова: «гараж», «коридор», «гостиная», я решил, что с моей стороны было бы величайшим безумием оставлять Альбертину на целую неделю в этом проклятом месте, истинное, а не призрачное существование которого только что мне открылось. Увы! Когда Сен-Лу мне еще сказал, что в гостиной он слышал, как в соседней комнате громко пела, Альбертина, я с отчаянием в душе понял, что Альбертина, наконец отделавшись от меня, счастлива! Она вновь обрела свободу. А я-то надеялся, что она придет занять место Андре! Мое страдание вылилось в чувство ненависти к Сен-Лу: «Я же просил тебя скрыть от нее твой приход!» – «А ты думаешь, это так просто? Меня уверили, что ее нет дома. Я отлично понимаю, что ты мной недоволен, – это чувствовалось в твоих телеграммах. Но ты ко мне несправедлив: я сделал все, что мог». Альбертина, выпущенная из клетки, в которой она жила у меня в доме, где она по целым дням не имела права заходить ко мне в комнату, теперь вновь обрела для меня всю свою прелесть, она снова стала той, за которой гонится весь свет, она стала чудесной пташкой первых дней.
«Итак, подведем итоги. Что касается денежного вопроса – не знаю, что тебе и сказать; я разговаривал с дамой, которая показалась мне до того деликатной, что я боялся ее покоробить. Когда я заговорил о деньгах, она не сделала: «Уф!» Немного погодя она мне даже сказала, что была тронута, видя, как мы с ней прекрасно понимаем друг друга. Однако все, что она мне сказала потом, было столь деликатно, столь возвышенно – я просто не мог себе представить, что она имеет в виду деньги, которые я ей предлагал: «Мы с вами так прекрасно друг друга понимаем…», сказать по совести, я был форменным ослом. – «Но она, может быть, не поняла, может быть, не слышала, тебе надо было повторить – ведь именно в этом заключался успех всего предприятия». – «По-твоему, она могла не слышать? Я же с ней говорил, вот как сейчас с тобой, она не глухая, не сумасшедшая». – «И она не высказала никаких соображений?» – «Никаких». – «Тебе надо было повторить». – «Да как же я, по-твоему, заговорил бы об этом снова? Только я вошел и увидел ее, я тут же сказал себе, что ты и сам ошибся, и меня заставляешь допустить огромную ошибку, мне было ужасно трудно предлагать ей деньги. И все-таки, чтобы исполнить твою волю, я их ей предложил, хотя был убежден, что она покажет мне на дверь». – «Да ведь не показала же! Значит, либо она не расслышала и тебе следовало ей повторить, либо вам нужно было продолжить разговор». – «Ты утверждаешь: «Она не расслышала», – потому что ты находишься здесь, а я говорю тебе еще раз: если б ты присутствовал при нашей беседе, ты убедился бы, что не было ни малейшего шума, говорил я громко, она не могла не понять меня». – «Но убеждена ли она по-прежнему, что я всегда хотел жениться на ее племяннице?» – «Нет. Если ты желаешь знать мое мнение, она вообще не верила, что ты намерен жениться. Она мне сказала, что ты сам говорил ее племяннице, что хочешь с ней расстаться. Я даже не знаю, убеждена ли она и сейчас в том, что ты хочешь на ней жениться».
Это меня отчасти успокаивало: значит, я не так уж унижен, значит, меня еще могут любить, значит, я волен сделать решительный шаг. Но я был измучен. «Я огорчен – я вижу, что ты недоволен». – «Да нет же, я тронут, признателен, ты был очень любезен, но мне кажется, что ты мог бы…» – «Я сделал все, что было в моих силах. Никто другой больше бы не сделал, даже не сделал бы столько, сколько я. Обратись к кому-нибудь еще». – «Да нет, конечно, если б я не был в тебе уверен, я бы тебя не посылал, но твоя неудача лишает меня возможности предпринять еще одну попытку». Я упрекал Сен-Лу в том, что он взялся оказать мне услугу – и сплоховал. Уходя от Альбертины, Сен-Лу столкнулся с входившими девицами. Я уже давно подозревал, что в Турени у Альбертины есть знакомые девушки, но тут впервые это причинило мне острую боль. По-видимому, природа действительно наделила наш разум способностью вырабатывать естественное противоядие, уничтожающее наши бесконечные, хотя и безвредные, предположения, но от девиц, с которыми встретился Сен-Лу, у меня защиты не было. Однако не эти ли именно мелочи жизни Альбертины мне хотелось знать? Не я ли, ради того, чтобы все выведать, попросил Сен-Лу, которого вызывал к себе полковник, во что бы то ни стало заехать ко мне? Не я ли жаждал подробностей, или, вернее, мое возжаждавшее страдание, стремившееся усилиться и питаться ими? Еще Сен-Лу мне сказал, что там его ждал потрясающий сюрприз: поблизости он встретил единственное знакомое лицо, напомнившее ему о былом, – бывшую подругу Рахили, миловидную актрисульку, жившую неподалеку на даче. И при одном имени актрисульки я себе сказал: «Возможно, именно она»; этого было достаточно, чтобы я представил себе, как в объятиях незнакомой мне женщины Альбертина улыбается и краснеет от удовольствия. Да если вдуматься, почему бы этого не могло быть? Разве я гнал от себя мысли о женщинах с тех пор, как познакомился с Альбертиной? В тот вечер, когда я впервые оказался у принцессы Германтской, когда я к ней вошел, то разве я не думал о девице, о которой говорил мне Сен-Лу и которая захаживала в дома терпимости и к камеристке баронессы Пютбю? Не из-за этого ли я вернулся в Бальбек? Совсем недавно мне захотелось съездить в Венецию, так почему бы Альбертине не поехать в Турень? Но в глубине души я чувствовал, что не расстанусь с Альбертиной, не поеду в Венецию. И даже в глубине души, твердя себе: «Скоро я ее покину», я чувствовал, что не расстанусь с ней, так же, как сознавал, что писать я больше не буду, что вести нормальный образ жизни не смогу, словом, что я не стану делать все, что я ежедневно давал себе клятву сделать, откладывая дело на завтра. Но, что бы я в глубине души ни чувствовал, я полагал, что лучше всего, если Альбертина будет всегда находиться под угрозой разлуки. И, конечно, благодаря моей проклятой хитрости, мне удавалось уверить Альбертину, что эта угроза над ней висит. Во всяком случае, так дальше продолжаться не могло, мне было слишком тяжело оставлять ее в Турени, с этими девицами, с этой актрисулькой; мне была невыносима мысль об ускользающей от меня жизни. Я буду ждать ответа на мое письмо: если Альбертина предавалась пороку, то, увы! днем больше, днем меньше – это уже не имело значения. (Быть может, я говорил это себе потому, что не привык отдавать себе отчет в каждом мгновении ее жизни, – а единственная ничем не занятая ее минута привела бы меня в состояние, близкое к умопомешательству, – и у моей ревности тоже не существовало временных делений.) Но как только я получу от Альбертины ответ и если она не вернется, я поеду за ней; по ее доброй воле или же силой я вырву ее из рук подружек. Кстати, раз я убедился, что Сен-Лу – человек недоброжелательный, то не лучше ли мне теперь же отправиться туда самому? Кто его знает, не возглавляет ли он заговор, цель которого – разлучить меня с Альбертиной?
Неужели из-за того, что я изменился, неужели из-за того, что я не мог тогда предположить, что естественный ход событий однажды приведет меня к необычайному стечению обстоятельств, я солгал бы ей теперь, если бы написал, как говорил ей в Париже, что желаю, чтобы с ней не произошло несчастного случая? Ах! Если бы с ней произошел несчастный случай, то моя жизнь не была бы отравлена навсегда неутолимой ревностью, я тотчас же вновь обрел бы если и не блаженство, то, по крайней мере, спокойствие благодаря тому, что иссяк бы источник страдания!
Иссяк источник страдания? Да мог ли я в это поверить, поверить, что смерть вычеркивает окружающую действительность, а все прочее оставляет в прежнем состоянии, что она утишает душевную боль у человека, для которого жизнь другого – только причина терзаний, что она утишает боль, хотя ничего не дает взамен? Иссякание страданий! Просматривая в газетах отдел происшествий, я жалел, что мне не хватает смелости сформулировать пожелание, какое сформулировал Сван. Если бы Альбертина стала жертвой несчастного случая, то, останься она жива, у меня был бы предлог поспешить к ней; будь она мертва, я вновь обрел бы, по выражению Свана, свободу жить. Но разве я так думал? Так думал он, этот утонченный ум, полагавший, что прекрасно знает себя. А как плохо мы знаем свои душевные движения! Позднее, если б он был жив, я мог бы ему объяснить, что его пожелание столь же преступно, сколь и нелепо, что гибель любимой женщины ни от чего не освобождает!
…Презрев самолюбие, я послал Альбертине отчаянную телеграмму, в которой просил ее вернуться на любых условиях, приманивая ее тем, что она может делать все, что хочет, и только просил позволения целовать ее три раза в неделю перед сном. А если бы она ответила: «только один раз», я согласился бы и на это.
Альбертина так и не вернулась. Только успел я телеграфировать ей, как получил тоже телеграмму. Это была телеграмма от г-жи Бонтан. Мир не создан раз навсегда для каждого из нас. Он дополняется на протяжении нашей жизни событиями, о которых мы даже не подозреваем. Впечатление, какое произвели на меня первые две строчки полученной телеграммы, иссяканием страданий не назовешь: «Мой бедный друг! Нашей милой Альбертины не стало. Простите меня за ужасное известие, но ведь Вы так ее любили! Она ударилась о дерево, упав с лошади во время прогулки. Все наши попытки оживить ее оказались тщетными. Почему умерла она, а не я!» Нет, не иссякание страдания, а страдание, доселе не ведомое, боль от того, что она не вернется. Но разве я не твердил себе, что она, по всей вероятности, не вернется? Я действительно внушал себе это, но теперь убедился, что ни одной минуты этому не верил. Так как мне необходимо было ее присутствие, ее поцелуи, чтобы переносить боль от подозрений, я со времен Бальбека взял себе за правило всегда быть с ней. Даже когда ей случалось уходить, когда я оставался один, я все еще мысленно целовал ее. И я продолжал мысленно целовать ее, когда она уехала в Турень. Мне не так нужна была ее верность, как ее возвращение. И если мой разум мог беспрепятственно поставить под сомнение возможность ее приезда, зато воображение ни на миг не переставало рисовать мне эту картину. После отъезда Альбертины я, представляя себе, как она меня целует, инстинктивно дотрагивался до горла, до губ, которым теперь не суждено уже ощутить прикосновение губ Альбертины; я проводил по своим губам рукой, как это делала моя мама после кончины бабушки, приговаривая: «Бедный малыш! Бабушка так тебя любила! Она никогда больше тебя не поцелует». Все мое будущее было вырвано из сердца. Мое будущее? А разве мне не случалось подумать иной раз о том, чтобы в будущем жить без Альбертины? Да нет! Значит, я уже давно посвятил ей всю мою жизнь до единого мгновения? Ну конечно! Нерасторжимость моего будущего с ней я так и не научился замечать, и вот только теперь, когда мое будущее было перевернуто вверх дном, я почувствовал, что место, которое оно занимало в моем сердце, пустует. Ко мне вошла Франсуаза – она еще ничего не знала; я злобно крикнул: «В чем дело?» Иной раз произносятся слова как раз о том, что в данную минуту поглощает все наши помыслы, но от них у нас голова идет кругом: «Да что же вы сердитесь? Вам радость. Вот два письма от мадмуазель Альбертины».
Потом я представил себе, что у меня, наверное, были глаза, как у человека, у которого мутится разум. В ту минуту я даже не почувствовал ни радости, ни недоверия. Я был человеком, который видит часть своей комнаты, занятой диваном и гротом. Реальнее этого он ничего не может себе вообразить, и он падает в обморок. Оба письма Альбертины были, вероятно, написаны незадолго до прогулки, во время которой она погибла. Привожу первое:
«Друг мой! Благодарю Вас за доверие, которое Вы мне оказываете, сообщая о своем намерении пригласить к себе Андре. Я убеждена, что она с радостью примет Ваше предложение и надеюсь, что для нее это будет большое счастье. Она – девушка способная, и она сумеет извлечь пользу из жизни с таким человеком, как Вы, и пожать плоды благотворного влияния, какое Вы оказываете на людей. Я считаю, что Вам пришла в голову прекрасная мысль. Этот шаг может иметь положительное значение и для нее, и для Вас; если же у Вас возникнут какие-нибудь шероховатости (а я уверена, что не возникнут), то телеграфируйте мне – я Вам помогу».
Второе письмо было датировано следующим днем. На самом деле Альбертина, должно быть, написала их одно за другим, и первое датировано неверно. Все то время, которое я, доходя до абсурда, провел, пытаясь угадать ее намерения, я представлял себе, как ее тянет ко мне, и все-таки человек незаинтересованный, человек без воображения, ведущий переговоры о заключении мира, торговец, оценивающий выгоду сделки, могли бы распознать их лучше меня. В письме было всего несколько строк:
«Не поздно ли мне к Вам возвращаться? Если Вы еще не написали Андре, согласились ли бы Вы пустить меня к себе? Я безропотно приму Ваше решение. Умоляю Вас незамедлительно дать мне о нем знать. Можете себе представить, с каким нетерпением я его ожидаю! Если Вы меня позовете, я сейчас же сяду в вагон. Искренне Ваша Альбертина».
Чтобы смерть Альбертины прекратила мои мучения, Альбертине надлежало разбиться не только в Турени, но и во мне. Чтобы войти в нас, другое существо должно изменить форму, подчиниться требованиям времени; непременно являясь нам в следующие мгновения, оно должно предстать перед нами только в одном каком-нибудь виде, подарить нам только одно какое-нибудь свое изображение. Несомненно, большая слабость живого существа – являть собою простой набор мгновений, но в то же время и огромная сила; такой набор освобождает от груза памяти, воспоминание о мгновении не осведомлено обо всем, что произошло с тех пор; мгновение, отмеченное памятью, еще длится, еще живет, а вместе с мгновением живет и существо, которое на нем запечатлелось. Такое дробление не только оживляет усопшую – оно ее множит. Чтобы утешиться, мне надо было забыть не одну, а бесчисленное множество Альбертин. Когда мне удалось, утратив ее, развеять свою печаль, мне пришлось проделывать ту же самую внутреннюю работу с другой, с сотней других Альбертин. И тогда моя жизнь совершенно изменилась. Что украшало ее, и не благодаря Альбертине, а при ее жизни, когда я был в одиночестве, это именно воспоминание об определенных мгновениях, постоянное их возрождение. Шум дождя возвращал мне запах сирени в Комбре; игра солнечных лучей на балконе – голубей на Елисейских полях; оглушительный грохот ранним утром – вкус только-только созревших вишен; желание побывать в Бретани или в Венеции – завывание ветра и приближение Пасхи. Наступало лето, дни становились длинными, было жарко. В это время ученики и учителя идут в городские сады, под деревья, готовиться к последним экзаменам, чтобы испить последние капли свежести, которые еще роняет небо, не такое палящее, как днем, но уже безоблачно чистое. Обладая силой воссоздания, равной той, которой я обладал прежде, но которая теперь только мучила меня, я из своей темной комнаты видел, как на улице, в спертом воздухе, заходящее солнце роняет на тянущиеся вверх дома и на церкви рыжевато-молочные блики. И если Франсуаза, вернувшись, нечаянно перемещала складки больших занавесок, я делал усилие, чтобы не крикнуть от боли, причиненной мне прежним солнечным лучом, показавшим красоту нового фасада Бриквиль л'Оргейез, – еще тогда Альбертина сказала: «Он отреставрирован». Не умея объяснить Франсуазе, отчего я вздыхаю, я простонал: «Мне так хочется пить!» Франсуаза выходила, возвращалась, но я отворачивался, придавленный мучительной тяжестью одного из множества незримых воспоминаний, которые поминутно вспыхивали вокруг меня в темноте. Я видел, что Франсуаза принесла сидр и вишни, тот же сидр и те же вишни, которые мальчишка с фермы принес нам в автомобиль в Бальбеке, – тело и кровь Христову, которых я с радостью причастился бы, – принес вместе с полукружием столовых, темных в жаркие дни. Тогда я впервые подумал о ферме Экортов и сказал себе, что в те дни, когда Альбертина говорила мне в Бальбеке, что она занята или должна пойти куда-то с тетей, она могла быть с подружкой на ферме, где, по ее сведениям, я не имел обыкновения появляться и где, если я случайно задерживался у Марии-Антуанетты, я слышал: «Мы сегодня не видели Альбертину», она говорила подружке то же, что и мне, когда мы с ней гуляли вдвоем: «Ему не придет в голову искать нас здесь, нам никто не помешает». Чтобы не видеть больше солнечного луча, я просил Франсуазу как следует задернуть занавески. Но луч, столь же разрушительный, по-прежнему пробивался в мои воспоминания. «Здание мне не нравится, оно отреставрировано, пойдем завтра в Сен-Мартен Одетый, а послезавтра в…» А завтра, послезавтра – это будущее совместной жизни, возможно, до конца наших дней, оно начинается, моя душа устремляется к нему, и вот его уже нет: Альбертина мертва.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































