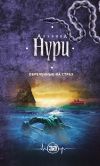Текст книги "Жанна де Ламотт"

Автор книги: Михаил Волконский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
53. Последняя ставка
Саша Николаич был сильно поражен вероломством княгини Марии. Иначе он и не мог назвать ее отношение к нему.
Он, питавший к ней самые нежные и возвышенные чувства, никак не ожидал, что она так жестоко надругается над ним и его чувствами и окажется не только не соответствующей идеалу, которым себе представлял ее Саша Николаич, но, напротив, явилась как бы полной противоположностью этому идеалу.
И всегда, как это бывает, чем больше он был влюблен и отуманен красотой княгини Марии, тем сильнее было его разочарование и тем больше он теперь ненавидел ее.
Теперь, разочаровавшись в княгине Марии, Саша Николаич настолько же преувеличивал и свое разочарование. Его возмутил ее разговор с ним, но он окончательно убедился, как ему казалось, в ее ехидстве и в том, что она – недостойная женщина, после того, как услышал рассказ бывшего графа Савищева о том, подслушанном им разговоре, который состоялся у дука с его женой.
Саша Николаич не мог простить княгине Марии фразу, что она так говорила с ним только ради получения от него денег.
Он сидел у себя в одиночестве, дулся на весь мир и уже готов был проклясть огулом всю человеческую породу.
В течение своего одиночества он видел только одно постороннее лицо – Наденьку Заозерскую, приезжавшую к его матери.
Он должен был признаться сам перед собой, что всегда, во всех случаях жизни, даже в минуты полного отчаяния, которые ему приходилось переживать прежде, Наденька Заозерская всегда производила на него тихое, умиротворяющее впечатление. В ней было что-то до того ласковое, душевное, притягивающее к себе, что у Саши Николаича хотя и не билось сердце сильнее, когда он видел ее, но на душе становилось легче, и он чувствовал себя добрее и лучше. И он всегда так и думал о Наденьке Заозерской и иначе не мог на нее смотреть, и вот только появление княгини Марии внесло полный разлад в его отношения, главным образом, самого с собой.
Теперь Николаич мало-помалу приходил в себя снова и чем больше он думал о Наденьке Заозерской, тем ему становилось легче и тем уравновешеннее он становился сам в своих чувствах.
Чтобы избежать всякого соблазна, он решил, что не станет больше и смотреть на княгиню Марию, и встречаться с нею не станет, и не увидит ее никогда.
Однако только что он решил так, как тотчас же должен был не только увидеть ее, но и говорить с нею.
Княгиня Мария явилась к нему сама. Она пришла под густой, темной вуалью, не назвала лакею своей фамилии для доклада и открыла лицо только тогда, когда осталась наедине с Сашей Николаичем.
Она сильно побледнела и вдруг осунулась и похудела так, что ее щеки ввалились, черные глаза выдались вперед и стали еще больше, но не красивее – покрасневшие веки портили их.
Возле ее глаз Саша Николаич сразу же заметил морщинки, гусиные лапки, на которые прежде, очевидно, внимания не обращал.
Княгиня Мария пришла, откинула вуаль, села и заранее достала платочек, как будто знала, что заплачет.
И это было неприятно Саше Николаичу, который ужасно не любил женских слез.
«Ну, что она может сказать мне?» – грустно, бередя себе душу, думал он. Он словно бы глядел на черепки еще недавно нравившейся ему и дорогой для него вещи. Впрочем, в том-то и была вся суть, что княгиня Мария для него была только вещью, а он, безумец, не понимал этого!
– Я пришла к вам, – заговорила Мария тихим, упавшим голосом, так что трудно было узнать в ней прежнюю гордую и надменную даже княгиню Марию. Она пришла к Саше Николаичу, потому что не видела для себя иного выхода.
То, что произошло в кабинете ее мужа, и чего она стала тайной свидетельницей, открыло ей глаза на ее положение и страшно, сильно подействовало на нее.
Всякая загадочность, которую мы не можем объяснить себе, всякое явление, непонятное для нас непременно внушают нам как бы безотчетный страх перед неизвестным. И, чем невероятнее, непостижимее это непонятное, тем оно сильнее действует для нас.
Княгиня Мария не могла ни вообразить, ни представить себе, каким образом пьяный вечно Орест, которого она и знала-то всегда за пьяного и который смешными выходками выманивал у нее «моравидисы» на водку, каким образом этот Орест был самим дуком дель Асидо, да и такой женщиной как Жанна де Ламотт признан исключительным существом, силу которого они не только признавали, но и готовы были преклоняться перед ней.
Эти два совершенно противоположные представления об Оресте не могли совместиться в разуме княгини Марии, и она мысленно отмахивалась от думы об Оресте как от чего-то страшного.
Другое, более реальное, что узнала она, была несомненность того, что она и ее муж разорены, как сказал дук, и что у него нет средств для того, чтобы продолжать ту жизнь, которой они жили. Ведь дук сам говорил, что его единственная надежда на дело с Николаевым и на молитвенник с указанием на наследство маркизов де Турневиль. Пусть дук теперь говорит, что он еще готов бороться и не сдастся так легко (это Оресту-то, Оресту!), но княгиня Мария знала, что у него нет ни возможности, ни средств для борьбы, что, благодаря «краху в Париже», как он сам сказал, для него все уже потеряно…
А тут еще слова Жанны де Ламотт о том, что он – самозванный дук, что титулы не принадлежат ему; значит, они живут по подложным документам, и это может открыться, и остальные темные и тайные дела, на которые, очевидно, и ходил дук, переодетый стариком.
Для княгини Марии оставалось, по ее расчету, лишь одно: ответить согласием на отвергнутое было ею предложение Саши Николаича повенчаться с нею на том основании, что ее брак с этим дуком был только католический и закреплен гражданским актом во Франции.
Еще недавно Мария отвергла это предложение, потому что не хотела сменить свои титулы на скромную фамилию Николаева. Но теперь вместо этих титулов у нее могло явиться нравственное позорное клеймо, перед которым ничем не запятнанная фамилия Николаева была неизмеримо выше и почетнее.
И вот сама Мария отправилась к Саше Николаичу, вооруженная, как она думала, всеми чарами своей прелести, не подозревая того, что эти чары уже утратили для него всякое очарование.
Заговорив перед Николаевым, она расплакалась (для чего и был заранее приготовлен платок) и довольно связно и даже красиво рассказала о том, что она много-много думала обо всем, сказанном ей Сашей Николаичем, и о том, как глубоко был прав он, а не она.
Мария говорила, по-видимому, так искренне, так хорошо, что могла, вероятно, вот такой задушевностью повлиять и на менее доверчивого человека, чем Саша Николаич.
Только вся ее беда была в том, что она, как говорят, переборщила: слишком уж невинной, слишком непорочной прикинулась она.
Саша Николаич долго слушал княгиню Марию, в душе испытывая неподдельное чувство жалости. Но эта жалость была не к ней, не к самой княгине Марии и не к ее несчастьям, о которых она повествовала, но потому, как это в такой кажущейся прекрасной оболочке, может существовать такая несоответствующая этой оболочке душа!
– Неужели Вы все это искренне говорите, княгиня, – спросил Николаев, когда она, наконец, замолчала.
– Не называйте меня этим титулом – он мне теперь неприятен! – вздохнула Мария. – Разве вы имеете основание подозревать, что я говорю неправду?
Саша Николаич пожал плечами.
– Смотря как и когда!
– То есть, что вы этим хотите сказать?
– Например, правда ли то, когда вы сказали своему мужу после последнего нашего разговора у вас, что вы говорите так со мной только для того, чтобы получить от меня деньги?
Мария знала наверное, что сказала эту фразу с глазу на глаз и теперь до того была удивлена тем, что Саша Николаич говорил, повторив ее дословно, что, широко открыв глаза, подняла на него свой взор и сама не зная как проговорила: – Неужели и это узнал Орест?
Она в последнее время до того привыкла, что все необычайное, касающееся дука и госпожи де Ламотт, относилось к Оресту, что и теперь у нее вырвалось невольное упоминание о нем.
– Да, я узнал об этом через Ореста! – просто ответил Саша Николаич, – потому что так оно и было на самом деле.
Теперь и княгиня Мария испытала над собой силу этого человека, в которую она должна была поверить, даже если и могла сомневаться до сих пор. Она совсем растерялась, точно над ней вдруг раскрылся потолок и этот страшный Орест слетел оттуда и воочию явился перед нею.
Раскинув руки, она беспомощно простонала:
– Как же это так? Опять, значит, он? Везде и всюду – он?!
Саша Николаич приблизился к Марии со стиснутыми руками и со сжатыми зубами, что явилось в нем рефлекторным движением от усилия сдержать в себе вспыхнувшее негодование.
Ведь она даже не отрицала своих слов!
Она всего лишь испугалась, откуда он узнал о них… Что же это за крайняя степень беззастенчивости и предательства!
Мария в это время была совсем подавлена фигурой Ореста, внезапно всплывшей перед ней в неожиданном ореоле.
– Скажите мне! – с расстановкой произнес Саша Николаич, – говорили вы это вашему мужу, или нет?!
Княгиня Мария мгновенно сообразила, что даже если она и станет отрицать, то вездесущий Орест узнает и уличит ее, и потому она, как будто повинуясь не своей воле, а воле вот этого Ореста, произнесла:
– Ну да, говорила!
– Ну так и уходите!.. – Не своим голосом взвизгнул Саша Николаич. – Уходите, уходите! – Повторил он несколько раз и, взявшись за голову, вышел из комнаты.
Княгиня Мария поняла, что Николаев теперь для нее потерян навсегда.
54. Глава, пока еще не совсем понятная
А виновник всех этих смут, передряг, открытий и катастроф Орест Беспалов пропадал в течение трех дней, пропивая «святую сумму…» Он честно заложил в ломбарде медальон невзирая даже на то, что случайно должен был узнать от Жанны, что в этом медальоне был ключ к уразумению молитвенника и, полученные деньги, конечно, пропил.
Анна Петровна в первый день ждала его возвращения, не выказывая нетерпения, сознавая даже, что всякие дела нужно исполнять обстоятельно и что Орест медлит именно потому, что он человек обстоятельный.
На второй день она начала беспокоиться, но не забила тревоги, потому что не знала, может быть, Ореста могло задержать что-нибудь другое… Она только то и дело посылала горничную узнать, возвратился он или нет.
Но когда Орест не явился и на третий день, тогда Анна Петровна испугалась, тем более, что вещь принадлежала не ей, была чужой, и ответственность всецело падала на нее, Анну Петровну. Старушка живо представила себе, как она не сможет найти ничего, что сказать Наденьке в оправдание, и поплакала по этому поводу, а потом посеменила мелкими шажками своей походки к сыну и рассказала ему в чем дело…
Саша Николаич ужасно рассердился.
– И зачем вы, маман, трогаете этого балбеса? – стал он выговаривать ей. – Разве вы не знаете, что это такое?.. Я его держу при себе только потому, что он без меня совсем спился с кругу, а вы ему даете такие поручения!..
– Ах, миленький, – оправдывалась Анна Петровна, – теперь-то я и сама вижу, что месье Орест такой, что ему нельзя поручить ничего. Но я подумала, что это же святая сумма!.. И так убедительно просила его и объяснила, что это именно – святая сумма!
– Ну а он пропил ее!
– В таком случае, нужно его немедленно разыскать и сказать в полицию, чтобы приняли меры…
– Нет, маман, теперь разыскивать Ореста бесполезно, потому что если он не является, то, значит, он в таком виде, что лишен всякого сознания! Он проспится, явится сам, и тогда я все выясню и сделаю! А жаловаться на него тоже нечего, потому что просто не надо было это давать ему!
– Но как же мне, миленький, быть перед Наденькой?
– Вот отвезите ей двадцать рублей и скажите, что это дали за медальон… вероятно, он больше и не стоит.
– Да, он был самый простенький!
– Ну вот и отлично! Скажите, что за него дали двадцать рублей, а потом уж мы разберемся…
А между тем протрезвевший Орест, как и рассчитывал Саша Николаич, явился к нему по собственному пробуждению. Вид у него был необычайно жалкий. Он, видимо, сильно страдал, разумеется, от винного перегара, а не от угрызений совести.
Лицо у Ореста было жалкое, сморщенное, голову он держал набок, руки беспомощно болтались как плети, и в особенности были трогательны непомерно поднятые, ради безукоризненного приличия и поэтому особенно короткие брюки Саши Николаича.
При всяком другом случае Николаев, увидев бы эту фигуру, наверняка расхохотался бы. Но тут он был крайне рассержен, потому что дело касалось не его, а посторонних, да еще не кого-нибудь, а Наденьки Заозерской. И в первый раз за все их долголетние отношения Саша Николаич накинулся на Ореста:
– Послушайте! Ведь это же из рук вон что такое!..
Орест протянул руку наподобие руки у статуи Петра
Великого работы Фальконе и произнес:
– Знаю! Понимаю! Свинство! Сам чувствую больше, чем вы можете выразить это!
Он ударил себя в грудь кулаком и сдвинул картуз на лоб так, что тот ему съехал на самый нос.
– Где квитанция? – сурово спросил Саша Николаич.
Орест, признавший свою вину и потому не ожидавший дальнейших строгостей, сейчас же обиделся на эту суровость. Он одним движением передвинул картуз на затылок, заломил его набок, что означало у него «отношение набекрень», и с гордым великолепием проговорил:
– Прошу вас, сударь, обходиться со мной как с дворянином!
При этом он повернулся и стал удаляться. Эта сцена по обыкновению происходила у окна кабинета Саши Николаича.
– Я говорю вам, чтобы вы немедленно отдали квитанцию! – крикнул вслед Оресту Саша Николаич.
– А я вам заявляю, – обернувшись, произнес тот, – что если встречаю от вас столь невежливый прием вместо утешения по поводу моей подлости, которой я не могу не чувствовать, пропив святую сумму, то я сейчас принесу вам эту сумму целиком и квитанцию, и между нами все будет кончено!
Он сделал новый оборот и удалился, стараясь сделать это наиболее твердым шагом.
Он направился прямо в комнату к французу Тиссонье с печатью необыкновенной мрачности на лице, поздоровался с ним и проговорил замогильным голосом:
– Мой добрый друг, месье Тиссонье, спасите честь Ореста Беспалова с помощью ваших сбережений!
– Вы хотите опять взять у меня денег в долг? – удивился француз.
– Вы проникновенны, как пифия олимпийская! – сказал Орест.
– Но Пифия не называлась олимпийской! Она была в Дельфах! – заметил Тиссонье.
– Наплевать! – заявил Орест. – Мне нужно десять рублей семьдесят три копейки!..
– Такую сумму?!.
– Да, такую сумму! – мрачно произнес Орест, опустил голову, скрестил на груди руки и усы поставил ежом.
– Такую сумму я не смогу вам дать, месье Орест! – заявил Тиссонье.
– Не верите, значит?
– Нет, вы не подумайте…
– А вы знаете, что если я захочу, то могу открыть клад…
– Клад?!.
– М-мда!.. И тогда смогу заплатить не только десять рублей, а десять тысяч, и сделать это я смогу при помощи вашего молитвенника…
– Ах, месье Орест, и до вас уже дошло это!.. В таком случае я должен извиниться перед вами. Конечно, относительно молитвенника, если вы намекаете на него, я немного виноват перед вами и извиняюсь.
Орест думал, что у него еще не совсем прошел хмель, и потому он не понимает, что ему говорит Тиссонье…
На самом же деле, вероятно, и самый трезвый, развитой и умный человек не разобрал бы, в чем смысл того, что сказал Тиссонье, и в чем он, собственно, извиняется, если бы не узнал его дальнейшего рассказа.
55. Что значили слова Тиссонье?
– Видите ли, месье Орест, – продолжал Тиссонье, – дело было так: помните, еще когда вы у меня… так сказать, взяли этот молитвенник, то за него на аукционе давали большую сумму денег, и вы знаете почему?
– Знаю.
– Да, теперь это стало известно. Всю эту историю знает инкогнито проживающий ныне у нас бывший граф Савищев; он рассказал мне об этом.
– И мне тоже, – вставил Орест.
– Ну вот видите, это избавляет меня от необходимости повторять все вновь. Но я-то и раньше знал, в чем дело, только не показывал вида… А я знал, что в молитвеннике подчеркнуты буквы, и чтобы их прочесть, нужен этот медальон… И вот я тоже искал этот медальон, потому что мне это было приказано монсеньором кардиналом Аджиери. Мне было приказано передать молитвенник с объяснением тому или той, у кого будет этот медальон. Мне было известно, что у маркизы де Турневиль, оставившей этот молитвенник, не было потомства, и клад должен был достаться потомкам графа Косунского… Узнав, что в Петербурге есть графиня Лидия Косунская, я, разумеется, поторопился справиться, не родственница ли она маркизы и ее брата и нет ли у нее медальона. Для этого я познакомился в католической церкви по указанию прелата со старой кормилицей графини Лидии, очень милой особой панной Юзефой. Это было почти тотчас же после того, как мы поселились в Петербурге… Вы следите за моим рассказом?
– Слежу, – отозвался Орест.
– Так вот по этой справке у панны Юзефы выяснилось, что ее питомица – вовсе не родня графу Косунскому, брату маркизы де Турневиль, и никакого медальона у нее поэтому быть не может. В недавнее время эта самая панна Юзефа, с которой мы продолжали видеться, сообщила мне, что у нее опять ищут медальон… Тут к нам явился бывший граф Савищев и объяснил, что он под видом господина Люсли покупал тогда на аукционе молитвенник, и что их общество находится под управлением старика, которого они там называют «Белым». У панны Юзефы медальон тоже спрашивал старик, к которому отвез ее познакомившийся с нею также в церкви некий господин Соломбин.
Он выдавал ей старика чуть ли не за святого. Этот же господин Соломбин познакомился в церкви и со мною и стал торговать мой молитвенник… Я, разумеется, не хотел продавать. Соломбин настаивал и все повышал цену. Тогда мне пришло в голову сыграть с этими господами шутку, раз уж я был осведомлен о них через бывшего графа Савищева. Я объяснил панне Юзефе, что этот старик «Белый» вовсе не святой, и она согласилась вместе со мной немножко обмануть его. Мы с нею, то есть, вернее, я один, купили медальон, вставили туда купленную по случаю миниатюру и под нее подложили кусочек пергамента с составленным мною ключом. Тогда я продал за хорошие деньги молитвенник господину Соломбину, а у себя оставил полную запись подчеркнутых букв, то есть на какой странице какая буква подчеркнута. Ведь в этом, наверное, главное. Сам же молитвенник не имеет никакого значения. И я его продал с легкой душой, оставив у себя запись. Но в ключе, составленном мною и проданном Белому панной Юзефой, я дал цифры таких страниц, на которых подчеркнутые буквы составляют фразу:
«ОРЕСТ БЕСПАЛОВ ОДИН ВСЕ ЗНАЕТ И НИЧЕГО ВАМ НЕ СКАЖЕТ.»
– Мне показалось забавным указать ваше имя как человека очень веселого, и я дорого дал бы, чтобы хоть краешком глаза в щелку посмотреть откуда-нибудь, какую рожу скорчил этот Белый, когда дешифровал эту фразу…
Говоря это, Тиссонье не подозревал, разумеется, что то, чего он желал, испытала княгиня Мария, жена дука.
– Та-ак-с! – протянул Орест, но только вы попали, кажется, именно куда следует… Ведь я, действительно, как вы выразились столь картинно, один знаю все это и все, что ли, понимаю… или, вернее, могу понять и все знать. Стоит мне только выкупить заложенный медальон Наденьки Заозерской…
– Медальон Наденьки Заозерской? Этой милой и скромной барышни, которая посещает матушку месье Николя?
– Вот именно…
– Но как к вам попал этот медальон?
– Это я не имею права рассказывать. Но на его крышке вырезаны цифры…
– Да, да, так оно и должно быть…
– Ну вот… я и просил у вас десять рублей семьдесят три копейки, то есть сумму равную той, которая «святая», по мнению почтенной Анны Петровны, потому что она получена за медальон.
– Неужели вы заложили медальон и пропили деньги?
– Вот именно!
– О месье Орест!
– О месье Тиссонье!..
– Когда вы бросите этот пагубный порок?..
– То есть?
– Пить.
– Теперь нельзя, месье Тиссонье.
– Почему же?
– Политика.
– Как политика?
– Так. Водку откуп продает…
– Ну?
– Ну, а откуп платит деньги правительству, значит, потребляя водку, я помогаю правительству в его финансовых операциях.
– Но возвращаясь к медальону, вы мне позволите завтра же выкупить его? Ведь мы, может быть, сравнив его цифры с моими буквами, откроем для этой барышни целое состояние и богатство!.. Ай-ай, месье Орест, как же было можно закладывать такой медальон?!..
– Так ведь если бы я не заложил его, – рассердился вдруг Орест, – и не пропил бы денег, так не пришел бы к вам за десятью рублями семьюдесятью копейками, а без этого ничего бы и не было.
– А ведь это – правда! – сказал француз, как громом пораженный таким рассуждением.