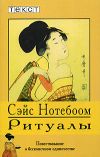Текст книги "Невыносимая легкость бытия"

Автор книги: Милан Кундера
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
28
Тереза сидела, съежившись в уголке купе, тяжелый чемодан был над головой, Каренин жался у ног. Она думала о поваре из ресторана, в котором работала, когда жила с матерью. Он пользовался любым случаем, чтобы шлепнуть ее по заду, и всякий раз на людях предлагал ей с ним переспать. Странно было, что сейчас она думала именно о нем. Он был для нее поистине олицетворением того, что внушало ей омерзение. Но теперь она думала только о том, как найдет его и скажет: «Ты говорил, что хочешь со мной переспать. Вот я».
Она мечтала сделать нечто такое, что перечеркнуло бы дорогу назад. Она мечтала грубо изничтожить прошлое своих последних семи лет. Это было головокружение. Одурманивающая, непреодолимая тяга к падению.
Мы могли бы назвать головокружение опьянением слабостью. Человек осознает свою слабость и старается не противиться, а, напротив, поддаться ей. Опьяненный своей слабостью, он хочет быть еще слабее, он хочет упасть посреди площади, передо всеми, хочет быть внизу и даже ниже, чем внизу.
Она убеждала себя, что не останется в Праге и не будет больше заниматься фотографией. Вернется в маленький город, из которого когда-то позвал ее голос Томаша.
Но, приехав в Прагу, она вынуждена была задержаться там ненадолго, чтобы уладить кой-какие практические дела. Решила помедлить с отъездом.
На пятый день в квартире вдруг появился Томаш. Каренин долго прыгал, стараясь лизнуть его в лицо, и тем самым избавил их на какое-то время от необходимости объясняться. Им казалось, словно они стоят посреди снежной пустыни и дрожат от холода.
Потом они подошли друг к другу, будто любовники, которые до сих пор еще не целовались.
Он спросил:
– Здесь все было в порядке?
– Да, – ответила она.
– Ты была в журнале?
– Я звонила туда.
– Ну и?..
– Ничего. Я ждала.
– Чего?
Она не ответила. Она не могла ему сказать, что ждала его.
29
Мы возвращаемся к минутам, о которых нам уже известно. Томаш был в отчаянии, и у него болел желудок. Уснул он лишь поздно ночью.
Однако вскоре проснулась Тереза. (Русские самолеты кружили над Прагой, и в их гуле нельзя было спать.) Ее первая мысль была: он вернулся ради нее. Ради нее он изменил свою судьбу. Теперь уже не он будет ответствен за нее, теперь она ответственна за него.
Эта ответственность казалась ей непосильной.
Но потом она вдруг вспомнила, что вчера вслед за тем, как он объявился в дверях квартиры, на пражском храме било шесть. Когда они впервые встретились, ее работа тоже кончилась в шесть. Она вышла из гостиницы и увидела его сидевшим напротив, на желтой скамейке, а на башне били колокола.
Нет, это было не суеверием, а чувством красоты, освободившим ее от тоски и наполнившим желанием жить. Птицы случайностей снова слетались ей на плечи. В глазах стояли слезы, и она была невыразимо счастлива, что слышит его дыхание рядом.
Часть третья
Слова непонятые
1
Женева – город фонтанов, водоемов и парков, где когда-то на эстрадах играли оркестры. За деревьями прячется и университетское здание. Закончив утреннюю лекцию, Франц вышел на улицу. Из шлангов струилась на газон вода, и он был в прекрасном настроении: шел к своей возлюбленной. Она жила неподалеку от университета.
Он наведывался к ней часто, но всегда как внимательный друг и никогда как любовник. Если бы он занимался с нею любовью в ее мастерской, то в течение дня ходил бы от одной женщины к другой, от жены к любовнице и обратно, а поскольку в Женеве супруги спят на французский манер, то есть в общей кровати, это значило бы, что в течение немногих часов он перелезал бы из одной кровати в другую и тем самым, ему казалось, унизил бы и любовницу, и жену, а в конечном счете – себя самого.
Его чувство к женщине, в которую он влюбился несколько месяцев назад, было для него такой редкостью, что он стремился создать в своей жизни независимое пространство, неприступную территорию чистоты. Его часто приглашали читать лекции в различных зарубежных университетах, и теперь он с жадностью принимал все предложения. Но поскольку их было все же недостаточно, он придумывал еще и несуществующие конгрессы и симпозиумы, дабы оправдать перед женой свои отлучки. Его любовница, свободно распоряжавшаяся своим временем, сопровождала его. Он дал ей возможность за короткий срок повидать множество европейских и американских городов.
– Через десять дней, если ты не возражаешь, мы можем поехать в Палермо, – сказал он.
– Предпочитаю Женеву, – ответила она. Она стояла у мольберта перед начатой картиной и разглядывала ее.
– Ты можешь жить и не узнать Палермо? – попытался он пошутить.
– Я знаю Палермо, – сказала она.
– Как так? – спросил он не без ревности.
– Моя знакомая прислала мне оттуда открытку. Я прилепила ее скотчем в уборной. Разве ты не заметил?
А потом рассказала ему историю:
– В начале века жил один поэт. Был он очень стар, и секретарь выводил его на прогулку. «Маэстро, – воскликнул тот однажды, – посмотрите вверх! Сегодня над городом пролетает первый аэроплан!» – «Я могу себе это представить», – сказал маэстро своему секретарю и не поднял глаз от земли. Видишь ли, я тоже могу представить Палермо. Там такие же отели и такие же машины, как во всех городах. В моей мастерской, по крайней мере, все время другие картины.
Франц погрустнел. Он настолько привык к сочетанию любовных утех с заграничными путешествиями, что в свое приглашение «поедем в Палермо!» вкладывал недвусмысленное эротическое содержание. Поэтому заявление «предпочитаю Женеву» имело для него лишь один смысл: его любовница уже не жаждет любви с ним.
Возможно ли, что он перед ней так пасует? У него же нет к тому ни малейшего основания! В самом деле, не он, а она была первой, кто вскоре после их знакомства стал движителем их эротической связи; он был красивый мужчина; он был в зените научной карьеры; он внушал даже страх коллегам своим высокомерием и упрямством, которые проявлял в специальных дискуссиях. Так отчего же всякий день он тревожится, что любовница уйдет от него?
Я могу дать этому лишь единственное толкование: любовь для него была не продолжением его общественной жизни, а ее противоположным полюсом. Для него она означала мечту отдаться любимой женщине безоговорочно. Тот, кто сдается на милость другого, как солдат в плен, должен наперед отбросить любое оружие. А если у него нет никакой защиты против удара, ему трудно удержаться хотя бы от того, чтобы не спрашивать, когда обрушится этот удар. Вот почему можно сказать: для Франца любовь означала постоянное ожидание удара.
В то время как он отдавался своей тревоге, его возлюбленная отложила кисть и вышла в соседнюю комнату. Вернулась с бутылкой вина. Без слова открыла ее и наполнила два бокала.
У него свалился камень с души, и он слегка посмеялся над собой. Слова «предпочитаю Женеву» вовсе не значат, что она не хочет близости с ним, а как раз наоборот: ей просто опостылело ограничивать минуты любви чужими городами.
Она подняла бокал и выпила до дна. Франц тоже поднял бокал и выпил. Он, разумеется, был страшно рад, что ее отказ от поездки в Палермо на самом деле оказался призывом к любовному акту, но следом ему и немного взгрустнулось: его возлюбленная решила нарушить монастырский устав чистоты, что он внес в их отношения; она не поняла его томительного стремления защитить их любовь от банальности и решительно отграничить ее от его супружеского очага.
Отказываться от плотской близости с художницей в Женеве было, по сути, наказанием, на которое он обрек себя за то, что был женат на другой женщине. Он воспринимал это как некую вину или порок. И пусть эротика в его супружеской жизни не занимала ровно никакого места, супруги все же спали в одной кровати, пробуждались среди ночи от шумного дыхания лежавшего рядом и вдыхали запахи друг друга. Он, разумеется, предпочел бы спать один, однако общая постель оставалась символом супружества, а символы, как мы знаем, неприкосновенны.
Всякий раз, укладываясь возле супруги в постель, он думал о том, что его любовница в эту минуту представляет себе, как он ложится возле своей супруги в постель; и всякий раз при этой мысли ему становилось стыдно. Вот почему он стремился как можно больше отдалить в пространстве постель, где спал с супругой, от постели, где предавался фривольным утехам с любовницей.
Художница снова налила вина, выпила, а потом молча, с какой-то странной безучастностью, будто Франца вовсе тут не было, стала медленно снимать блузку. Она вела себя точно начинающая актриса, которой задано было показать этюд, убеждающий зрителей, что она одна в комнате и никто не видит ее.
Она осталась только в юбке и бюстгальтере. Затем (словно вдруг заметила, что в комнате она не одна) устремила на Франца долгий взгляд.
Этот взгляд привел его в замешательство; он не понял его. Между всеми любовниками быстро устанавливаются правила игры, которые они не осознают, но действие которых нельзя нарушать. Взгляд, устремленный на него в ту минуту, вырывался из этих правил; он не имел ничего общего со взглядами и движениями, которые обычно предшествовали их любовной близости. В нем не было ни зова, ни кокетства, скорее некий вопрос. Однако Францу было совершенно неясно, о чем же этот взгляд вопрошает.
Потом она сняла юбку. Взяла Франца за руку и повернула его к большому зеркалу, что стояло совсем рядом прислоненным к стене. Она не отпускала его руки и продолжала смотреть в зеркало этим долгим, пытливым взглядом то на себя, то на него.
Близ зеркала на полу стояла подставка, на которую был насажен черный мужской котелок. Она нагнулась к нему и надела на голову. Образ в зеркале мгновенно изменился: в нем теперь отражалась женщина в белье, красивая, недоступная, равнодушная, и на голове у нее был котелок, ужасающе не соответствующий всему ее виду. Она держала за руку мужчину в сером костюме и галстуке.
Он снова улыбнулся тому, насколько он не понимает своей любовницы. Она разделась не для того, чтобы позвать его заняться любовью, а для того, чтобы сыграть какую-то странную шутку, интимный хеппенинг для них двоих. Сейчас он уже понимающе и одобрительно улыбнулся.
Он ждал, что художница ответит на его улыбку улыбкой, но не дождался. Она не отпускала его руки и смотрела в зеркало попеременно то на себя, то на него.
Время хеппенинга перешло всякую грань. Францу показалось, что шутка (хотя он и был готов считать ее очаровательной) слишком затянулась. Он нежно взял котелок двумя пальцами, с улыбкой снял его с головы художницы и положил обратно на подставку. Было так, словно он стер резинкой усы, которые шалунишка пририсовал на иконке Девы Марии.
Еще несколько минут она стояла как вкопанная и смотрела на себя в зеркало. Потом Франц осыпал ее нежными поцелуями и снова попросил поехать с ним на десять дней в Палермо. На этот раз она обещала ему без отговорок, и он ушел.
Франц снова был в отличном настроении. Женева, которую он всю жизнь проклинал как метрополию скуки, представлялась ему теперь прекрасной и полной приключений. Уже на улице он обернулся и взглянул на широкое окно мастерской. Стояла поздняя весна, жара, над всеми окнами были натянуты полосатые тенты. Франц дошел до парка, в дальнем его конце возносились золотые купола православного храма, будто позолоченные пушечные ядра; казалось, невидимая сила задержала их там в миг падения и так и оставила висеть в воздухе.
Красиво было. Франц сошел вниз к набережной, чтобы сесть на городской катер и перебраться на северный берег озера, где он жил.
2
Сабина осталась одна. Все еще полуодетая, она снова подошла к зеркалу. Снова нахлобучила котелок и долго вглядывалась в себя, удивляясь тому, что уже столько лет ее преследует одно утраченное мгновение.
Как-то раз, много лет назад, в ее пражскую мастерскую пришел Томаш, и его внимание привлек котелок. Он надел его и стал смотреть на себя в большое зеркало, что так же, как и здесь, стояло прислоненным к стене. Хотелось знать, как он смотрелся бы на посту мэра в прошлом столетии. Когда Сабина начала медленно раздеваться, он надел котелок ей на голову. Они стояли перед зеркалом (они всегда стояли перед ним, когда она раздевалась) и смотрели на свое отражение. Она была в одном белье, а на голове котелок. И вдруг осознала, что они оба встревожены образом, который видят в зеркале.
Как это могло случиться? Еще минуту назад котелок на ее голове выглядел не более чем шуткой. Неужто и вправду от смешного до тревожного один маленький шаг?
Вероятно. Когда в тот день она смотрела на себя в зеркало, то в первые мгновения не видела ничего, кроме забавного зрелища. Но вслед за тем комическое перекрылось тревожным: котелок означал уже не шутку, а насилие; насилие над Сабиной, над ее женским достоинством. Она видела себя с обнаженными ногами, в тонких трусиках, сквозь которые просвечивал треугольник. Белье подчеркивало очарование ее женственности, а твердый мужской котелок эту женственность отрицал, насиловал, представлял в смешном виде. Томаш стоял возле нее одетым, из чего вытекало: суть того, что они оба видят, вовсе не потеха (тогда бы и ему полагалось быть в одном белье и котелке), а унижение. И вместо того, чтобы унижение это отринуть, она гордо и вызывающе демонстрировала его, словно разрешала добровольно и принародно себя изнасиловать; и вдруг, не выдержав дольше, она увлекла за собой Томаша на пол. Котелок закатился под стол, а они заметались на ковре у самого зеркала.
Вернемся еще раз к котелку.
Во-первых, он был смутным воспоминанием о забытом дедушке, мэре маленького чешского городка в прошлом столетии.
Во-вторых, был памятью об отце. После похорон ее брат прибрал к рукам все имущество, оставшееся от родителей, и она из гордого протеста отказалась отстаивать свои права. Она с сарказмом объявила, что берет себе котелок как единственное оставшееся от отца наследство.
В-третьих, котелок был реквизитом любовных игр с Томашем.
В-четвертых, он был знаком ее оригинальности, которую она сознательно культивировала. Она не могла взять с собой в эмиграцию много вещей, и если взяла этот объемный и непрактичный предмет, значит должна была отказаться от других, более практичных.
В-пятых: за границей котелок стал объектом сентиментальности. Отправившись в Цюрих к Томашу, она взяла с собой котелок и надела его на голову, когда открывала ему дверь гостиничного номера. И случилось то, на что она не рассчитывала: котелок уже не смешил и не тревожил, а стал памятью об ушедшем времени. Они оба были растроганы. Они любили друг друга, как никогда прежде: для фривольных игр не оставалось места, ибо их встреча была не продолжением эротической связи, когда всякий раз они придумывали новые маленькие распутства, а рекапитуляцией времени, песней об их общем прошлом, сентиментальным заключением несентиментальной истории, которая исчезала вдали.
Котелок стал мотивом музыкальной композиции, какой была Сабинина жизнь. Этот мотив вновь и вновь возвращался и всякий раз приобретал иное значение; все эти значения плыли по котелку, как вода по речному руслу. И могу сказать, что это было Гераклитово русло: «В одну реку нельзя войти дважды!»; котелок был корытом, по которому всякий раз для Сабины текла иная река, иная семантическая река: один и тот же предмет всякий раз вызывал к жизни и рождал иное значение, но вместе с этим значением отзывались (как эхо, как шествие эха) все значения прошлые. Каждое новое переживание звучало все более богатым аккордом. Томаш и Сабина были в цюрихской гостинице растроганы видом котелка и любили друг друга, едва ли не обливаясь слезами, ибо этот черный предмет был не только воспоминанием об их фривольных играх, но и памятью о Сабинином отце и дедушке, который жил в столетии без машин и самолетов.
Теперь, пожалуй, мы можем лучше понять пропасть, которая разделяла Сабину и Франца: он жадно слушал историю ее жизни, а она столь же жадно слушала его. Они точно понимали логический смысл произносимых слов, однако не слышали шума семантической реки, что протекала по этим словам.
Поэтому, когда она надела котелок, Франц смешался, словно кто-то обратился к нему на чужом языке. Он не видел в этом никакой пошлости, никакой сентиментальности, это был лишь непонятный жест, который привел его в замешательство из-за отсутствия значения.
Покуда люди еще молоды и музыкальная композиция их жизни звучит всего лишь первыми тактами, они могут писать ее вместе и обмениваться мотивами (так, как Томаш и Сабина обменялись мотивом котелка), но, когда они встречаются в более зрелом возрасте, их музыкальная композиция в основном завершена, и каждое слово, каждый предмет в композиции одного и другого означают нечто различное.
Проследи я за всеми разговорами между Сабиной и Францем, я мог бы составить из их непонимания большой словарь. Удовлетворимся, однако, кратким словарем.
3
Краткий словарь непонятых слов
(Часть первая)
ЖЕНЩИНА
Быть женщиной для Сабины – участь, какой она не выбирала. А то, чего мы не выбираем, нельзя считать ни нашей заслугой, ни нашим невезением. Сабина полагает, что уготованную участь надо принимать с должным смирением. Бунтовать против того, что ты родилась женщиной, так же нелепо, как и кичиться этим.
Однажды, в одну из их первых встреч, Франц сказал ей с особым упором: «Сабина, вы женщина». Она не понимала, почему он сообщает ей об этом с торжественным выражением Христофора Колумба, только что узревшего берег Америки. Только позже она поняла, что слово «женщина», которое он подчеркнул особо, значит для него не определение одного из двух человеческих полов, а достоинство. Не каждая женщина достойна называться женщиной.
Но если Сабина для Франца женщина, что же тогда для него Мари-Клод, его законная жена? Более чем двадцать лет назад, по прошествии нескольких месяцев после их знакомства, она угрожала ему, что покончит с собой, если он покинет ее. Франца эта угроза очаровала. Сама Мари-Клод не так уж ему и нравилась, зато любовь ее представлялась ему восхитительной. Ему казалось, что он недостоин такой большой любви, и чувствовал себя обязанным низко ей поклониться.
Итак, он поклонился Мари-Клод до самой земли и женился на ней. И хотя она больше никогда не проявляла такой интенсивности чувств, как в минуту, когда угрожала ему самоубийством, в нем глубоко засел живой императив: он не имеет права оскорблять ее и должен уважать в ней женщину.
Эта фраза любопытна. Он не сказал себе «уважать Мари-Клод», а сказал «уважать женщину в Мари-Клод».
Но если Мари-Клод и сама женщина, то кто же та, другая, которая прячется в ней и которую он должен уважать? Быть может, это платоновская идея женщины?
Нет. Это его мама. Ему бы и на ум никогда не пришло сказать, что в матери он уважает женщину. Он боготворил свою матушку, а не какую-то женщину внутри ее. Платоновская идея женщины и его мать были одно и то же.
Францу было двенадцать, когда ее внезапно покинул его отец. Мальчик понимал, что случилось непоправимое, но она окутала драму туманными и нежными словами, дабы не волновать его. В тот день они пошли вместе в город, но при выходе из дому Франц заметил на ногах у матери разные туфли. Он растерялся, хотел сказать ей об этом, но испугался, что своим замечанием больно ранит ее. Он провел с нею в городе два часа и все это время не спускал глаз с ее ног. Тогда он впервые стал понимать, что такое страдание.
ВЕРНОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Он любил ее сызмала до той самой минуты, пока не проводил на кладбище, любил ее и в воспоминаниях. Отсюда в нем возникло ощущение, что верность – первая из всех добродетелей; верность дает единство нашей жизни, в противном случае она распалась бы на тысячу минутных впечатлений, как на тысячу черепков.
Франц часто рассказывал Сабине о матери, пожалуй, даже с какой-то подсознательной расчетливостью: он предполагал, что Сабина будет очарована его способностью быть верным и тем скорее он завладеет ею.
Он не знал, что Сабину завораживала не верность, а предательство. Слово «верность» напоминало ей отца, провинциального пуританина, который удовольствия ради по воскресеньям рисовал закаты над лесом и розы в вазе. Благодаря ему она начала рисовать еще ребенком. Когда ей было четырнадцать, она влюбилась в мальчика такого же возраста. Папенька ужаснулся и на целый год запретил ей выходить из дому одной. Однажды он показал ей репродукции нескольких картин Пикассо и посмеялся над ними. Если ей запрещалось любить четырнадцатилетнего одноклассника, то она любила хотя бы кубизм. И после окончания школы уехала в Прагу с радостным чувством, что может наконец предать свой отчий дом.
Предательство. С раннего детства отец и господин учитель говорили нам, что ничего худшего мы даже представить себе не можем. Но что такое предательство? Предательство – это желание нарушить строй. Предательство – это значит нарушить строй и идти в неведомое. Сабина не знает ничего более прекрасного, чем идти в неведомое.
Она училась в Академии художеств, но не имела права писать как Пикассо. Это было время, когда насильственно насаждался так называемый социалистический реализм и в Академии штамповали портреты коммунистических деятелей страны. Ее жажда предать отца так и осталась неутоленной, ибо коммунизм был вторым отцом, столь же строгим и ограниченным, запрещавшим любовь (время было пуританское!) и Пикассо. Она вышла замуж за плохого актера пражского театра лишь потому, что он снискал славу дебошира и обоим отцам представлялся исчадием ада.
Потом умерла мама. На следующий день после возвращения с похорон в Прагу Сабина получила телеграмму: отец с горя покончил с собой.
Ее замучили угрызения совести: что было плохого в том, что отец рисовал вазы с розами и не любил Пикассо? Заслуживал ли такого осуждения его страх, что четырнадцатилетняя дочка придет домой с пузом? Так ли уж было смешно, что он не мог продолжать жить без своей половины?
И снова ею овладела жажда предательства: предать свое собственное предательство. Она сообщила мужу (видя в нем уже не скандалиста, а всего-навсего назойливого выпивоху), что уходит от него.
Но если мы предаем Б, ради которого мы предали А, это вовсе не значит, что мы тем самым умиротворяем А. Жизнь разведенной художницы ничуть не походила на жизнь преданных ею родителей. Первое предательство непоправимо. Оно вызывает цепную реакцию дальнейших предательств, из которых каждое все больше и больше отдаляет нас от точки нашего исходного предательства.
МУЗЫКА
Для Франца это искусство, которое в наибольшей мере приближается к дионисийской красоте, понимаемой как опьянение. Человек не может быть достаточно сильно опьянен романом или картиной, но может опьянеть от бетховенской Девятой, от сонаты для двух фортепиано и ударных Бартока или от пения «Битлз». Франц не делает различия между серьезной музыкой и музыкой развлекательной. Это различие кажется ему старомодным и ханжеским. Он любит рок и Моцарта в одинаковой степени.
Он считает музыку избавительницей: она избавляет его от одиночества, замкнутости, библиотечной пыли, открывает в его теле двери, сквозь которые душа выходит в мир, чтобы брататься с людьми. Он любит танцевать и сожалеет, что Сабина этой страсти не разделяет.
Они сидят вместе в ресторане и ужинают под шумную ритмичную музыку, рвущуюся из динамика.
Сабина говорит:
– Заколдованный круг. Люди глохнут, потому что включают музыку все громче и громче. Но поскольку они глохнут, им ничего не остается, как включать ее на еще большую громкость.
– Ты не любишь музыку? – спрашивает Франц.
– Нет, – говорит Сабина. Затем добавляет: – Возможно, если бы жила в другое время… – И она думает о времени, когда жил Иоганн Себастьян Бах и когда музыка походила на розы, расцветшие на огромной снежной пустыне молчания.
Шум под маской музыки преследует ее с ранней молодости. Ей, как студентке Академии художеств, приходилось все каникулы проводить на так называемых молодежных стройках. Студенты жили в общежитиях и ходили работать на строительство металлургического завода. Музыка гремела из репродукторов с пяти утра до девяти вечера. Ей хотелось плакать, но музыка была веселой, и негде было от нее скрыться – ни в уборной, ни в кровати под одеялом: репродукторы были повсюду. Музыка была точно свора гончих псов, науськанных на нее.
Тогда она думала, что только в коммунистическом мире царствует это варварство музыки. За границей она обнаружила, что превращение музыки в шум – планетарный процесс, которым человечество вступает в историческую фазу тотальной мерзости. Тотальный характер мерзости проявился прежде всего как вездесущность акустической мерзости: машины, мотоциклы, электрогитары, дрели, громкоговорители, сирены. Вездесущность визуальной мерзости вскоре последует.
Они поужинали, поднялись в номер, занялись любовью, а уже потом, на пороге забытья, в голове Франца забродили мысли. Он вспомнил шумную музыку за ужином и подумал: «Шум имеет одно преимущество. В нем пропадают слова». И вдруг осознал, что с молодости, по сути, ничего другого не делает, кроме как говорит, пишет, читает лекции, придумывает фразы, ищет формулировки, исправляет их, и потому слова в конце концов перестают быть точными, их смысл размазывается, теряет содержание, и они, превращаясь в мусор, мякину, пыль, песок, блуждают в мозгу, вызывают головную боль, становятся его бессонницей, его болезнью. И в эти минуты он затосковал, неясно и сильно, по беспредельной музыке, по абсолютному шуму, прекрасному и веселому гаму, который все обоймет, зальет, оглушит и в котором навсегда исчезнет боль, тщета и ничтожность слов. Музыка – это отрицание фраз, музыка – это антислово! Он мечтал оставаться в долгом объятии с Сабиной, молчать, никогда больше не произносить ни единой фразы и дать слиться наслаждению с оргиастическим грохотом музыки. В этом блаженном воображаемом шуме он уснул.
СВЕТ И ТЬМА
Жить для Сабины – значит видеть. Видение ограничено двумя крайностями: сильным слепящим светом и полной тьмой. Тем, возможно, определяется и Сабинина неприязнь к какому-либо экстремизму. Крайности – это границы, за которыми кончается жизнь, и страсть к экстремизму, в искусстве и политике, суть замаскированная жажда смерти.
Слово «свет» вызывает у Франца представление не о пейзаже, на котором покоится мягкое сияние дня, а об источнике света как таковом: о солнце, лампочке, рефлекторе. В памяти Франца всплывают известные метафоры: солнце правды, ослепляющий свет разума и тому подобное.
Равно как свет, привлекает его и тьма. Он знает, что в наше время считается смешным гасить лампу перед тем, как заняться любовью, и поэтому оставляет гореть маленький ночник над постелью. Но в минуту, когда он проникает в Сабину, он закрывает глаза. Блаженство, которое наполняет его, требует тьмы. Эта тьма совершенная, чистая, без образов и видений, эта тьма не имеет конца, не имеет границ, эта тьма – бесконечность, которую каждый из нас носит в себе. (Да, кто ищет бесконечность, пусть закроет глаза!)
В минуту, когда Франц чувствует, как блаженство разливается по его телу, он вытягивается и истаивает в бесконечности своей тьмы, он сам становится бесконечностью. Но чем больше укрепляется мужчина в своей внутренней тьме, тем больше мельчает его внешний облик. Мужчина с закрытыми глазами – лишь обломки мужчины. Вид Франца неприятен Сабине, и она, стараясь не глядеть на него, тоже закрывает глаза. Но эта тьма означает для нее не бесконечность, а простое несогласие с виденным, отрицание виденного, отказ видеть.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?