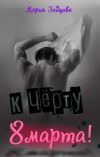Автор книги: Николь Галанина
Жанр: Русское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Смотрите, у меня получилось, у меня получилось!
– Что ты вопишь, мальчик? – пригвоздив его к полу ледяными стрелами равнодушия, протянула мать, даже не поднимая на него глаз. – Неужели твои успехи действительно стоят моего спокойствия и моих нервов?
Госпожа Фолди-старшая, высокая брюнетка с классическими чертами лица, никогда, ни при каких обстоятельствах, не повышала голоса и не морщилась, ведь это губило её красоту. Но, когда ей что-нибудь не нравилось, она могла убить одним взглядом. Эта холодная, бесчувственная дама ни капли не любила своего младшего сына, искусно притворяясь, что не знает, откуда он взялся и какое отношение имеет к ней. Гай не помнил, чтобы она хоть раз похвалила его, хоть раз удостоила нежного прикосновения. В его прошлой жизни госпожа Фолди навсегда осталась символом ледяной, неумолимой, непонятной неприязни.
Вынув тетрадь из рук сына, она на пару мгновений устремила свой взор к пробегающим по бумаге строчкам, фыркнула и… ядовито процедила сквозь зубы:
– Что? Это – твои невероятные достижения, которыми я должна гордиться? Стыдись, Гай! Посмотри только на своих братьев и сестёр: Керин с честью отслужил в Военной академии…
Керин, будто тень зависший над креслом госпожи Фолди, язвительно усмехнулся разочарованному ребёнку.
– Марила, окончив Институт Знати с отличием, выходит замуж за Фелона Фотриа, сына старшей фрейлины Королевы!
Марила со значением приподняла кверху указательный палец, а разгневанная госпожа Фолди продолжила перечислять достижения всех родственников Гая, далёких и близких, всех его предков, пока её память не изменила ей. Однако и того длинного списка, что она огласила в звенящей тишине гостиной наизусть, хватило, чтобы навсегда отбить у него охоту хвастаться своими маленькими победами. Но куда отчётливее череды однообразных унижений запомнились ему слова, которые мать обронила, возвращая тетрадь обратно:
– Гай Перципиус Фолди-младший, неужели ты действительно столь глуп и столь наивен, чтобы верить, что элементарные примеры, которые ты научился решать без ошибок лишь к восьми годам, могут выдержать хоть какое-то сравнение с достижениями твоей семьи? Сначала соверши что-то действительно выдающееся, мальчик, дабы у меня появилась веская причина гордиться тобой.
– Мальчик, ты всего лишь самоуверенный бездарь, – присовокупил отец, – жаль, что твоим глазам ещё не открылась эта простая истина. Пойми же её, наконец, чтобы избежать разочарования в будущем, которое неизменно тебя постигнет.
– Я учту это, господин отец, – тихо ответил Гай.
– Постарайся, – напутствовал его дядя Сильвениций, и неуместный весёлый звон его многочисленных медалей пробежался из одного конца помещения в другой, затерявшись в многочисленных складках длинных траурно-чёрных портьер.
Пристыженный ребёнок, сопровождаемый эхом подавленных ядовитых смешков, грустно поплёлся к выходу из гостиной. Тщательно скрываемые боль и разочарование вдруг оказались слишком сильны для его самообладания, и он, круто повернувшись на пороге, вдруг выкрикнул:
– А вот Марциппа похвалила бы меня! Марциппа не стала бы вести себя так, как вы! Марциппа меня любила, она никогда не называла меня самоуверенным бездарем, потому что это не так!
В одну краткую долю секунды некое волнение пробежало по лицам родственников, и Гай с опозданием понял, что сказал нечто страшное.
Когда Фолди-старший заговорил, его голос дрожал, словно его сыну действительно удалось пробудить в нём что-то большее, нежели гнев или пренебрежение. В этих словах было больше горечи, чем привычной злости.
– Да как ты смеешь напоминать нам о Марциппе, гадкое дитя?
– Да, как он смеет? – поддакнула пятнадцатилетняя сестра Гая, Юлина, прищурив густо подведённые сурьмой глаза. – Давайте посадим его под домашний арест! Как только у него хватает наглости вспоминать о нашей дорогой Марци?
Гай гордо вскинул голову и, закусив губу, упрямо фыркнул. Он же знал, что на самом деле Юлина любила Марциппу не больше, чем жалкую старую тумбочку, выброшенную в кладовку. Юлине совсем не было больно, она только притворялась… как и все вокруг, словно по команде нацепившие скорбные маски.
– Невозможный ребёнок, – вздохнув, изрекла мать. – Он вовсе не тоскует по нашему бедному ангелу.
– Это вы по ней не тоскуете! – в запале выкрикнул Гай. – Вы её вообще никогда не любили!
– Довольно! – рассердившись, громыхнул отец. – Мальчик, немедленно иди к себе наверх, и не смей показываться нам на глаза, пока не поймёшь и не прочувствуешь свою вину!
– Я на твоём месте уже выпорол бы его, Перципиус, – отчётливым шёпотом посоветовал дядя Сильвениций, но отец не прислушался к нему. Равнодушно махнув рукой, он хмыкнул:
– В Военной академии розог ему всыплют немало. Пока пусть сидит в комнате. Это даже лучше: он не будет попадаться нам на глаза.
– Скорее бы уже он уехал служить, – протянула Марила, подкрашивая ресницы вслепую.
Всё это Гай слышал, слышал и с трудом сдерживал желание вновь сказать какую-нибудь дерзость. Не затухающая тоска по Марциппе освежила старую боль, ужас, отголоски которого и по сей день просыпались в его душе, и он, злобно фыркнув, с силой хлопнул дверями. И помчался по сияющим чистотой, просторным и гулким залам, коридорам, пока не споткнулся о нижнюю ступеньку крутой винтовой лестницы и не растянулся на жёстком дереве во весь рост. Вскочив на ноги, он снова кинулся наверх, минуя этажи один за другим. Когда же дверь его комнаты появилась перед ним, он проворнее ласки проскользнул внутрь и сполз по стенке на пол. Наказание, выбранное родственниками, ни капли не смущало его: в это трудное время он даже радовался одиночеству.
В его крошечной обители, отапливаемой хуже, чем нижние этажи особняка, было почти так же холодно, как и на улице, но он не обращал на это внимания. Он привык переносить зимнюю стужу безропотно, как, впрочем, и все другие лишения и невзгоды. Только с одной бедой он никак не мог смириться, одну потерю никак не мог принять.
Подойдя к обледеневшему окну, Гай медленно провёл пальцем по прихотливым пушистым узорам. Сквозь замёрзшее стекло он не мог видеть, что происходит во внутреннем дворе особняка Фолди, на который открывался отличный вид из его комнаты в погожие времена. Когда дожди лили на улице, или зима серебрила землю, его наблюдательный пост затуманивался, и, чтобы выглянуть в мир, приходилось идти на решительные меры. Повозившись со словно приклеившейся к стене рамой, он, наконец, сумел растворить её. Порыв сурового зимнего ветра ворвался к нему в комнату, разворошив драгоценные хрупкие листочки, любовно сложенные им в открытом ящике письменного стола. С пронзительным воплем Гай метнулся к ящику и проворно захлопнул его, защищая своё сокровище. Когда тоскливое завывание разочарованной провалом зимы утихло у него за спиной, и вновь установилась тишина, он рискнул украдкой вытащить пару листков и внимательно вглядеться в них. Это были поурочные записи, которые он вёл в те счастливые времена, когда Марциппа… ещё не умерла.
Воспоминание о Марциппе больно кольнуло ему душу. Он до сих пор не верил, не мог поверить, что её уже нет и никогда больше не будет. Почему так произошло? Почему это произошло именно с нею? Гаю не впервой было сталкиваться с несправедливостью, он даже научился мириться с нею, но это… на эту вопиющую неправильность нельзя было закрывать глаза.
Бережно прижимая к груди листочки, он подошёл к окну и вгляделся вдаль так пристально, что у него заболели глаза. Хотя календарная зима началась всего-то три дня назад, нетронутой чистоты девственное покрывало толщиной в сорок сантиметров успело улечься на все окрестности Столицы, которые Гай только мог увидеть из окна. Белые деревья, согнувшись под тяжестью своего пушистого бремени, клонились к белой земле, белые крыши домов тянулись к белому небу, из белых печных труб вырывался белый дым, и угрожающие белые шпили семейного мавзолея напоминали ему о том, что и он не вечен. Там, в холодной и сырой земляной нише, среди сплетения пыли и паутины, сейчас спала в своём гробу Марциппа… то есть, тело их Марциппы: душа её теперь пребывала в Измерении Мёртвых. Всё, что у них осталось от неё – её тело и воспоминания о ней. Воспоминания, как однажды печально протянула бабушка, поблекнут и сотрутся из их памяти. А тело её съедят червяки и жуки – так Юлина и Керин зловещим шёпотом напели в уши дрожащему Гаю. С тех пор он стал бояться, что тоже когда-нибудь умрёт.
– Марциппа… – тоскливо проговорил он, протягивая руки к шпилям мавзолея. – Почему?..
Ответа не последовало: он уже знал его. И вся страна знала.
В 3023 году, когда Гаю должно было исполниться восемь лет, чума дала народу Авалории первую битву. Народ проиграл её. Проиграл следующую. И ещё несколько следующих. Люди боялись покидать свои дома, словно четыре стены и крыша над головой могли защитить их от опасности заразиться. Трупы умерших лежали нетронутыми в течение нескольких недель – убирать их и не хотели, и боялись одновременно. Врачи, напуганные не меньше своих пациентов, сновали из одной помеченной красным крестом чумной двери в другую с озабоченным и настороженным видом. Разговоры стали тише, цепь стражников, окружавшая королевский дворец – толще. Её Величество Влеона, такая же устрашенная и растерянная, как и её подданные, тем не менее, преодолевала свои чувства, как и полагалось истинной правительнице. Она дни и ночи проводила в больницах, она помогала лекарям-магам смешивать целебные эликсиры, она вселяла в народ уверенность, что эти трудности – временные, и они сумеют преодолеть их.
Но, когда чума подобралась вплотную к королевскому дворцу, силы оставили всех. Гай помнил, как рабы-оборотни крючьями таскали тела из опустевших домов, помнил, как трупы бросали один на другой в закрытую повозку. Помнил, как даже по ночам на улицах не замолкал печальный колокольный плач, помнил, как иногда просыпался из-за душераздирающих воплей осиротевших людей, что теперь в каком-то странном состоянии, похожем на умопомешательство, шатались без страха заразиться. Он помнил, какими подозрительными взглядами обменивались при встрече даже лучшие друзья. Чума могла подстеречь везде – и напасть именно тогда, когда ты не будешь готов к обороне. В это страшное время Гай, Принций, Обсидия и Марциппа прятались вчетвером в его комнате, крепко-крепко заперев двери и окна.
– Когда это кончится? – с тоскливой болью спросил Гай, хватая сестру за руку.
– Скоро, скоро, – пообещала она, и вымученная улыбка тронула её побледневшее и осунувшееся лицо.
– Мне страшно, Гай, – всхлипнув, пожаловалась Обсидия и ткнулась носом ему в плечо. – А вдруг я тоже заболею?
– Не ной, – попытался ободрить её Принций. – Вот увидишь, совсем скоро всё будет хорошо!
– Я не верю, Принций, – прошептала Обсидия. – Ты же знаешь, чума теперь всегда будет тут… Она спрячется за изголовьем моей кровати!
– Не надо паниковать, – шепнула Марциппа. – Мы же дома, мы же в безопасности…
– Это вы в безопасности, – угрюмо буркнул Принций: пусть он и пытался казаться бесстрашным, призрак чумы тоже пугал его. – А вот нам с Обсидией придётся возвращаться домой вечером, по этим тёмным, заваленным трупами улицам…
Обсидия дёрнулась и крепко схватила друзей за руки. Её глаза вновь переполнились слезами, и Принций, чтобы не спровоцировать у неё нервный срыв, прикусил язык и придвинулся к Марциппе ближе.
– А почему мы прячемся? – вдруг спросил он, распахнув глаза.
– Кажется, так безопаснее, – протянул озадаченный его вопросом Гай. – Я начинаю думать, что мы играем с чумой в прятки, и она ищет нас. Но мы прячемся так хорошо, что она никогда нас не найдёт.
– Хоть бы… – боязливо протянула Обсидия. – Хоть бы ты был прав!
Вдруг снизу послышался грубый окрик Керина:
– Марциппа! Марциппа! Сходи домой к тётушке Сальве, проверь, жива ли она: мы не видели её уже две недели!
С сожалением улыбнувшись, Марциппа поднялась с пола и шепнула прижавшимся друг к другу ребятам:
– Я скоро вернусь. – И, обращаясь уже к бегающему внизу Керину, крикнула: – Да, брат! Я иду!
– Пообещай, что вернёшься! – попросил Гай, протягивая к ней руки.
Стоя на пороге, Марциппа одарила его грустной улыбкой. Хотя она давала обещание в надежде исполнить его, он видел, что сердце шепотом подаёт ей сигнал тревоги. И почему оно не закричало тогда, почему она не осталась дома? От чумы можно было спрятаться!
Но от многочисленных мародёров, наводнивших укрытые сумраком улицы Столицы – нет. Повальная эпидемия чумы выгоняла людей из домов, обнажая скрытые в их душах тёмные наклонности. Те, кто ещё вчера мирно трудился на своём рабочем месте, сегодня превращались в озлобленных хищников, преступников, жадных до добычи стервятников. Стоило сгуститься мраку, как они, вооружившись кинжалами и самодельными дубинками, затаивались в подворотнях, в тени мостов в ожидании добычи. Много людей погибло от их рук. И в их числе оказалась Марциппа…
Как объясняли семье Фолди дежурные стражники, принесшие домой её тело, они обнаружили преступника тогда, когда всё уже было кончено. Гай помнил, как его родители пошатнулись и побледнели, помнил, как ошарашенно вытаращил глаза Керин. Помнил, как издалека, свой собственный дикий крик: «Марциппа!»
У неё не оказалось при себе денег, на которые так рассчитывали её убийцы. Но все её драгоценности исчезли, нарядные оборки с платья были сорваны, дорогие заколки – грубо выдернуты из волос. Гай никак не мог забыть, как глядел на мертвое недвижимое тело Марциппы, лежащее на траурном куске чёрного полотна. Помнил, как в неверии дотрагивался до её испорченной причёски, заглядывал в широко распахнутые в предсмертном ужасе глаза в надежде, что это – лишь мираж, и сейчас она встанет – живая и здоровая, как ни в чём не бывало. Но Марциппа не могла ожить, и об этом красноречиво свидетельствовала глубокая рана у неё на груди, чуть ниже сердца. Стражники сказали, что она погибла мгновенно, что ей не пришлось мучиться. Кажется, они думали, что эти слова могут утешить семью! Напротив, щемящая тоска лишь усилилась – по крайней мере, так произошло с Гаем. Хотя он видел, как четыре его оставшиеся сестрицы с воплями и слезами бросаются на тело Марциппы, заламывая руки, он не верил в их показные эмоции. Он знал, что на самом-то деле бедная девочка была дорога ему одному.
До самого позднего вечера двери особняка Фолди открывались лицемерным плакальщикам и плакальщицам, которых вовсе не тронуло известие о гибели Марциппы. Гай – единственный, кто скорбел искренне, – сидел тихо-тихо в своей комнате с Обсидией и Принцием вместе. В комнату, где лежало тело Марциппы, его больше не допускали. И это казалось ему неправильным: почему те люди, которые никогда не любили его сестру, имели право сидеть у её смертного ложа на протяжении целого вечера и целой ночи, а он, единственный, привязанный к ней, не может приблизиться к запертым дверям? Поначалу Гай не обращал внимания на эту явную несправедливость – он ещё не мог поверить, что Марциппа действительно погибла. Когда же первый шок прошёл, на смену ему заступила неконтролируемая злоба по отношению… к кому? К жестоким разбойникам, к лицемерам-родственникам, к самой безжалостной Магии. Обсидия и Принций не могли успокоить его. Озлобленный Гай метался из одного угла комнаты в другой, топая ногами и выкрикивая нечто нечленораздельное, а потом, когда силы оставили его, упал на кровать и о чём-то задумался. Когда он поднялся, его голос уже не дрожал, и лицо застыло. Печатая шаг, как дядя Сильвениций, он спустился вниз, в гостиную, где собирались скорбящие, подошёл к отцу и громко сказал:
– Я хочу присутствовать на казни преступников, господин. Пусть они умрут в адских муках!
– Что? – Перципиус Фолди даже поперхнулся отголосками своей скорбной речи, которую он сейчас произносил перед собравшимися вокруг гостями. – О чём ты, мальчик?
– Я требую, чтобы Вы заставили королевских палачей казнить этих мерзавцев медленно и мучительно! – заявил Гай, упрямо вскинув голову.
– Мальчик говорит дельные вещи, – заметил дядя Сильвениций, – выходит, он не совсем болван.
– Он придёт на казнь вместе с нами, – припечатал отец. – И, поверь, мальчик, – произнёс он, обращаясь к Гаю, – преступники будут мучаться так, что праздные зеваки пожалеют их!
– Я смиренно благодарю Вас, отец, – поклонившись, ответил он и всё так же размеренно, медленно вышел из комнаты.
Он не отвечал на расспросы Обсидии и Принция, не реагировал на страшилки, которые журчащим шёпотом напевали ему в уши Юлина и Керин. Он не мог обращать на это внимания: все его мысли были заняты Марциппой. И той жуткой казнью, которой подвергнутся её убийцы! Стиснув кулаки до боли в костяшках пальцев, Гай поклялся тогда, глядя в чёрное звёздное небо, что он не оставит сестру не отмщенной, даже если ему придётся самому занять место палача.
Занимать место палача ему не пришлось: тот, как и было положено, явился на казнь. Из-за эпидемии чумы народу на центральной площади Столицы, где была установлена Высокая Виселица, собралось намного меньше, чем обычно. Однако, несмотря на это, на скамьях для знати и богатых простолюдинов не осталось свободного места. Использовав всё своё влияние, господа Фолди сумели уговорить Королеву Влеону казнить убийц Марциппы со всей жестокостью. Этих в прошлом обычных рабочих, превратившихся в чудовищ под влиянием анархической обстановки на улицах, должны были подвергнуть пытке удушением, их должны были жечь огнём, вливать кипящее масло в глубокие надрезы у них на коже, отрубать им руки и ноги, ломать им кости. А под финал всего этого жуткого, кровавого зрелища на лбу им поставят горящее клеймо «ЗВЕРЬ», вырежут язык и подвесят высоко-высоко на виселице, чтобы всем было видно, какое бесчеловечное наказание ожидает всякого убийцу. Конечно, столь захватывающая программа увлекла большинство жителей Столицы на площадь, и они, шушукаясь и подталкивая соседей локтями, устремили взоры на осуждённых, входящих на помост.
Гай уже много раз бывал на казнях: в те времена в Империи устрашающее наказание превращали в красочный праздник. Неудивительно, что люди быстро тупели и развращались. Семилетний ребёнок не видел в мучительной смерти ничего ужасного: привыкнув к ней, он не находил её ни пугающей, ни, напротив, весёлой. Но эта казнь навеки врезалась ему в память. В тот тёплый летний день на трибунах было душно от большого скопления людских тел, шумно от звуков, производимых ими, и радостно… оттого, что возмездие настигало преступников. Когда осуждённые под громкий свист толпы показались на грубом деревянном помосте, Гай подскочил на скамье и оглушительно закричал: «Так вам и надо! Умрите, умрите, подлые плебейские твари!» И, казалось, что кто-то из рабочих услышал его и обратил к нему грубое, загорелое дочерна лицо с потухшими глазами, словно шурупы ввинченными в череп. Но Гай не увидел в этих глазах страдания, гложущего чувства вины за своё преступление (или он не захотел увидеть?). И ему ещё сильнее захотелось, чтобы эти люди наконец-то умерли. Он радостно закричал вместе с падкой на кровавые зрелища чернью, когда палач, высоченный здоровяк с остро отточенным топором в руках – легко взбежал на возвышение по пружинисто подпрыгивающим деревянным ступеням. Переведя взгляд на очистившееся небо, где ярко светило жёлтое, будто огромный лимон, солнце, Гай шепнул:
– Ты можешь спать спокойно, Марциппа!
Но её лицо, на мгновение проглянувшее среди безбрежной синевы, казалось опечаленным, словно его поступок её опечалил. Впрочем, Гай обратил на это внимание только несколько лет спустя, когда вновь воскресил этот образ в своей памяти. А тогда его обуревала жажда мести, и он придал лицу сестры то выражение, которое желал увидеть. Она, заметив это, горестно улыбнулась, махнула ему рукой и растаяла в сплетении приплывших, как лодки, белоснежных пухлых облаков. Больше он не увидел Марциппу ни разу в жизни. Теперь его взору открывалось лишь синее-синее небо и зловещие чёрные контуры Высокой Виселицы, сразу бросавшиеся в глаза. Четыре длинные, тонкие, по-змеиному изогнувшиеся верёвки свисали к помосту, четыре петли слабо покачивались от игры шаловливого ветра. Здесь вполне хватало места для троицы злоумышленников, согбенных, как старые деревья, в своих тяжёлых позорных кандалах. И, возможно, в иные времена эта поза искреннего страдания разжалобила бы Гая, потрясла бы его детскую душу. Но не теперь. С мрачным удовлетворением поджав губы, он следил, как убийц подвергают оговорённым в афише пыткам, следил и даже иногда разражался радостным криком. Потоки крови, струящиеся по эшафоту, и вороны, что со свистом рассекали воздух крыльями в стремлении очутиться как можно ближе к своей будущей добыче, уже не могли напугать его. Его уверенность в том, что так должно быть, не пошатнулась ни на миг. Мстительное торжество, прежде неведомое ему, охватило его душу. И тогда, когда все пытки остались позади, а двое убийц, не выдержав их, отправились во Второе Измерение Мёртвых, беспомощные тела подтащили к виселице, обмотали их шеи тугими верёвками. И под вопли толпы начали тянуть их вверх, вверх, вверх. Единственный живой преступник мучительно извивался своим искалеченным телом, судорожно хрипя, лицо его наливалось сиреневым цветом, а зеваки дружно и беспощадно скандировали в один голос:
– Раз… два… три…
Простые люди привыкли исчислять предсмертные секунды задыхающихся на виселице осуждённых. Хотя Гаю тоже захотелось посчитать вместе с простолюдинами, он в приливе гордого сознания своего благородства отказался от этого желания. Он лишь чуть слышно мстительно рассмеялся, когда последний преступник прекратил брыкаться, и три повешенных тела зловеще закачались над помостом в гробовой тишине. Тишину эту нарушило только карканье ворон да скрип деревянных балок.
«Ты отомщена, Марциппа», – удовлетворённо подумал Гай, поднимаясь со скамьи следом за родственниками.
* * *
С тех пор минуло два года, но лёдяная перегородка, установившаяся между старшими Фолди и их четвёртым сыном, не растаяла. В хмуром напряжении пролетело время, и вот уже на отрывном календаре в его комнате появилась пугающая и вместе с тем ожидаемая дата: «12 Сатарра». Этой осенью ему исполнялось десять, и это значило, что теперь он уедет учиться в Военную Академию, как и Принций. Как и Керин, и отец, и дядя Сильвениций, и многие поколения его семьи до него. А назад домой он уже не вернётся: Гай решил, что по достижении совершеннолетия – шестнадцати лет – ему нечего будет делать здесь. И всё же он обошёл каждую комнату, осмотрел каждый уголок в саду. В этом суровом и холодном поместье, крыша которого вовсе не чудилась ему родной, прошло его детство. Здесь была похоронена его любимая сестра… И ему совсем не хотелось расставаться с нею навсегда.
Прошлое нужно оставлять в прошлом: мучительные воспоминания лишь отравят и затуманят настоящее. Поэтому Гай собрал всю волю в кулак, и, прижавшись на секунду щекой к холодному белому мрамору семейного мавзолея, шепнул спящей глубоко-глубоко под землёй Марциппе, зная, что она всё равно его не услышит:
– Я ухожу… Навсегда. Прощай.
Ему показалось, или молчаливое одобрение её витающего где-то вдали духа согрело его? Или это лишь на минуту выглянувшее из-за свинцово-тёмных туч солнце обласкало его своими косыми неверными лучами? Впрочем, уже совсем не важно. Главное, что он был уверен в своих силах. Был готов идти до конца в своих начинаниях, какими дерзкими они ни были бы и к какому финалу ни привели бы.
Вдали, у главных ворот особняка, послышался сухой шорох: это к ним подкатила повозка академии. Парадные двери гулко хлопнули, и чьи-то быстрые голоса неразличимо обменялись приветствиями и светскими любезностями. От неожиданно резкого окрика дяди Сильвениция Гай вздрогнул так, будто его ударили хлыстом:
– Мальчик! Мальчик!
Но он не двинулся с места: другой голос, который ему хотелось слышать, шелестел из-за высокой чугунной ограды:
– Гай! Гай!
Он обернулся. Обсидия, с покрасневшим и распухшим от слёз лицом, стояла на грязной осенней улице, и суровый ветер шевелил складки её тёмного бархатного платья. Она просунула руку сквозь ограду и тепло сжала его ладонь на одно краткое мгновение.
– Я буду скучать, – прерывисто шепнула она. – Шесть лет без тебя… и без Принция!
– Не надо, – попросил он, потянувшись подруге навстречу.
Он хотел бы обнять её перед долгой разлукой, но холодные частые прутья чугуна остановили его. Крики дяди Сильвениция, разносившиеся позади, не касались слуха Гая, будто бы никого больше, кроме него и Обсидии, не существовало на этом свете.
– Я буду плакать, – капризно протянула она. – Долго, долго, долго, долго, пока вы не вернётесь! Ну что я буду делать, как я буду жить без вас?
Эти слова настолько тронули Гая, что он сам едва не расплакался, сдержавшись лишь в последний момент, когда слёзы уже прикоснулись к его глазам.
– Проживёшь без нас, – неестественно широко улыбнувшись, пробормотал он. – Обсидия, не так же долго…
– Шесть лет! – с болью повторила она. – Шесть лет! Ах, почему, почему я не могу превратиться в мальчика и тоже уехать в Академию? Я не знаю, дождусь ли вас…
– Обсидия, не говори глупостей! – вскрикнул Гай. Он сам не мог понять, почему же эти слова так напугали его. – Обсидия, мы вернёмся!
– Но вы вернётесь уже совсем другими, – печально протянула она, пряча глаза. – Вы уже будете совершеннолетними, и я тоже. Вдруг меня выдадут замуж?
– Не выдадут, успокойся, – тихо проговорил Гай. – Мы с Принцием не позволим! Приедем и сами на тебе женимся!
Судя по смешку, которым подавилась покрасневшая Обсидия, сейчас он снова сказал какую-то несусветную глупость. Проведя носком туфли по густой коричневой грязи, она вдруг с затаённым лукавством спросила:
– Что, оба сразу? Так нельзя.
– Нет, не оба… Кто-то один… – забормотал растерявшийся Гай. – Наверное… я…я не знаю, кто именно, но замуж мы тебя не отдадим!
– Я не сомневалась, – широко улыбнулась Обсидия, украдкой вытирая слёзы рукавом.
Больше он не мог выносить это терзающее душу зрелище, безучастным наблюдателем стоя за чугунной перегородкой. Он ловко, как кошка, взгромоздился на острые треугольные шпили, и, перевалившись через них, спрыгнул на мокрую, вязкую землю рядом с Обсидией.
Зная друг друга с младенчества, они не нуждались в словах. Гай глубоко вздохнул и молча обнял её – крепко-крепко, как будто им не было суждено увидеться вновь. Обсидия опустила голову, втайне от него рыдая самыми горькими своими слёзами.
– Прощай… – проронила она.
– Прощай, – эхом откликнулся Гай.
И так тихо, неподвижно, будто две статуи, они стояли посреди пустующей широкой улицы. Изредка мимо проезжали экипажи более знатных, чем они, особ, и грязевые волны, мчащиеся из-под гигантских скрипучих колёс, окатывали их с головы до ног. Дождь печально плакал, и его колючие ледяные слёзы забирались им за воротники, но они не разжимали объятий. Как будто некая непреодолимая сила приковала их друг к другу. Но так не могло продолжаться вечно. Знакомый грубый голос дяди Сильвениция, страшный и злой, прозвучал вдруг у них над головами, как оглушающий гром:
– Что, обнимаетесь, голубки? А ну-ка, отлепились друг от друга!
– Не отлепимся, – в один голос ответили дети и ещё крепче прижались друг к другу.
– Это был приказ, если вы не поняли! – рявкнул Сильвениций и с унизительной для них лёгкостью оттащил Гая от Обсидии.
Сдерживаемый крепкой хваткой дяди за воротник, Гай злобно воззрился на взрослых, неожиданно окруживших их. Молодой офицер в парадной форме пятого королевского полка, чей длинный, острый, как нож, нос беспрестанно дёргался, всмотревшись в него, ехидно усмехнулся:
– Взгляните только, какое изысканное выражение лица, господин Сильвениций!
– Ох, да, – с рокочущим смешком согласился Сильвениций. – Действительно, Виллимони, я такого ещё не видел. Ничего, в академии его отучат кроить рожи и дерзить, верно, мальчишка?
– Нет, – нагло отрезал Гай, выпятив подбородок.
Как он понимал сейчас, это смотрелось тем смешнее и тем жальче, чем меньше и слабее выглядел он по сравнению со своим окружением. Дядя Сильвениций и офицер Виллимони сознавали всю уморительную глупость его поведения и, наверное, не наказывали его со всей жёсткостью только потому, что это их забавляло. Однако лёгкий подзатыльник Гай всё-таки получил – и свирепо фыркнул.
– Веди себя смирно, курсант, – велел ему офицер Виллимони. – Поверь, преподавателям только понравится пробовать о тебя ремень и розгу.
– Я не боюсь ни ремня, ни розги, – заявил он, не спуская с офицера прожигающего насквозь, полного ненависти взгляда, которого вовсе не могло и не должно было быть у ребёнка его возраста.
– Возможно, ты столь бесстрашен потому, что тебя ни разу не драли по-настоящему, – сухо проговорил Виллимони. – Иди к повозке, дерзкое дитя, и прими к сведению мой совет – он тебе ещё пригодится.
– Гай… – пролепетала Обсидия, протягивая к нему руки.
– Я вернусь… – он обернулся было к ней, но чувствительный толчок со стороны Виллимони заставил его замолчать и зашлёпать по грязи к парадным воротам особняка.
Обсидия прижала руки к лицу и тихо заплакала. Но ни офицер Виллимони, ни Сильвениций не обратили на неё внимания.
– Неужели ты не хочешь попрощаться со своим дядей и со своей семьёй, Фолди? – крикнул ему вслед Виллимони.
Гай составил себе труд обернуться и высокомерно ответить:
– Все, кем я дорожу, уже услышали от меня прощальные слова. А на остальных я не размениваюсь. – Презрительно хмыкнув, он повернулся и уверенно зашагал по разбухшей от грязи дороге.
– Невероятно длинный язык для ребёнка его лет, – удивлённо проговорил Виллимони.
– Академия укоротит его, – с неким убеждённым торжеством в мрачном низком голосе заявил Сильвениций.
Виллимони покачал головой в знак сомнения:
– Укоротит ли?
Обсидия, неподвижно стоявшая подле них, вдруг ожила и рухнула на колени. Её жалобный голосок потревожил мирно спящую в предрассветный час округу:
– Господа! Господа, прошу, пустите меня в Академию, к Принцию и к Гаю! Пожалуйста, я буду вести себя очень хорошо! Позвольте мне…
– Девочка, иди домой, – раздражённо бросил офицер Виллимони, брезгливо поднимая Обсидию с земли за руку. – Иди, ты всё равно не сможешь поехать со своими друзьями.
– Но я хочу… – робко проронила она.
– Нельзя! Уходи! – казалось, что офицер и дядя Сильвениций умеют обмениваться мыслями, настолько быстро и слаженно прозвучал их единовременный ответ.
Обсидия вновь прерывисто вздохнула и привалилась к ограде особняка Фолди, растирая слёзы по щекам. Остановившись на мгновение, Гай ободряюще улыбнулся ей и помахал ей рукой. Однако она не увидела этого: глаза её затуманились слезами, и серая пелена дождя повисла между ними, поглощая очертания предметов в непроницаемой мгле. А Фолди забрался в огромную открытую повозку, полную других таких же юных аристократов, как и он сам. Мальчики сидели тихо, с ровными, как струнка, спинами, грустными глазами и каменными лицами. Казалось, что они боятся пошевельнуться. Гай осторожно присел на краешек скамьи поодаль от остальных курсантов. Три вороные лошади, катившие повозку, синхронно дёрнулись и фыркнули; кучер поправил шляпу и поднял выше узкий воротник плаща, чтобы спастись от колючих прикосновений дождя. А десятилетние мальчишки, будущие курсанты, будущие солдаты пятого королевского полка, сидели с непокрытыми головами и мёрзли, но не жаловались. Гай чувствовал себя здесь так неуютно, что готов был вывалиться из повозки через борт и броситься бежать, как вспугнутый заяц, чтобы его никто и никогда не нашёл. Но он сдерживался: поступить так – значит опозорить себя и навеки прикрепить к своему родовому гербу красно-жёлтую ленту трусости. В надежде найти хоть одно дружественное лицо в этом сборище нелюдимых молчунов, он совершенно неожиданно обнаружил взглядом Принция…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?