Читать книгу "Житие Федора Абрамова"
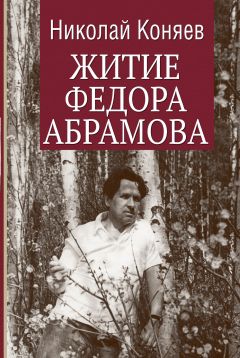
Автор книги: Николай Коняев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
От нас ушел, Серго любимый,
Но воля в нас кипит его
За каждым винтиком, машиной
Тебя мы чувствуем Серго…
Через двадцать лет, 15 мая 1956 года, обдумывая самоубийство Александра Фадеева, Федор Абрамов запишет в «Дневнике»: «Но хорошо и то, что верх взяла правда, вернее, полуправда. Ведь было же время, когда об Орджоникидзе, покончившем самоубийством, писали, что он умер в результате болезни сердца. Подписи врачей – все по форме. И видный государственный деятель, хорошо зная, что в гробу лежит человек с пробитым черепом, с глубокой скорбью рассказывает о продолжительной сердечной болезни дорогого товарища Орджоникидзе».
Интонационная неуверенность как бы размывает тут смысловую очевидность, и то, что легко постигается умом, не может быть принято сердцем.
Абрамов конца пятидесятых, как литературовед достаточно высокого класса, понимает, что истинная, не подвластная течению времени мифология, не может базироваться ни на откровенном обмане, ни на полуправде, которой пытаются замаскировать этот обман.
«Смерть Фадеева – умри он как гражданин – могла бы стать самой гениальной книгой современности», – утверждает он. Почему? Да потому, что «с именем Фадеева в советской литературе связано понятие – оптимистическая трагедия. Герой, умирая, утверждал своей смертью победу».
Но – увы! – «самой гениальной книги современности», нового мифа не возникнет. Судьба Фадеева не выдержала необходимого для этого усилия. «Он умер, как трус»…
Миф оказался разрушенным еще до его воплощения…
Верх взяла полуправда хрущевского десятилетия, и расставание с красной могилой, которой пытались заменить святыню подлинную, проходило в Федоре Абрамове и его сверстниках гораздо мучительнее и болезненней, чем расставание с подлинными святынями.
«Медленно и бесшумно ступая по выстланной дерном дорожке, я подошел к ограде, открыл калитку.
Что такое? Где могила Архипа Белоусова?
Шесть фамилий выбито на лицевой стороне пирамидки, и только третьей среди них, совсем затерявшись в этом списке, – фамилия Белоусова…
Все так же, как в далеком-далеком детстве, за соснами полыхал багряный закат – казалось, сама вселенная склонила свои знамена над нашим крутояром, а могилы Архипа Белоусова не было. На месте ее торчал серый, унылый столбик, точь-в-точь такой же, как на десятках других могил.
И я смотрел на багровый закат, смотрел на этот столбик, густо исписанный ровными подслеповатыми буквами, и чувствовал себя так, будто меня обокрали»[39]39
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 106–107.
[Закрыть].
Возмущенный герой рассказа идет к последнему оставшемуся в живых красному партизану и тот, рассказывая о реальном Архипе Белоусове, окончательно развенчивает мифотворчество, связанное с красной могилой, осененной приспущенными знаменами.
«В окна глухо постукивал косой дождь. Темные дорожки бежали по верхним незанавешенным стеклам, и лицо у старика тоже было мокрое.
Я тихонько встал и вышел на улицу.
На деревне было темно, как в глухую осеннюю ночь. Ни одного огонька не было в окнах: видимо, всех сегодня ненастье застало врасплох.
Я брел в темноте по мокрой дороге, оступался, залезал в лужи и все пытался представить себе Архипа Белоусова таким, каким он был в жизни.
Дождь не утихал. На открытых местах выл и свистел ветер.
В такую непогодь я любил, бывало, стоять под соснами у партизанской могилы. Сосны шумели, охали и стонали. А мне все казалось, что это стонет и охает Архип Белоусов, у которого разболелись в ненастье старые раны.
И когда впереди, в бледных вспышках молний, верблюжьим силуэтом обозначилась старая церковь, я машинально, по давней привычке, свернул с дороги и зашагал к крутояру»…
Впрочем, тут мы забегаем вперед…
К метаморфозам красной могилы – кстати сказать, размышления о могиле в «Дневнике» 1956 года как раз со смертью Фадеева и соседствуют! – мы еще вернемся, а пока, говоря о написанном в 1937 году стихотворении «Серго Орджоникидзе», надо подчеркнуть его глубинную, хотя и немного лязгающую металлом искренность.
У шестнадцатилетнего Федора Абрамова не было никаких сомнений в создаваемой сталинским агитпропом мифологии, потому что он сам был частью этой мифологии…
«Федя в школе был очень активным, – вспоминала Ульяна Александровна Абрамова. – Он и в комсомоле вожак, и в учкоме (тогда были учкомы) руководил, и в самодеятельности впереди… Вообще Федя дома бывал мало… Всегда занят»[40]40
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 41.
[Закрыть].
9
17 декабря 1937 года в Карпогорской школе состоялось расширенное заседание педсовета.
Присутствовали учащиеся десятых классов. Разговор шел об улучшении учебы, устранении недостатков в воспитательной работе. Выступали и учителя, и ученики. Сохранился протокол этого заседания педсовета.
Директор школы Н.П. Смирнов говорил о беспорядках на переменах.
– Хорошо бы выслушать учащихся… – сказал учитель А.Ф. Калинцев. – Им виднее те причины, которые вызывают нарушения дисциплины…
Завязался довольно оживленный разговор.
Резче и прямее других говорил на этом педсовете Федор Абрамов. Он критиковал комсомольцев за курение, за слабую работу с пионерами.
«Комсомольская организация слаба, не выделяется среди учащихся. Некоторые комсомольцы курят, – говорил он. – А смысл успеваемости у комсомольцев лучше. Дисциплина в 10 классе не очень уж плохая, хотя на переменах бывает плохая. Педагоги сами нарушают дисциплину, например, Д.М. Яковлев нервничает на уроках. Филина – старшая пионервожатая работы с вожатыми никакой не ведет. Вожатые должны сказать о своей работе».
Протокол, разумеется, не способен охватить всю картину заседания педсовета, и тут надо сделать пояснение насчет Д.М. Яковлева, который нервничал на уроках.
Д.М. Яковлев, как вспоминает Ульяна Александровна Абрамова, бывший студент, бросивший учебу, вел себя в школе излишне самоуверенно. Эта самоуверенность и подводила его: готовился он к урокам недостаточно. Учащиеся подметили, что Яковлев объясняет то, что сам не знает, и плохо его слушали.
Именно это и имел в виду Федор Абрамов, обвиняя Д.М. Яковлева в нарушении дисциплины. Д.М. Яковлев обиделся.
Возмущенный критикой Абрамова, он ответил, что, «если возьмем Абрамова, то он нарушал сам дисциплину (читает на уроке математики книгу, никому примеров дисциплины не дает). Зазнайство Абрамова надо выкинуть. Оно ни к чему не приведет».
Столкновение рамками «объединенного» педсовета не ограничилось.
«Помню, – вспоминала Ульяна Александровна Абрамова, – был педсовет по итогам окончания учебного года и по первому выпуску учащихся из средней школы. В коллективе учителей возникали разногласия по поводу оценки по поведению Феди Абрамова. Оценки по предметам в аттестате все были отличные. Но с некоторыми учителями он был груб. И они высказались за снижение оценки по поведению (проучить, мол, его надо). Ставили вопрос на голосование. Конечно, большинство оказалось за отличное поведение»[41]41
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 42.
[Закрыть].
Прослеживая школьную биографию Федора Абрамова, мы ясно видим, что молодых выпускников Карпогорской десятилетки – в первом выпуске их было 14 человек – наполнял высокий, героический пафос. Он выплавлял из них все мелкое, все сиюминутное, все эгоистическое.
И утверждался этот пафос не только пропагандой, но и самой реальной жизнью.
Когда лучший выпускник Карпогорской школы Федор Абрамов решил стать учителем, его без экзаменов зачислили на филологический факультет Ленинградского государственного университета – может быть, в то время лучшего вуза страны.
Глава третья
История ненаписанного рассказа
Стали подсчитывать как-то на вечере: из 125 ребят (студентов-филологов) – вернулись 6. И все они чужие по духу.
Федор Абрамов
«Нам повезло, – вспоминает Валентина Гапова, учившаяся на филологическом факультете ЛГУ вместе с Федором Абрамовым. – Прямо с отцовского порога, из отдаленных городов и всей нашей необъятной Родины, мы попали в один из крупнейших центров европейской культуры – Ленинградский университет. Молчаливые и сосредоточенные, наивные и восторженные, самые разные – студенческий народ, – мы учились, получали возможность общаться с выдающимися учеными…
Созвездие блестящих ученых-филологов, неповторимая ленинградская школа. Они прививали молодежи страсть к знаниям, увлекали смелыми концепциями, тонким анализом художественных произведений, формировали наши духовные стремления, учили уважать личность, воспитывали ответственность перед народом»[42]42
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 59–60.
[Закрыть].
Распространяя свое романтическое восприятие и на Федора Абрамова, Валентина Гапова перечисляет преподавателей, «неповторимые лекционные курсы» которых прослушал Абрамов до войны.
Вспоминает она и «студенческого кумира Григория Александровича Гуковского, каждая лекция которого становилась и «научным открытием», и художественным концертом, во время которого Григорий Александрович с поразительным мастерством читал стихи русских поэтов. Называет она в своих воспоминаниях и «энциклопедического В.М. Жирмунского», и «блистательного Б.А. Эйхенбаума», и «основательного Б.В. Томашевского»…
«Незабываемые это все были впечатления, – соглашается с нею Тамара Голованова. – И лица слушавших запоминались лучше всего именно тогда, на лекциях: кто где сидел, как слушал. Вот так я запомнила впервые лицо Феди Абрамова и всю его некрупную, собранную фигуру. Он сидел почти всегда на одних и тех же местах, где-то за первым столом аудитории, и внимание, с каким он слушал лектора, отмечалось особой напряженностью.
Поражались более или менее все… но на этом фоне потрясенной аудитории Федя меня интересовал тем, что он не просто слушал – он работал»[43]43
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 44–48.
[Закрыть]…
1
И Тамара Голованова, в которую на первых курсах тайно был влюблен Федор Абрамов, и Валентина Гапова, которой в блокадной зиме 1941–1942 годов судьба отведет роль спасительницы писателя, – люди не случайные в его судьбе…
Почему же так рознятся их впечатления с ощущениями – «не вызывает у меня радости воспоминание о студенческой юности. Вернуться в студенческую молодость? Это заветная мечта многих. А я не знаю, я еще подумал бы, прежде чем согласиться» – самого Абрамова?
Видимо, и Тамара Голованова, и Валентина Гапова, вспоминая довоенные годы, думали не столько об однокурснике Абрамове, сколько о писателе, уже сумевшем ярко и значимо реализовать свое дарование, и переносили в довоенную юность впечатления семидесятых-восьмидесятых годов.
Ну, а сам Абрамов вспоминал, каким он был на самом деле, и вспоминал подчеркнуто буднично и реалистично.
«Все вспоминают студенческие годы, как золотую пору своей жизни. А мне о чем вспомнить? Холод (на Охту ездили). В трамвае, на остановках…
Танцевать… В чем?[44]44
Первые годы в университете Федор Абрамов ходил в лыжной куртке, никакой другой одежды у него не было.
[Закрыть]
И плюс еще к этому унижения нравственного порядка. Подрабатывать? Жалко времени»[45]45
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 505.
[Закрыть].
Фразу о времени, тут надо пояснить.
«Конечно, – говорил сам Абрамов, – находились и в то время ребята, которые умели сочетать радости возраста с некоторыми удобствами (подрабатывали! Иные даже прилично одевались). Но я не мог позволить себе этого. Я весь был в зубрежке. Я хотел все сделать, что положено по программе, и не успевал. Учеба – самая тяжелая работа»[46]46
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 498.
[Закрыть]…
И хотя Тамару Голованову восхищало, что «Федя… не просто слушал – он работал. Как видно, он умел и любил работать уже тогда… Темные, умные глаза горели внутренним огнем, вспыхивая живым блеском интереса, но чувствовалось, что он был один в этом открываемом им мире, отчужден от всех и погружен в себя», она даже и не догадывалась, как удивительно права была тут…
Бывший школьный и будущий университетский отличник, Абрамов поначалу почувствовал себя в Ленинграде самым отстающим студентом.
«Моя отсталость – ничего не знаю по сравнению с городскими… – признавался он. – С крестьянским упорством в науку»[47]47
Там же. С. 487.
[Закрыть].
Но если крестьянское упорство помогало догнать однокурсников в учебе, то с отставанием в городской жизни было сложнее.
«Чтобы ощутить первое впечатление, которое произвел на меня Федор Абрамов, – вспоминает Моисей Самойлович Каган, – нужно представить себе психологическую ситуацию, порожденную поступлением на филологический факультет Ленинградского университета деревенского парня, с характерным для Русского Севера говорком, походкой вразвалку, отсутствием того уровня общей культуры, который отличал окружавших его ребят – ленинградских «аборигенов», выросших в интеллигентных семьях, говоривших на иностранных языках, знавших собрания Эрмитажа и Русского музея, завсегдатаев театров и филармонических концертов. Федор явно «комплексовал» в этой среде и старался скрыть это, нарочито усиливая свои социальные приметы, чтобы этим уравновесить достоинства «петербуржцев»[48]48
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 75.
[Закрыть].
М.С. Каган познакомился с Ф.А. Абрамовым только в студенческом батальоне, когда началась война, и его рассуждениям о комплексах Абрамова – это не свидетельство, а предположение.
Но в чем-то Моисей Самойлович несомненно прав…
Встречаясь со своими однокурсниками вне стен университета, Абрамов попадал в другую совершенно незнакомую ему страну.
Тамара Голованова вспоминает, как однокурсники собирались на улице Восстания в ее «большой квартире большого дома» – отец Тамары был одним из ведущих инженеров Гидропроекта, разрабатывавших систему «Большой Волги» – и устраивали то «литературные утра», то «литературные вечера».
«Кто только у нас не бывал! Прежде всего хочется назвать Бориса Смоленского – поэта, учившегося в Институте водного транспорта… Человек высокоодаренный и образованный, он был чуть моложе меня и других моих сверстников, но на голову выше нас по широте и «взрослости» интересов… Он был влюблен в девушку из нашей группы Любу Трофимову, посвящал ей многие свои стихи. А когда Люба уехала в Москву, поступила на Высшие курсы переводчиков при ЦК ВКП(б), Борис стал часто бывать в Москве, где дружил с П. Антокольским, Б. Грибановым, П. Коганом и многими другими представителями литературной Москвы. Естественно, что, возвращаясь в Ленинград, он одарял нас свежей информацией, новыми впечатлениями и новыми стихами или песнями (это он привез в Ленинград популярную ныне песню «Бригантина», написанную П. Коганом)[49]49
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 44–48.
[Закрыть].
Понятно, что приехавший с Пинежья из неведомых никому Карпогор Федор Абрамов не очень-то уютно чувствовал себя в этой компании.
«Страшное время, – вспоминал он. – К городу не привык. Больше всего я страдал, оказавшись на улице. Идут, идут люди – и все мимо. Никому нет дела до меня. Это понятно только деревенскому человеку, очутившемуся в городе».
2
Воспоминания Федора Абрамова о довоенном студенчестве сосредоточены, в основном, в его набросках к рассказу «Белая лошадь», который Абрамов собирался писать без «ухищрений беллетристических» и который так и остался недописанным.
Яков Липкович в статье «Слово о русском Фолкнере» пишет, что «героем повести («Белая лошадь». – Н.К.) должен был стать еврей Семен Рогинский»…
«На редкость талантливый и яркий участник факультетской художественной самодеятельности Рогинский буквально изводил своими по-мальчишески безжалостными насмешками, наверно, полкурса. Но больше всего доставалось от него Феде Абрамову с его странной негородской речью, с этим смешным оканьем, с непониманием каких-то простых вещей, известных каждому горожанину.
Даже на занятиях он не оставлял будущего писателя в покое (Здесь и далее выделено нами. – Н.К.), и весь класс «ржал».
Я не думаю, что эти, в конечном счете весьма безобидные шпильки выражали какую-нибудь неприязнь или нелюбовь. Просто артистическая натура Рогинского не довольствовалась одними концертными подмостками. Он играл и устраивал представления для желающих посмеяться и в реальной жизни».
Хотя никаких фолкнеровских глубин подобная трактовка абрамовских набросков будущего рассказа не обнаруживает, мнение Я.С. Липковича об отношениях между Федором Абрамовым и его однокурсником Семеном Рогинским мы не будем отбрасывать.
Только отметим сразу, что это для Якова Соломоновича все тут выглядит просто, самому Федору Абрамову или вернее герою его рассказа, как это видно по наброскам, шпильки Рогинского не казались безобидными.
Надо сказать, что поначалу Семен Рогинский не понравился Абрамову. Неуклюжее тело, широкий рот, вывернутые губы, угреватое лицо, волосы жесткие, курчавые. Длинные худые руки. Глаза – черные, горящие.
Но потом Абрамов увидел Семена на эстраде, когда тот читал «Мексиканца»…
«Читал он вдохновенно, со страстью. Держал аудиторию в руках. Перед глазами вырастал живой образ Желтолицего – героя-подростка, всем сердцем преданного революции. Я видел этих американцев, травящих его. Этих жирных, розовых свиней. Я ненавидел их.
И я решил тогда, что раз человек может создать героический образ, значит он в потенции сам герой. Искусство и фальшь несовместимы!
Героическая личность тянет нас к себе. Ибо человеку свойственно быть героем. Естественно, что и меня, тогда молодого парня, потянуло к Рогинскому»[50]50
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 484.
[Закрыть].
Сближение, однако, не удалось.
Возможно, Рогинский почувствовал, что Абрамов тайно пытается завоевать симпатию Тамары Головановой, которую Семен не без оснований считал своей поклонницей, возможно, в силу чуткости артистической натуры он, почувствовав в Абрамове претензию быть таким же как он, и возмутился…
Возможно, на то были и другие причины[51]51
«Я жил одиночкой. Что-то было у меня от Сореля. Втихомолку подготовлять подвиг. Рогинский разглядел, возможно». Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 482.
[Закрыть], но Рогинский сразу ополчился против деревенского однокурсника, превратив его в объект насмешек.
«Я чувствовал себя неполноценным, второсортным, – переживает герой рассказа. – Они были на виду, а я, еще недавно первый ученик, тут был сереньким неинтересным воробышком…
Рогинский, вероятно, знал о моем честолюбии, и он язвил меня, где только мог и как только мог.
Да, я, крестьянский сын, не чувствовал себя хозяином жизни. Хозяевами были они: Рогинский, Сокольский, Либерман. И не потому ли они так свободно себя держали.
Найдутся, конечно, теоретики, которые будут доказывать, что я ошибаюсь, что это частности моей частной биографии, отнюдь не типичной для советского юношества той поры. Да, но я-то все это испытал на собственной шкуре.
Я и они – в моем сознании.
И девушки с ними»[52]52
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 492–493.
[Закрыть].
3
То, что Яков Соломонович Липкович называет «весьма безобидными шпильками», скоро превратилось в настоящую травлю Абрамова, в которой Рогинский не брезговал никакими средствами.
«Рогинский, – вспоминал Федор Абрамов, – донимал меня тем, что издевался над моим крестьянским происхождением. Он… при всяком случае обыгрывал мою деревенскую неполноценность.
Например, семинар по основам марксизма-ленинизма. Идет разговор о двойственной природе мелкого буржуа, крестьянина. Преподаватель обращается к группе:
– Ну-с, кто нам доложит?
– Абрамов, – подает басом реплику, нахальный он был. – Ему и карты в руки.
Я был единственный крестьянин в группе. Все студенты знали о моем крестьянском происхождении (благодаря, конечно, Рогинскому), и все оборачивались ко мне.
А я готов был провалиться сквозь землю.
Но это, так сказать, еще самое безобидное, а вообще-то он жалил меня покрепче»[53]53
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 491.
[Закрыть].
И Абрамов вставал на семинаре и начинал говорить о том, как воспринимается крестьянство, а значит его мать, его братья и он сам, в свете самого передового марксистко-ленинского учения. Разумеется, Абрамов еще не осознавал тогда, что Рогинский и компания принуждают его публично глумиться и над предками, и над самим собой, но унизительность положения чувствовал.
И то, что он не смел – этим он обнаружил бы способность к активным действиям против Советской власти[54]54
Напомним, что хотя уже давно были расстреляны авторы приказа № 00447 о репрессиях против бывших кулаков, казаков, служителей церкви, а также членов их семей, способных к активным действиям против Советской власти, но сам приказ никто не отменял.
[Закрыть] – самовольно выйти из унизительного положения, в которое ставил его Семен Рогинский, более всего и веселило компанию Рогинского.
«О Рогинском ли это рассказ? – дополняя эти размышления, напишет Федор Абрамов в 1974 году. – А может быть, обо мне, о крестьянском сыне?
Один крестьянин на весь курс. И этого крестьянина поносили на каждом занятии по марксизму-ленинизму: полу-полу, неполноценный и т. д. И что ужасно – я сам ведь считал, что крестьянин, основное население России, неполноценен. И вместе с другими возносил хулу на мою мать, на братьев, на себя.
Не буду, однако, врать: тогда я ничего этого не понимал. Не понимал, как мерзко глумиться над своими отцами, предками, над собой. Понимание всего этого пришло потом, лет к сорока»[55]55
Там же. С. 497.
[Закрыть].
Три курса длилось неравное сражение, где все: и студенческое окружение, и сама тогдашняя советская идеология выступали на стороне Семена Рогинского.
И тем не менее Абрамов не проиграл этот поединок.
«Федя… – вспоминает Тамара Голованова, – вошел сразу и в общественную жизнь университета, и здесь он был, при всей своей скромности, как-то неуловимо весомее, авторитетнее нас»[56]56
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 45.
[Закрыть].
«Как сейчас помню его чаще всего молчаливое присутствие на наших чтениях, иногда – меткие, с ехидцей, реплики, возвращавшие на грешную землю не в меру воспаривших романтиков. Его слушали. С ним всегда считались»[57]57
Там же. С. 49.
[Закрыть].
Конечно, можно только гадать, как бы сложились отношения Абрамова и Рогинского в ходе дальнейшей учебы в университете, но все перевернула война…
22 июня 1941 года, когда Федор Абрамов возвращался в общежитие из читального зала, по радио объявили, что началась война…
«По общежитию, – запишет Федор Абрамов 6 февраля 1975 года, – по лестницам ходили живые мертвецы. Ребята бегали. Живые. Румяные. В суете. Но за каждым из них ходила смерть. Они уже только числились живыми. А вернее, доживали последние дни, месяцы. Целый дом живых мертвецов. Но никто из них не знал этого»…
4
23 июня студенты университета поклялись в актовом зале «все силы отдать на защиту Родины, а если потребуется, то и жизнь!..», и уже 26 июня первая группа добровольцев ушла на фронт[58]58
Барабанов В.Ф. Они сражались за Родину. Универсанты в годы войны и послевоенные годы. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1992. С. 17.
[Закрыть]…
Подал заявление с просьбой отправить его на фронт и студент Федор Абрамов.
Три месяца спустя, студентам филфаковцам суждено будет «выстлать своими телами дороги на подступах Ленинграда», но они не знали об этом и, уходя в народное ополчение, спешили сдать экзамены и зачеты, чтобы «идти на фронт без хвостов».
Сохранились воспоминания[59]59
Редина А. Суровые и светлые годы филфака. В книге «Филологический факультет СПбГУ». СПб., 2008. С. 37.
[Закрыть], как упрашивал Федор Абрамов секретаршу деканата дать ему адрес Валентины Александровны Приходько.
– В квартире профессора Марии Александровны Соколовой мне сказали, что она ушла к Приходько. А я сегодня же должен досрочно сдать ей экзамен по русскому языку. Не могу же я идти добровольцем на фронт с академическими хвостами.
Адрес Абрамову дали, профессора Соколову он нашел.
Мария Александровна Соколова поставила ему пятерку, но предупредила, что все равно за Абрамовым остается долг, и после войны надо будет подтянуться…
А вот студента Лямкина, который не сдал зачета, в народное ополчение не записали.
– Не достоин!
Абрамову запомнилось, как он утешал товарища, как боялся, что тот что-нибудь сделает с собой.
Уже смята была граница, уже немцы хозяйничали в Белоруссии, а все равно приподнятость и восторженный настрой не оставляли студентов.
«Какое-то опьянение – это первые дни войны.
Никаких дум о смерти, о трагедии, которые несет с собой война. Полная уверенность в скорой победе, боязнь опоздать на фронт. Полное непонимание и удивление: почему притихли, почему плачут пожилые.
Мы ликовали. Мы долго ждали войны, возможности совершить подвиг, и вот мы дождались»[60]60
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 508.
[Закрыть].
Но иначе, наверное, и не могло быть…
Предвоенные годы выработали такой запас юного патриотизма, основанного на почитании красных, осененных приспущенными знаменами могил, в которых спали былинные богатыри, такое неукротимое стремление к подвигу, что защищать Родину рвались и колхозные парни, и дети из рафинированных интеллигентских семей, и ребята с рабочих окраин, и сыновья членов Политбюро.
14 июля 1941 года, сдав библиотечные книги, сложив конспекты и немудреные пожитки в чемоданы на хранение коменданту общежития, студенты третьего курса филологического факультета Ленинградского государственного университета ушли в народное ополчение…
«Не забыть неповторимую картину, – вспоминает Моисей Самойлович Каган. – Мы, университетские ополченцы, идем строем через весь город на Балтийский вокзал, одетые в штатское платье, но со скатками через плечо и в пилотках, ибо нам выдали только шинели и пилотки, и мы горды тем, что похожи на виденных в кинохронике о гражданской войне в Испании бойцов интернациональных бригад, только нет у нас ни винтовок, ни пулеметов, а по бокам колонны бегут матери, сестры, жены, подруги и мы поем веселые песни…
Главной нашей походной песней были «Флибустьеры» – тогда еще никому не известная, в гриновском романтическом стиле написанная Павлом Коганом и Борисом Смоленским песня, которой обучил нас Сеня Рогинский, причастный к обществу молодых поэтов, кучковавшихся в Детском Селе…
Политрук батальона, имевший четырехклассное образование и, как утверждали очевидцы, до войны торговавший овощами на Васильевском острове, возмущался тем, что мы поем не патриотические военные песни, а про каких-то пиратов, да еще дополняя наш вокальный репертуар одесско-еврейским фольклором:
Погасли в море синие огни
Сегодня мы уходим в море прямо
Поговорим за прелести твои, ой вей
Любимая моя Одесса мама
Слово «студенты» было для этого политрука главным ругательством, а солдаты из других рот прибегали к нам на привалах, чтобы списать слова и величали наш взвод «флибустьерами»[61]61
Каган М.С. О времени и о себе. СПб.: Петрополис, 1998. С. 45–46.
[Закрыть].
5
Из студентов филфака был сформирован 277‐й отдельный студенческий батальон.
Так получилось, что Федор Абрамов и Семен Рогинский оказались в одном отделении, и их спор продолжился, теперь уже в военно-полевом антураже.
Сохранился набросок рассказа «Белая лошадь», действие которого происходит еще на карельском перешейке, куда на третий день войны направили студентов рыть противотанковые рвы…
«Я спокойно взялся за лопату (мы рыли противотанковые рвы), и таскать носилки и тачку с песком – привычное для меня дело. Разве косьбу ручную с этим сравнишь или лесоповал – летом, в жару, на оводах?
Вот где крестьянин взял верх над горожанами.
А горожанам это было в непривычку. Горожане взвыли. И особенно наш Ривера. Я такой человеческой беспомощности и неприспособленности еще и не видал.
В первый же день он набил мозоли, и хорошо бы на руках, а то ведь и подошвы ног стер до волдырей – видите ли, к нему в туфли песок попал. Да вдобавок он еще нажарил голову. И вот к полудню наш Ривера был готов: уполз в кусты.
Я был старший на работе (первый раз за три года я командовал Рогинским), и я не преминул отчитать его.
– Вставай, что же ты лежишь? Кто за тебя будет работать? Немца словами не заговоришь.
В общем я жестоко отчитал его. А он все это вынужден был проглотить… Бледное лицо. Сметанное, незагорелое тело, худое (он тоже трудно жил дома). Он страдал. Потому что я бил по самому больному месту – по гордости»[62]62
Федор Абрамов. Собр. соч. Т. 6. С. 491–492.
[Закрыть].
Отчасти, можно согласиться с Яковом Липковичем, что это было реваншем Федора Абрамова над любимцем курса.
Но только отчасти.
«После окопов мы оказались на войне в одном батальоне. Рогинский по-прежнему мерз, обвязывался шарфом, был неряшлив…
Я не жалел его. Напротив, он вызывал у меня отвращение и презрение. И потом – где в нем Ривера?»[63]63
Там же. С. 485–487.
[Закрыть].
При внимательном чтении этого наброска нетрудно заметить, что соперничество с Семеном Рогинским в военной обстановке уходит на второй план, а на первый выступает нечто, гораздо более существенное…
Куда в реальной жизни исчез несгибаемый Ривера, в которого столь убедительно мог перевоплощаться Рогинский на сцене?
Этот далеко не праздный вопрос задает себе и герой рассказа, и сам Федор Абрамов, и не может найти ответа.
«Мы шли на фронт безоруженными, необученными, без сколько-нибудь знающих военное дело командиров… – свидетельствует М.С. Каган. – В нашем взводе вооружены были только Юра Левин, который получил персональный ручной пулемет, как заслуживший до войны звание «Ворошиловский пулеметчик», и я, получивший снайперскую винтовку (используя ее оптический прицел, я заменял командиру взвода отсутствовавший у него бинокль). Два раза я успел выстрелить из нее до ранения, но с каким результатом, осталось мне неведомым».
Федора Абрамова к воинской службе тоже никто специально не готовил, нормы «ворошиловского стрелка» он сдавал только в пионерлагере, да и физической крепостью, проведя три года – вспомните, что он не мог отвлечься даже на приработку к скудной стипендии! – в учебных аудиториях и библиотеках, он тоже едва ли превосходил городских однокурсников…
Превосходство выразилось в другом…
Была в Федоре Абрамове та терпеливая стойкость русского крестьянина, которая и делала его непобедимым воином во все века русской истории, которая сделает его победителем и в этой, самой страшной войне. Та терпеливость, которую высмеивал в Абрамове Семен Рогинский на занятиях по марксизму-ленинизму, та стойкость, которую только сейчас начинали различать в Абрамове другие студенты.
«Нравственную, а не только эстетическую силу этого (абрамовского. – Н.К.) юмора мы могли оценить в полной мере в нелегкие дни нашей фронтовой жизни… – очень точно подметил Моисей Самойлович Каган. – Нетрудно себе представить, какое психологическое воздействие оказывали на нас этот поток отступления и ожидание нашей встречи с фашистами. Что могли мы противопоставить их танкам, самолетам, артиллерии, мотоциклам, автоматам, кроме силы духа, готовности к жертвенному подвигу и веры в конечную победу нашего правого дела?
Вот тут-то и сказывалась живительная сила абрамовского юмора – и его собственного, и того североморского, пинежского, который звучал в его рассказах, байках, частушках»[64]64
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 75–76.
[Закрыть].
Спор Абрамова и Рогинского на фронте выходил за пределы личных отношений, и превращался в вековечный спор о русском крестьянине, который и во времена крепостного права, и в годы колхозного рабства, становился главным защитником своего, обрекшего его на унизительную неволю, государства.
«Споры с Рогинским о деревне… – запишет Федор Абрамов в 1971 году. – Идиотизм деревенской жизни. Полу-полу… Что я мог возразить? Так написано у классиков.
Я только сейчас мог бы ему ответить.
Особое крестьянство советское… Из кого полки Красной Армии состояли? Из крестьян. Умирать за Советскую власть можете. Но сами по себе неполноценные»[65]65
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 496.
[Закрыть]…
К сожалению, у романтиков, изображавших то флибустьеров, то новых советских Ривер, и презиравших русский народ, полагая, что его многовековой опыт никогда и никому больше не понадобится, аргументов для этого спора не оказалось.
Более того…
Обнаружилось, что Рогинский изображал Риверу, только чтобы покрасоваться на сцене, а превратиться в Риверу, когда этого потребовала жизнь, не мог.
Можно было простить физическую и моральную неподготовленность к реальным трудностям, но как было простить самозванство?
Именно это и изменило отношение героя рассказа к однокурснику, которому так отчаянно завидовал Абрамов всего несколько месяцев назад.
6
Резонный вопрос, можно ли включать в биографию писателя заметки, сделанные им в процессе подготовки к созданию литературного произведения? Я думаю, что в случае с рассказом «Белая лошадь» особых опасений не возникает.









































