Читать книгу "Житие Федора Абрамова"
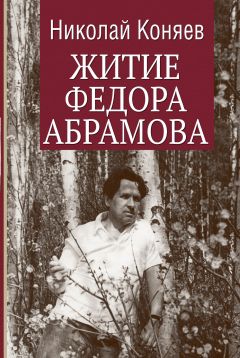
Автор книги: Николай Коняев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Во-первых, биографическая точность этих заметок подтверждается воспоминаниями других лиц и документальными материалами, а, во-вторых, если и возникают разночтения, то только в отношении переживаний и размышлений самого Федора Абрамова. И тут заметки дают воистину уникальный и предельно точный документальный материал…
Эпизод приезда в 277‐й отдельный студенческий батальон Тамары Головановой сохранился и в ее воспоминаниях…
«Едва вернувшись в город (они рыли противотанковые рвы-эскарпы. – Н.К.), мы ринулись в сторону Красного Села, чтобы навестить наших ребят, пока еще это было возможно. Ехали долго, на попутных машинах, с Арочкой М., женой Юры Левина.
С большим трудом нашли их расположение, и первый, кто нас встретил – радостно, сердечно, – был Федя Абрамов, неузнаваемый, осунувшийся, какой-то трогательно юный»[66]66
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 50.
[Закрыть].
Тамару Голованову, хотя «девушка эта и не догадывалась, что я ее люблю», герой рассказа любит.
Одна из подготовительных записей так и называется – «Из писем Т. Головановой»: «До 8 сентября. Ну, вот начался бой. Я должен стрелять в человека. Я не знаю, как я буду стрелять. После 8 (17 сентября). Слышал, что 8 сентября бомбили Ленинград. Вас бомбили. Тебя бомбили. Теперь я знаю, за что я буду стрелять в немцев. Теперь я могу»[67]67
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 494–495.
[Закрыть].
И вот эта девушка приехала в гости, на фронт.
Но приехала не к влюбленному в нее Федору Абрамову, а к Семену Рогинскому.
«Федя и привел к нам Юру и Сеню Рогинского. Вскоре собрались и другие товарищи – ведь это был привет из родного дома, из недавней – и такой уже далекой – мирной жизни.
Мы уселись на Федину, гостеприимно наброшенную на землю шинель, перекусили кое-какой домашней снедью, привезенной из оскудевшего уже на еду города»[68]68
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 50.
[Закрыть].
Замечательна драматургия этой сцены.
Федор Абрамов, утвердивший себя, почти возмужавший в военно-полевых условиях, приводит разоблаченного Риверу, но Тамара Голованова не замечает перемены в своем возлюбленном.
Для нее изменился только Абрамов, стал «неузнаваемым, каким-то трогательно юным», а Семен Рогинский, как был, так и остался героем ее романа.
Многие записи Федора Абрамова о начале войны поражают своей писательской, реалистической точностью…
«Отмечу только то, что пропускалось, – это сближение студентов, ребят и девушек. Все, кто дружил и отказывал раньше в близости, все бросились в объятия, словно предчувствовали, что многие из их числа не вернутся.
Девушки не жалели себя.
Отдавались»[69]69
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 493.
[Закрыть].
Нечто схожее, видимо, и произошло с Тамарой Головановой в конце августа 1941 года.
«Ее приезд к С(емену) Р(огинскому), – запишет Абрамов в 1968 году. – Какая для меня пытка. Пошли в рожь.
Рожь – высокая – все росло буйно в то лето.
И я видел, как наклонялись вершинки ржи. Они шли. А потом перестали.
Они опустились на землю»[70]70
Там же. С. 493.
[Закрыть].
7
Возможно, этот эпизод и должен был предшествовать эпизоду, непосредственно связанному с белой лошадью на минном поле возле деревушки Пицдузи, который Федор Абрамов собирался положить в основу рассказа.
История эта подлинная, произошла она за неделю до гибели Семена Рогинского[71]71
Там же. С. 21.
[Закрыть], убитого 24 сентября, и мы легко можем датировать ее – 17 сентября 1941 года.
День этот вошел в историю обороны Ленинграда самым длительным – восемнадцать с половиной часов – артобстрелом города. Уже оставлены были Гатчина и Павловск, солдаты 1‐й танковой дивизии немцев вышли к конечной остановке ленинградского трамвая – немецкие танки стояли всего в 12 километрах от центра города…
Бои под Ленинградом достигли наивысшего напряжения, но у деревушки Пицдузи под Ропшей, оставшейся чуть в стороне от направления основных немецких ударов, пока все было тихо, последние часы отделяли 277‐й отдельный студенческий батальон от настоящей войны…
«– Смотри, смотри! Что это? – шепотом воскликнул Рогинский.
Меня изумил этот восторженный шепот, так не вяжущийся с нынешним Рогинским, и я, кажется, сперва взглянул не туда, куда он указывал, а на Рогинского.
Он лежал, вытянув шею, и во все глаза, как на чудо, смотрел на луг. И там действительно было чудо: по лугу бежала белая лошадь. Не знаю, может, в том виновата внезапность ее появления, неожиданность, может быть, виновата война, которая сделала нас тупыми, а может быть, солнце виновато, которое вышло из-за леса. Но мне показалось, что я еще ничего подобного не видел в своей жизни.
Лошадь бежала серединой луга – легкая, грациозная, грива и хвост распушены, тонкие ноги не хватают земли. Румяная заря. Я не успел подумать, откуда эта лошадь… как раздался оглушительный взрыв. Когда земля осела, мы увидели лошадь лежащей на лугу. Она била ногами. Грязная. Подкова сверкала. Потом лошадь поднялась на колени передних ног и жалобно заржала.
– Надо ей помочь, – сказал Рогинский и начал вставать.
– Идиот! Как ей поможешь? Может, к ней побежишь?
Я был в полном отчаянии. Я не знал что делать. А между тем лошадь продолжала жалобно ржать, словно призывала нас на помощь.
– Стреляй! – закричал от сарая помкомвзвода.
У сарая, привлеченные взрывом, стояли все ребята нашего отделения. Помкомвзвода, как и другие, выбежал. Нервы не выдержали и у него.
Я щелкнул затвором. И вдруг Рогинский, этот жалкий ублюдок, вскочил на ноги и бросился на луг.
– Назад! Назад! – закричал я. – Стой! Убью!..
И то же примерно кричали ребята от сарая.
А Рогинский бежал по полю, прямо по минному полю, и башмаки бухали, как пушки.
Что я пережил, передумал за эти несколько секунд. Это невозможно передать словом. Об этом можно только догадываться. Я, конечно, ругал Рогинского самыми последними словами: идиот! Кретин безмозглый, психопат, интеллигент сопливый. Не выдержал.
Но я и восхищался им. Где-то в подсознании. Безусловно. Это ведь какую надо иметь отвагу, чтобы броситься на минное поле ради лошади на верную смерть. Если бы это был человек, я бы еще понимал…
Ребята смотрели, застыв у сарая, и я смотрел. А потом я побежал вслед за ним. Не от храбрости, нет. От дыбом поднявшейся во мне гордости, честолюбия. Я знал, что если я не кинусь вслед за ним, я никогда не прощу этого себе. Никогда. Мне не жить с этим. Да и ребята мне не простят, если что-нибудь случиться с Рогинским.
Судьба на этот раз сжалилась над нами. Мы, наверно, не сделали и десяти-пятнадцати шагов по минному полю, как раздался страшный взрыв. Рогинский упал на землю, а я, бежавший сзади него, упал на него.
Подорвалась лошадь. Как я представляю теперь, лошадь сначала подорвалась на противопехотной мине, и ей перебило ногу, а затем, катаясь по лугу с перебитой ногой, она накатилась на противотанковую мину…
Я не помню, как мы вышли с минного поля.
Я помню только, что вдруг Рогинский, когда мы уже были на прибрежной кромке и к нам бежали, тяжело дыша, ребята, начал, как мне показалось, валиться набок.
– Что с тобой? – закричал я от испуга.
– Чего-то пятке неловко. Я, по-моему, опять сбил правую ногу. Ведь сколько раз говорил себе, что нельзя бегать.
И тогда я ударил Рогинского прямо по лицу. Кулаком. За все, за то, что он заставил меня столько пережить, за его идиотскую храбрость.
Он погиб через неделю. Но мне больше запомнилось, как он спасал белую лошадь. Эта белая лошадь, словно на крыльях плывущая по лугу, как самая ослепительная красота. И Рогинский, позабыв про все страхи и боли, бросился спасать красоту»[72]72
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 19–21.
[Закрыть]…
8
Мы уже вспоминали о статье Якова Липковича «Слово о русском Фолкнере».
Приведенный нами отрывок из наброска рассказа «Белая лошадь», а Липкович цитирует его без выделенных нами строк, так восхитил Якова Соломоновича, что он не удержался от весьма многозначительных выводов:
«Конечно, это лишь черновые наброски… – писал он в «Слове о русском Фолкнере». – Наверно, Абрамов еще не раз переписывал бы их. Но мысль, выраженная в них, понятна, и авторские симпатии не требуют подтверждения. Я представляю себе, как ополчились бы на Абрамова его «друзья», тот же Василий Белов, если бы вещь была закончена и опубликована. Я уверен: страшным голосом возопили бы они, что сионисты опутали, оплели, опоили большого писателя».
Насчет реакции на рассказ «Белая лошадь» Василия Белова рассуждать не будем, а вот насчет авторских симпатий Абрамова, которые якобы «не требуют подтверждения», поговорить стоит.
Как мы видим, вводя рассказ в координаты русско-еврейских отношений, Яков Соломонович пропустил эпизод, в котором, вытащив Рогинского с минного поля, рассказчик бьет своего спасенного однокурсника кулаком по лицу.
Между тем эпизод этот существенен не только для рассказа, но и для понимания авторской позиции.
Для Абрамова война – труд, тяжелый и неблагодарный, но труд, который необходимо сделать. Актерский порыв Рогинского не просто бессмыслен и самоубийствен, но он непреодолимая помеха в той работе, которая одна только и может привести к Победе. И рассказчик, спасая Рогинского, а не спасать его он не может, хотя бы уже потому, что однокурсники ему не простят, если что-нибудь случиться с Рогинским, рискует своей жизнью, которая потребуется для совершения необходимой для спасения Родины военной работы…
Поэтому он и бьет кулаком по лицу несостоявшегося Риверу. Если не можешь терпеть и совершать страшную солдатскую работу, хотя бы не мешай другим своими якобы геройскими порывами.
Война – не место, чтобы красоваться собой.
Вот эту мысль совершенно ясно и определенно и выражает Федор Абрамов в наброске рассказа «Белая лошадь»…
9
Но завершить ударом кулака рассказ о студенческой юности Федор Абрамов не мог. Жестокая и исчерпывающая правда войны, заключенная в этом поступке, не способна выразить правды подвига, совершенного 277‐ым отдельным студенческим батальоном.
Через несколько дней, когда наступающая 18‐я немецкая армия Г. Кюхлера заденет позиции 277‐го отдельного студенческого батальона, Семен Рогинский падет в бою, и смерть эта превратит не умеющего стать солдатом актера в одного из тех миллионов неведомых героев войны, ставших человечиной, в которой «забуксовали немецкие танки»[73]73
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 507.
[Закрыть].
И это обстоятельство изменит оценку бессмысленного порыва Рогинского, хотя и вырабатывалась эта оценка, как мы видим по подготовительным записям Федора Абрамова, мучительно трудно…
«Вдруг Семен вскочил и побежал к коню… – писал Федор Абрамов в 1968 году. – Как оценивать этот поступок? Истерия или подвиг? В ту минуту я был уверен, что истерия (если бы можно спросить), но на самом-то деле это не так. Ибо когда я побежал за Сенькой – а что мне оставалось еще делать? – я не только ругал его, но и восхищался»[74]74
Там же. С. 493.
[Закрыть]…
«Зачем Р(огинский) очертя голову бросился спасать лошадь?.. – повторяет он этот же вопрос 30 августа 1973 года. – 30 лет думаю над этим. А, может быть, он утверждал себя? Сознание ущербности. Желание освободиться от ущербности. Или психоз? Сознание того, что не пережить ему. Лучше скорее погибнуть»[75]75
Там же. С. 496.
[Закрыть].
Рассказ «Белая лошадь» так и остался недописанным Абрамовым, хотя окончательную идею этого ненаписанного рассказа писатель сформулировал вполне четко и определенно…
«Мое поколение на войне было представлено двумя основными типами:
1. Городской юноша-интеллигент, для которого война была не только потрясением, но и открытием мира, своего народа, первым знакомством с практической жизнью. Надо ли говорить, что ни до, ни после этого у людей этого типа не было более сильных впечатлений.
После войны юноши этого типа косяком хлынули в литературу. Они принесли романтику в поэзию, в прозу (Бондарев, Бакланов и др.).
2. Сельская, городская рабочая молодежь – основной массив. Практики, через которых прокатилась коллективизация, голод 30‐х годов и т. д. Для них война была в какой-то мере даже привычна, а некоторых (студентов, как меня) освобождала от другой войны – войны за кусок хлеба.
К сожалению, эта (бóльшая) часть молодежи представлена лишь единицами в литературе.
Да, да, романтический окрас войны в литературе объясняется тем, что литературу создавали главным образом романтики.
Практический тип, делавший войну, оказался вне поля внимания писателей.
Это иметь в виду, когда буду говорить о себе и Рогинском.
Да, да! Я и Рогинский. Долго не понимал, что нас разделяет. Понял с большим опозданием.
Они были книжные мальчики (до войны), я – все видел, через все прошел»[76]76
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 505–506.
[Закрыть]…
Через все прошел…
Через все, это через всю настоящую войну, которую так и не довелось увидеть большинству из товарищей Абрамова по университету, навечно оставшихся бойцами 277‐го отдельного студенческого батальона.
«Кто они по сравнению со мной, стариком? – спрашивал себя Федор Абрамов в 1975 году. – Двадцатилетние мальчики, сегодняшних одногодков которых я не принимаю всерьез. А с ними разговариваю про себя как с равными.
В чем дело? А дело в том, что, хотя они давно мертвые, они все время жили в моем сознании, росли и мужали вместе со мной.
И им сегодня и 20 и 58 лет – одновременно»[77]77
Там же. С. 612.
[Закрыть].
Глава четвертая
Мне хватило крови доползти до своих…
Заговорили о неустроенности, о бедах сегодняшнего бытия, о всевозможных недостатках, о болезнях, которые косят людей, – что за жизнь? Что за век?
Кое-кто вздохнул, кое-кто охнул, а кое-кто даже слезу пустил. И только одна старая Наталья Александровна невозмутимо улыбнулась.
– После войны я ни разу не плакала. Грех великий плакать, кто пережил блокаду да войну.
Федор Абрамов. «Зарок блокадницы»
«…В боях под д. Пиудузи, на окраинах Старого Петергофа батальон был разбит, – сообщал Федор Абрамов в записке «Обстоятельства моих ранений», составленной при поступлении на службу в СМЕРШ. – Остатки батальона, в том числе и я, вышли в Новый Петергоф».
1
Произошло это, по-видимому, 22 сентября 1941 года, когда началось наступление немцев в направлении Петергофа. Любопытно, что именно в этот день германское командование издало директиву об уничтожении Ленинграда после его взятия.
Ни о директиве германского командования, ни о развернувшемся наступлении 18‐й немецкой армии большинство бойцов 277‐го отдельного студенческого батальона так и не узнали.
Многие даже не успели понять, что происходит…
М.С. Каган вспоминает, что тогда, при реальном столкновении с фашистскими танками и стреляющими из автоматов «от пуза» мотоциклистами, студенты погибали один за другим, не успев сделать ни одного выстрела…
«Отрезанные, в огненном кольце (мешке). Впереди стреляют, сбоку гремит… – вспоминая тот день, записал Федор Абрамов. – Где мы, что мы? До каких пор нам тут сидеть?
Мы должны выполнять приказ. Но, может, нас забыли? Может, тот, кто отдавал приказ, давно уже мертвый?»[78]78
Абрамов Ф. Дневник. Запись от 15 февраля 1980 года.
[Закрыть].
Не останавливаясь, немцы прошли сквозь позиции 277‐го отдельного студенческого батальона, и уцелевшие остатки взвода, в котором воевал Федор Абрамов, начали собираться в лесу.
«Первой проверкой храбрости солдата-ополченца Федора Абрамова стал момент, когда нам, остаткам взвода, выбиравшегося по лесу из окружения, нужно было выяснить, в каком направлении двигаться дальше, чтобы соединиться с какой-нибудь боеспособной воинской частью, – вспоминает Моисей Соломонович Каган. – Как командир отделения, – а командира взвода с нами не было, – я взял ответственность на себя и сказал: «Надо идти в разведку. Кто со мной?»
Первым отозвался Федор»[79]79
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 76.
[Закрыть]…
Студентам удалось выйти к своим.
К вечеру они оказались в Ораниенбауме, где батальон снова укомплектовали и тут же бросили в бой навстречу армии генерала Г. Кюхлера.
2
«По приказанию командования батальон занял оборону в городе Старый Петергоф. Участок обороны нашей роты проходил по деревням, расположенным на окраине города, – говорится в записке Федора Абрамова «Обстоятельства моих ранений». – В течение трех дней мы вели беспрерывный бой с численно превосходящим противником. Я лично работал на пулемете. 24 сентября в полдень я был ранен в предплечье левой руки».
Слова о работе на пулемете не очень-то совпадают с послевоенными воспоминаниями самого Абрамова о том, как он стоял под пулями и ждал, когда убьют товарища, с которым спал койка к койке три года, чтобы взять его винтовку[80]80
Винтовки были. Как вспоминает Моисей Самойлович Каган, еще в августе на позиции пришло два грузовика, нагруженных винтовками. Однако, когда «ребята, вне себя от радости, разобрали их, оказалось, что это были… учебные винтовки с просверленными магазинами, со склада учебного оружия военной кафедры университета».
[Закрыть].
Но удивляться разночтению не приходится.
Про работу на пулемете Федор Абрамов писал, поступая в СМЕРШ.
Рассказ про винтовку, которую надо было забрать у убитого товарища, кадровиками архангельского СМЕРШа наверняка был бы воспринят, как вражеская пропаганда.
Напомним еще раз, что накануне, 23 сентября, части армии Г. Кюхлера прорвались в районе Петродворца к Финскому заливу. Линия обороны Красной Армии была рассечена, и 24 сентября 1941 года началась ликвидация потерявших управление соединений.
Этот день и стал роковым для студентов-филологов.
Большинство бойцов 277‐го отдельного студенческого батальона были тогда убиты.
И вот, непостижимо как, но переплавлялись в победу и эти, казалось бы, совершенно бессмысленные жертвы! Случайное, но такое знаменательное совпадение – 25 сентября 1941 года, на следующий день после гибели 277‐го отдельного студенческого батальона, фельдмаршал фон Лееб доложил в Берлин, что, исчерпав резервы, прекращает наступление на Ленинград и переходит к обороне.
И совершенно не важно, что фон Лееб наверняка и не слышал о 277‐ом отдельном студенческом батальоне, не существенно, что фельдмаршал протестовал таким образом против изъятия у него XXXXI моторизованного корпуса, который согласно директиве ОКВ № 35 от 6 сентября, он должен был передать группе армий «Центр».
Все получилось так, как получилось, и, возможно, об этом и думал Федор Абрамов, когда писал: «Но это была все же грозная сила. Они остановили немца под Ленинградом. Они выстлали своими телами дороги на подступах Ленинграда. Телами, человечиной, на которых забуксовали немецкие танки».
3
Лишь немногим израненным бойцам 277‐го отдельного студенческого батальона посчастливилось попасть в госпиталя…
Среди этих счастливцев был и Федор Абрамов.
«Карточка учета поступивших в лечебное учреждение
Ф.И.О. Абрамов Федор Александрович, 1920 года рождения, Архангельская обл. Карпогорский р-н, село Веркола
Военное звание: красноармеец, доброволец
Какой части: 277 особый батальон
Поступил в ЭГ 1170 25/IX – 1941
Из: Ижорский военно-морской госпиталь
Помещен в: В.О. 19 линия, д. 20 27/IX
Диагноз, с которым поступил: ранен 24/IX – 1941 г. Сквозное ранение левого предплечья с повреждением кости».[81]81
Архив военно-медицинских документов Министерства обороны СССР, Ленинград. Цит. по: Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 58.
[Закрыть]
В госпитале Федор Абрамов находился меньше двух месяцев.
Советские войска оставили за эти недели Киев и Орел, Белгород и Одессу, немцы вплотную подошли к Москве…
Страшными были эти недели в зажатом блокадным кольцом Ленинграде. Только 13 октября на город было сброшено 12 000 зажигательных бомб.
Ну, а в середине ноября, наступая на Москву, немцы прорвали Калининский фронт, и красноармейца Абрамова, так толком и не вылеченного после ранения, «выпихнули на фронт с висящей, как плеть, рукой. Чтобы заткнуть дыру»[82]82
Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 501.
[Закрыть]…
Никакой дыры на Ленинградском фронте тогда не было, но командование приняло решение активизировать боевые действия со стороны блокадного города, чтобы сковать здесь немецкие части и не позволить перебросить их под Москву.
Это было ужасно и несправедливо по отношению к недолеченному красноармейцу Абрамову, но это было в блокадном Ленинграде, где 20 ноября прошло пятое по счету снижение продовольственных норм. Рабочим начали выдавать 250 граммов хлеба, служащим, детям и иждивенцам – 125.
Кормить солдат тоже было нечем…
Целесообразнее было им умереть, сковывая противника…
4
На этот раз рядовой 1‐го ударного батальона 325 стрелкового полка 70 стрелковой дивизии Абрамов провел в действующей армии десять дней.
Из них почти целые сутки – на передке.
Это была уже другая армия, совершенно непохожая на 277‐й отдельный студенческий батальон. В батальоне Абрамова окружали товарищи по университету, и хотя шла война, но университетские отношения продолжались и, может быть, отношения эти загромождали солдатскую жизни, но вместе с тем делали ее по-человечески осмысленной.
Теперь красноармейца Абрамова окружали чужие люди.
Возможно, Федор со временем подружился бы с ними, но даже толком познакомиться ему не дали времени.
Пока батальон находился на формировании, Абрамову присвоили военную специальность пулеметчика, однако применить полученные умения в бою ему не довелось.
«28 ноября утром при наступлении полка (названия роты не знаю, ибо в бой вступили перед утром прямо с марша) я был вторично тяжело ранен. Разрывной пулей у меня пробило обе ноги в верхней области бедер»[83]83
Абрамов Ф. О войне и о победе. СПб., 2005. С. 186.
[Закрыть].
В отличие от петергофских месяцев, о дне 28 ноября 1941 года не сохранилось никаких воспоминаний, кроме немногословных рассказов самого Федора Абрамова…
«Нашему взводу был дан приказ проделать проходы в проволочных заграждениях в переднем крае вражеской обороны… Ну что же, мы поползли с ножницами в руках…
Указали, кому ползти первым, кому за ним следом и так далее…
Я попал во второй десяток, мне повезло. Когда убивало ползущего впереди, можно было укрыться за его телом на какое-то время…
От взвода в живых осталось несколько человек»[84]84
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 59.
[Закрыть]…
Место, где штурмовал проволочные заграждения красноармеец Абрамов, находилось юго-восточнее Колпино, а бой, в котором должна была оборваться его жизнь, официально назывался боем за 2‐й противотанковый ров.
Этот ров глубиной три метра и шириной восемь метров начинался от поселка Ям-Ижоры, пересекал Октябрьскую железную дорогу и за зданием завода «Ленспиртстрой» выходил на Неву. В результате сентябрьских боев советские бойцы сумели удержать лишь два с половиной километра рва.
Теперь, в середине ноября, когда немцы проложили по обеим сторонам рва три ряда проволочных заграждений и разместили свои огневые точки, сковывая противника, 55‐й армии была поставлена задача отбить ров у немцев.
Армию – для этого и выписывали недолеченного красноармейца Абрамова из госпиталя – доукомплектовали, и 25 ноября отдали приказ о наступлении.
В кровопролитный бой бросили и 70‐ю дивизию, в которой находился 1‐ый ударный батальон с красноармейцем Абрамовым.
В бой, как вспоминал Федор Абрамов, вступили перед утром прямо с марша, и даже номера своих рот оставались неизвестны солдатам, которых посылали на верную смерть…
«Ни одного, ни одного знакомого не было со мною, когда меня ранило второй раз», – запишет Федор Абрамов в дневнике 28 ноября 1981 года, на сороковую годовщину своего дня, проведенного на передке возле 2‐го противотанкового рва.
И это, пожалуй, еще страшнее, чем сам – такой жутковатый! – рассказ об атаке 28 ноября 1941 года.
Все были чужими друг другу в том страшном бою.
По одной из версий рассказа Федора Абрамова, он пролежал весь день раненный, уже потерял сознание и, наверное, замерз бы, но вечером появилась похоронная команда, которая собирала убитых…
Усталый боец, споткнувшись около Федора Абрамова, нечаянно пролил ему на лицо горячую воду из котелка, – Абрамов очнулся и застонал.
Однако в этом рассказе не сходятся концы с концами.
С какой стати похоронная команда будет бродить возле немецких укреплений, которые отобьют только через месяц кровопролитных боев?
Более реалистичным представляется рассказ Федора Абрамова, приведенный в воспоминаниях Валентины Гаповой: «От взвода в живых осталось несколько человек… Мне перебило пулями ноги, я истекал кровью… И все-таки мне хватило крови доползти до своих. Мне крупно повезло!»
5
Бои за 2‐й противотанковый ров – обычная, ничем особо ни примечательная, рядовая «мясорубка» войны.
В результате отчаянных атак, завалив ров тысячами солдатских жизней, 55‐й армии к концу года удалось отодвинуть на четыре километра линию фронта.
Сомнительный успех сомнительной операции…
Сам Абрамов ничего не писал об этом, но среди его заметок к рассказу «На поле боя» сохранился набросок, который, как мне кажется, имеет самое непосредственное отношение к событиям 28 ноября 1941 года.
«Раненный солдат (я), лежа в воронке от снаряда, полузасыпанный землей и снегом, вспоминает, о чем думал раненый Андрей Болконский. И ему страстно хочется высокого, чистого неба. Он с усилием устремляет глаза к верху, но там – серая, грязная муть»[85]85
Абрамов Ф. О войне и о победе. С. 126.
[Закрыть].
Эту серую грязную муть беспощадной войны и увидел под Колпино истекающий кровью красноармеец Абрамов, и, собрав последние силы, пополз.
Слава Богу, что ему хватило крови доползти до своих…
Карточка учета
Ф.И.О. Абрамов Федор Александрович
Рожд. 1920, красноармеец, рядовой
Какой части: пулеметчик 70 арт. ордена Ленина дивизии
Поступил в: ЭГ 1170—29/IX – 1941
Помещен в 2013—1/ХII
Дата ранения: 28/XI – 1941
Диагноз, с которым поступил: Пулевое ранение сред. ⅓ обеих бедер, с повреждением кости»[86]86
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 58.
[Закрыть].
Две недели красноармеец Абрамов находился в эвакуационном госпитале № 1170, а 15 декабря, когда ЭГ 1170 разбомбили немецкие самолеты, Абрамова вместе с другими уцелевшими раненными, наспех завернутыми в одеяла, на двух автобусах перевезли в госпиталь № 1012.
Размещался этот госпиталь в здании исторического факультета Ленинградского университета, откуда и уходил Федор Абрамов на фронт.
6
Еще в августе, когда, взяв станцию Мга, немцы перерезали железную дорогу, ведущую в Ленинград, по решению Военного Совета фронта началось создание сети военных госпиталей в самом осажденном городе.
Старинное здание исторического факультета вполне подходило для этой цели. Пологие боковые лестницы, просторный вестибюль, прочные подвалы…
К середине декабря «университетский» госпиталь естественно врос в блокадный пейзаж. Каждое утро медперсонал обнаруживал в сугробах под стенами госпиталя трупы горожан.
Их хоронили в братских траншеях вместе с умершими от ран солдатами…
С начала декабря в госпитале перестало работать центральное отопление, а 10 декабря отключили и электричество.
«Палаты, операционные, рентгеновские кабинеты потонули в кромешной тьме. На дежурных постах и в палатах, в ординаторских замелькали слабые огоньки коптилок, введено «фитильное освещение». В палатах появились «буржуйки», все многочисленные водосточные трубы истфака были сняты, из них мастера, в том числе и ходячие раненые, сработали дымоходные трубы и вывели их прямо в форточки. Холодно, мрачно, замерзшие окна слабо пропускают свет короткого зимнего дня»[87]87
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 62–63.
[Закрыть].
В воспоминаниях Валентины Гаповой подробно описан поздний декабрьский вечер 1941 года, когда в госпитале появился Федор Абрамов.
«Госпиталь погружен во мрак и тишину. Три этажа мужских страданий, особенно там, внизу, – в IX отделении лежат разбившиеся летчики, с ног до головы в гипсовых панцирях. Раненые еще не спят. У одних к ночи сильнее болят раны, более выносливых, идущих на поправку, мучает неутоленный голод, ужин жалкий – немного жидкой каши, кружка чаю, а хлеб съеден утром. На дежурном посту мигающий огонек коптилки бросает тени. Свернувшись от холода, сидим вдвоем с медсестрой соседнего отделения – вся ночь еще впереди»…
И тут ночную тишину засыпающего госпиталя прорезал отчаянный крик.
– Ужин! Ужин! – разносился по всему этажу пронизывающий вопль. – Дайте есть! Есть! Есть!»…
«Не помню, – вспоминает Валентина Гапова, – как вскочила в палату, не помню, чем и как осветила…
Зато отчетливо, совсем наяву – на узкой железной койке худой юноша с непокорной густой шевелюрой, смуглым заострившимся лицом и темными, лихорадочно блестевшими глазами. Укрытый байковым одеялом до пояса, с распахнутым воротом нательной рубашки, приподнявшись на локте, он умолял, просил, кричал вместе с другим новичком дать поесть».
Это были раненые из разбомбленного ЭГ 1170. Их увезли, не покормив, а в госпиталь № 1012 привезли, когда ужин уже закончился.
Этого щедрого довеска мук голода раненые вынести не могли…
И это не они кричали в погруженном в темноту госпитале, это кричало отчаяние людей, про которых забыли, что они все еще не бесчувственные трупы…
7
Вот так неласково встретил Абрамова университет.
И все-таки возвращение сюда стало прорывом к спасению. Из того безразличного, почти неодушевленного пространства смерти, где он был нужен только, чтобы за его трупом мог на какое-то время укрыться ползущий следом боец, он вернулся в пространство жизни, где о нем могли помнить, как о товарище, просто как об однокурснике…
– Вы, кажется, студентка филфака? – обрадовался Абрамов, увидев Валентину Гапову. – А меня вы помните? Я студент третьего курса…
– Помню… – сказала Гапова. – Я со второго курса, но мы ходили к вам на лекции Гуковского.
Где-то бесконечно далеко остались лекции-концерты Гуковского, филология, жаркие споры, Семен Рогинский…
– Может быть, у вас остался кусочек хлеба? – глухо спросил Абрамов. – Хоть корочка?
«Мне нечего было дать, – вспоминает Валентина Гапова. – У меня ничего не было, мы терпеливо ждали утра, а с ним – хлебную норму, которую почти всегда тут же приканчивали, особенно после ночных дежурств…
По темным маршам я спустилась на первый этаж к пищеблоку – все закрыто, глухо, просила у других сестер – ни кусочка сахару, ни корочки. Ни даже кружки горячей воды – с электронагревательными приборами было покончено еще в конце ноября, тогда их оставляли для операционных.
Ночью подошла в палату проверить – жив, дышит, спал, а может быть, тихо лежал[88]88
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 63–64.
[Закрыть].
Утром Абрамов был молчалив и спокоен.
Он терпеливо, полностью сохраняя самообладание, ждал завтрака.
Валентина Гапова измерила ему температуру, помогла умыться – с кружкой холодной воды над тазиком.
Ни тогда, блокадным декабрьским утром 1941 года, ни в послевоенной жизни Федор Абрамов, ни Валентина Гапова больше не вспоминали тот вечер…
8
Рана у Абрамова оказалась тяжелой, хотя и обманчивой на вид.
«В верхней части бедра левой ноги сравнительно небольшая, но глубокая кровоточащая дыра, – вспоминает Валентина Гапова. – В «учетных карточках» вперемежку указано повреждение мягких тканей, то кости и мягких тканей, но почему-то отсутствует запись о том, что перебит был еще и нерв… Нога болталась, как тряпка, ни опереться, ни согнуть – рана не заживала».
Положение усугублялось тем, что происходило это в блокадном Ленинграде, где умирали от истощения и здоровые люди. Где же было организму Абрамова набраться сил, чтобы бороться еще и за выздоровление?
Пребывание Абрамова в госпитале превращалось в затянувшуюся агонию.
В солдатской шапке-ушанке, в рукавицах, прикрытый сверху двумя матрацами, он лежал в нетопленном госпитале с простреленными ногами и уже, как вспоминает Валентина Гапова, не стонал, не кричал, не надоедал жалобами, но постепенно таял, и только глаза его мрачно горели.
«Абрамов всегда казался мне суровым. Свое выстраданное постижение народной истории и народного подвига начиналось у него… в те «железные ночи и дни Ленинграда…
На госпитальной койке у Абрамова хватало тягучего времени для раздумий, здесь шла своя, полная большого духовного напряжения жизнь. Происходила внутренняя работа души, обостренная переживаниями военной службы, неутихающей болью от ран, от бессонницы, от адского недоедания»[89]89
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 56–65.
[Закрыть]…









































