Текст книги "Житие Федора Абрамова"
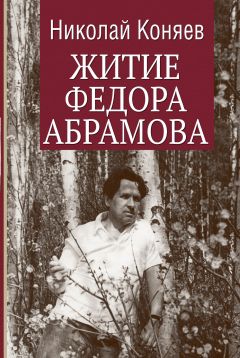
Автор книги: Николай Коняев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
И, конечно же, совсем не случайно совпало это движение с некоторым ужесточением по отношению к деятельности еврейских организаций.
12 октября Министерство Госбезопасности направило в ЦК ВКП(б) и СМ СССР записку «О националистических проявлениях некоторых работников Еврейского антифашистского комитета».
Последовавшая проверка Комитета отделом внешней политики ЦК ВКП(б) установила, что «члены Еврейского антифашистского комитета, забывая о классовом подходе, осуществляют международные контакты с буржуазными деятелями и организациями на националистической основе, а, рассказывая в буржуазных изданиях о жизни советских евреев, преувеличивают их вклад в достижения СССР».
Тут нужно сказать, что развернувшаяся в 1947 году компания борьбы с «низкопоклонством перед Западом», шла параллельно, правда, существенно отставая, от аналогичной компании в США. Любопытно, что приказ Г. Трумэна № 9835 о проверке госслужащих на лояльность, ознаменовавший начало так называемой «охоты на ведьм», вышел 21 марта 1947 года, а постановление «О судах чести в министерствах СССР и центральных ведомствах» только через неделю, 28 марта.
Надо ли добавлять, что «суды чести», которые создавались для воспитания советского патриотизма у ответственных работников и деятелей культуры и науки Совета министров СССР и ЦК ВКП(б), в отличие от проверок, предусмотренных приказом Г. Трумэна № 9835, так и остались на бумаге! О каких «судах чести» могла идти речь, если некоторые руководящие работники партии поставили, как говорил в своем докладе Андрей Александрович Жданов, «во главу угла… интересы личные, приятельские».
3
События эти самым непосредственным образом влияли как на преподавателей, так и на студентов Ленинградского университета.
По-прежнему, с необыкновенным упорством учился Абрамов, своим трудом и решимостью перекидывая мост через четыре пропущенных для учебы года.
И по-прежнему, как свидетельствует его однокурсница Л.С. Левитан, «не все понимали, что рядом с нами талантливый человек, будущий большой писатель. Ходили какие-то смутные слухи о том, что у Федора в чемодане под кроватью лежит какая-то рукопись, и это вызывало смех: «Федька роман пишет. Ха-ха-ха!»[126]126
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 80.
[Закрыть].
Но, конечно, это был уже не довоенный, а совершенно другой, новый Абрамов…
И хотя по-прежнему, он «любил изображать простачка, прикидываться деревенщиной: мы, дескать, мужики, наше дело за плугом ходить, мы этих тонкостей ваших не понимаем», хотя по-прежнему, «взаправду считал, что его истинное дело – пахать и косить», хотя по-прежнему корил себя, что оторвался от родной деревни и занимается чем-то, его землякам непонятным и бесполезным, уже совершенно невозможно было представить, чтобы какой-то факультетский остроумец осмелился, подобно Семену Рогинскому, высмеять его, заставив объяснять, чем не хорошо с марксистской точки зрения русское крестьянство.
За четыре года войны жестче стал характер Абрамова, решительнее суждения. Однокурсники вспоминают, что Абрамов не боялся ниспровергать авторитеты и высказывать свое мнение. Причем решительности порою он проявлял больше, чем знаний.
Однажды на семинаре, которым руководил Дмитрий Евгеньевич Максимов, читавший «Теорию литературы» и «Историю русской литературы конца XIX начала XX века», после нескольких ничего не значащих вопросов поднялся Федор Абрамов и сказал:
– Вот вы утверждаете, что Блок – народный поэт, что он болеет за русский народ, выражает его чувства и интересы. Я этого не вижу. По-моему, Блок от народа далек и жизни его не знает. «Ты видел ли детей в Париже Иль нищих на мосту зимой?» «Детей в Париже»! Детей в Питере или в русской деревне он не видит!.. Нет, я не считаю Блока народным поэтом, не вижу в нем близости к народу.
Дмитрий Евгеньевич Максимов, большой знаток Блока, естественно легко мог опровергнуть этот наскок и доказать, что народность присутствует и в процитированном Абрамовым, кричащем противоречиями стихотворении из цикла «Ямбы»:
Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Все льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.
Туда, туда, смиренней, ниже, —
Оттуда зримей мир иной…
Ты видел ли детей в Париже,
Иль нищих на мосту зимой?
На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне, —
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки…
Не можешь – дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть…
Но только – лживой жизни этой
Румяна жирные сотри,
Как боязливый крот, от света
Заройся в землю – там замри,
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, —
Дням настоящим молвив: Нет!
Наверняка Дмитрий Евгеньевич мог процитировать блоковские слова из письма Андрею Белому: «Все дело в том, есть ли сейчас в России хоть один человек, который здраво, честно, наяву и по-божьи (т. е. имея в себе в самых скрытых глубинах скрытое, но верное «Да») сумел бы сказать «НЕТ» всему настоящему».
Наверняка говорил Дмитрий Евгеньевич, что в одном только четверостишье Блока:
Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели:
Молчали желтые и синие:
В зеленых плакали и пели…
– народности больше, чем в ином крестьянском поэте, но переубедить Федора Абрамова не смог.
«Дискуссия продолжалась около часу.
Мы, затаив дыхание, прислушивались к спору, никто не рискнул вмешаться. Д.Е. Максимов переубеждал Абрамова, но успеха не достиг, Федор остался при своем мнении. Дело кончилось тем, что Дмитрий Евгеньевич попросил у Абрамова зачетку. Федор с обескураженным и растерянным лицом подал ее – и получил обратно с оценкой «отлично» за предстоявший и выдержанный таким образом экзамен».
Тот факт, что Дмитрий Евгеньевич Максимов, не сумев переубедить Абрамова, ставит ему «отлично», Л.С. Левитан трактует как подтверждение необыкновенно глубоких знаний Абрамова.
Нам представляется более верным другое объяснение поступка Максимова.
Разумеется, отрицая народность Александра Блока, Абрамов был не прав. Но в его неправоте была такая глубокая народная боль, опровергнуть которую было невозможно.
«За войну какие муки ни приняли пекашинцы, а лес сравнить не с чем. Лес всем мукам мука… – напишет Федор Абрамов в романе «Братья и сестры». – Гнали стариков, рваных-перерваных работой, подростков снимали с ученья, девчушек сопленосых к ели ставили. А бабы, детные бабы, – что они вынесли за эти годы! Вот уж им-то скидки не было никакой – ни по годам, ни по чему другому. Хоть околей, хоть издохни в лесу, а в барак без нормы не возвращайся. Не смей, такая-разэдакая! Дай кубики! Фронт требует! И добро бы хоть они, бедные, пайку свою съедали, а то ведь нет. Детям сперва надо голодный рот заткнуть».
Думаешь о «девчушках сопленосых», которых на Пинеге ставили к елям, и как-то иначе начинаешь воспринимать трагедию жизни, оборвавшейся под насыпью, во рву некошеном…
И, наверное, эта-то абрамовская правота неправоты, которую сумел почувствовать Дмитрий Евгеньевич Максимов и была оценена отметкой «отлично».
4
На четвертом курсе университета Федор Абрамов начал заниматься в кружке советской литературы, которым руководил Евгений Иванович Наумов.
Евгений Иванович, хотя и поступил в аспирантуру еще в 1939 году, кандидатскую диссертацию «Маяковский в первые годы советской власти»[127]127
Это была первая кандидатская диссертация по советской литературе, защищенная в Ленинградском университете.
[Закрыть] защитил только в 1947 году…
Научной работе Евгения Ивановича помешала война.
Все военные годы он самоотверженно трудился в должности первого помощника секретаря Ташкентского обкома партии, и, когда вернулся в Ленинградский университет, ему, как и Абрамову, пришлось наверстывать упущенное. Одновременно с преподавательской деятельностью Евгений Иванович Наумов работал главным редактором Ленинградского отделения «Советского писателя».
В кружке Евгения Ивановича и написал Федор Абрамов первую литературоведческую работу «Советская русская проза в 1946 году».
«Важнейшим событием идеологической жизни нашего народа в 1946 году были постановления ЦК ВКП(б) и доклад т. Жданова о литературе и искусстве, требующие правдивого художественного изображения нашей советской действительности и дающие единственно правильный критерий для оценки произведений литературы и искусства»[128]128
Цитируется по рукописи.
[Закрыть]…
С этими критериями и подошел студент Абрамов к рассмотрению произведений П. Вершигоры «Люди с чистой совестью», В. Некрасова «В окопах Сталинграда», К. Симонова «Дни и ночи», В. Пановой «Спутники», Г. Березко «Ночь полководца», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».
Обстоятельно и глубоко проанализировав эти романы и повести, которые, по мнению автора, представляли значительный шаг в «художественном осмыслении и обобщении опыта Отечественной войны, воссоздании образа советского человека – воина-победителя», Федор Абрамов перешел к анализу романа Анны Караваевой «Разбег» и повести Г. Медынского «Марья».
«Персоналии М. Караваевой в основном можно разделить на две категории: идеальные от рождения и нуждающиеся в небольшом исправлении… – пишет Абрамов. – Воспитание последних осуществляется первыми по одному рецепту. Объекту воспитания ставится один или несколько вопросов, из ответов на которые выясняется его непонимание или несознательность, затем поучающий читает длинную нотацию и результат обеспечен».
Неудача, по мнению Федора Абрамова, постигла и Г. Медынского в повести «Марья», хотя «тема, которую ставит Г. Медынский, очень актуальна, и почти не разработана в литературе военных лет. Это тема о роли женщины в колхозной деревне во время войны».
Причины неудачи в том, что ни Марья, ни другие персонажи не оживают на страницах повести. «Их внешность, поступки и речь даны разобщено, отдельными штрихами и не составляют цельного единого образа».
Статья «Советская русская проза в 1946 году» выделялась из студенческих работ и объемом и обстоятельностью.
Кажется, все более или менее заметные прозаические произведения, опубликованные в 1946 году, были отмечены и проанализированы в этой работе.
Л.С. Левитан[129]129
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 80–81.
[Закрыть] почему-то считает, что работа эта была создана Федором Абрамовым в соавторстве с нею, но сохранившийся в архиве писателя текст, написан рукою одного только Федора Абрамова, на единоличное авторство указывают и такие стилистические конструкции, как, например, фраза на девятой странице: «Я имею в виду роман В. Некрасова «Сталинград»… В чем заключалась роль Л.С. Левитан, как соавтора – неизвестно.
Доклад этот был прочитан Федором Абрамовым на общеуниверситетской студенческой научной конференции и тепло встречен слушателями.
В заметке «Обсуждаем произведения советских писателей», помещенной в университетской многотиражке под рубрикой «Студенческая конференция «Наука, литература и искусство в новой сталинской пятилетке» и подписанной, кстати сказать, Л. Левитан, было сказано:
«На заседании, посвященном прозе, Ф. Абрамов дал в своем докладе глубокий и обстоятельный анализ важнейших литературных произведений 1946 года. Он сделал вывод о том, что наиболее удачными в советской литературе являются произведения, в которых герой рассматривается в неразрывной связи с коллективом, на боевом или трудовом посту преодолевающим трудности и в то же время имеет индивидуальный характер»[130]130
Ленинградский университет. 1947. № 14.
[Закрыть].
«Прочитанный им доклад… произвел на меня сильное впечатление, – вспоминает Федор Мельников. – Сам же автор покорил меня окончательно завидной работоспособностью, дотошностью исследовательского духа, конструктивностью мышления»[131]131
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 83.
[Закрыть].
5
«Где-то шумела большая жизнь, где-то жили крылатые люди-богатыри, которые ежедневно и ежечасно совершали подвиги во славу родины и красочно рассказывали о них в своих письмах и рапортах.
А что в Пекашине? Какая жизнь?
Снежные суметы вровень с окошками. Мутный рассвет в десятом часу утра.
Днем прочиликает, утопая в сугробах, стайка детишек, возвращающихся из школы, проскрипит воз с дровами или с сеном, еще покажется в своем ежедневном обходе очкастый Ося-агент, от которого, как от чумы, шарахаются бабы, – и вечер. Длинный вечер с дымной лучиной, с одной и той же заботой – что будем жрать завтра. Потом ночь. Хочешь – дави печную кирпичину, хочешь – смотри бесплатное кино: северное сияние. Хоть всю ночь. И со звуком. Проклятая Векша из себя выходит, когда в морозном небе за деревней начинают плясать и переливаться серебряные сполохи».
Так опишет Федор Абрамов в романе «Две зимы и три лета» зиму 1947 года.
Двадцать пять лет прошло, как лишилась семья Абрамовых отца.
Четверть века назад, когда гроб с телом отца еще стоял в избе, и сердобольные женщины плакали, упрашивая Бога, чтобы «прибрал малого» – двухлетнего Федора, Степанида Павловна сердито прикрикнула на них.
Женщины смолкли, полагая, что молодая вдова помешалась с горя, ведь они хотели облегчить ее участь…
Но такого облегчения не требовалось Степаниде Павловне, она одна вырастила детей, и теперь, когда старшие уже завели семьи, а младший Федор завершал учебу в Ленинградском государственном университете, умерла.
Умерла так же тихо и незаметно, как и жила.
На похороны Федор не попал, и только летом приехал на могилу матери.
«Вечером ко мне пришел Степан Андрианович. Он предложил сходить на могилу вместе. Я согласился.
Очутившись у могилы, мы долго стояли, молча, по обеим сторонам. Мне вспомнилась вся тяжелая, но благородная жизнь Матери моей. И слезы благодарного благоговения выступили на глазах. Я сказал:
– Здесь покоится большой души человек.
– Да, – ответил Степан Андрианович. – Степанида Павловна была большой человек.
И вдруг он разразился отчаянными рыданиями. Было жутко, что это плакал старик. Обессиленный рыданиями, он упал, распростершись, на могилу и сказал:
– Скоро, Степаша, и я к тебе приду. Теперь уж навсегда»[132]132
Записи Федора Абрамова, озаглавленные «Новый роман».
[Закрыть]…
Если в романное время «Братьев и сестер» (1942 год в Верколе) Федора Абрамова привели тяжелые ранения, полученные в боях за второй противотанковый ров, то смерть матери заводила его в роман «Две зимы и три лета», где первую свою тропу выздоравливающий Михаил Пряслин проложит на кладбище, на могилу Тимофея Лобанова…
«Песчаные холмики недавно подправлены, обложены свежим дерном. Следы ребячьих босых ног возле могил.
Наверно, это Анисья со своими ребятами была, подумал Михаил.
Над головой низко, толчками пролетела белобокая сорока, затем покачалась на тонкой сосне-жердинке, возле которой был похоронен старый цыган, умерший еще до войны, и нырнула вниз – должно быть, увидела бутылочные осколки. Много там раньше валялось этого добра. Цыгане, проезжая через Пекашино, каждый раз справляли на могиле поминки.
Столб на могиле Трофима комлеватый, смоляной – долго простоит. А Тимофею и тут не повезло. Воткнули какой-то еловый кряжишко, от которого даже в печи не было бы ни жару, ни пару, наскоро оболванили топором, и хватит с тебя. Только кто-то из баб – Анисья или сестра Александра – немного приукрасил кряжик, повязав на него красную ленточку»…
Стоя возле украшенного ленточкой елового колышка на могиле Тимофея Лобанова, будет вспоминать Михаил Пряслин, как шел дождь и под полозьями шипел мокрый снег, когда он вез из больницы тело Тимофея и все думал, думал: кого он везет? Что за человек лежит там, на санях, прикрытый старой шинелишкой, которого он еще четыре дня назад гнал в лес? И вот Тимофей умер. Не притворялся, не симулировал. Рак в брюхе носил. А ему не верили…
«Тихо, безветренно было на кладбище. Пригревало солнышко. Молодая смола искрилась на сосновых иглах, а ему было зябко. И в мозгу тяжело, как перегруженные зерном жернова, ворочались непривычные мысли.
Ах, жизнь, жизнь… Неужели и дальше так будет?
Неужели нельзя иначе?».
Эти страницы Федор Александрович Абрамов напишет, спустя почти два десятилетия, а стоя у могилы матери, он просто вспоминал страшную осень 1932 года, когда – «О, сколько слез, сколько мук, сколько отчаяния было тогда у меня, двенадцатилетнего ребенка!» – ненавидел и клял мать за жадность к работе, которая в результате обрекла семью на бесправное состояние русских крестьян-середняков.
И как в голове Михаила Пряслина, «тяжело, как перегруженные зерном жернова, ворочались непривычные мысли»…
Действительно…
Неужели и дальше так будет?
Неужели и после страшной, с ее кровопролитными боями за второй противотанковый ров войны, нельзя иначе? Неужели и дальше русские люди должны покорно вслушиваться в приказы плохо говорящих по-русски начальников и покорно исполнять их, обвиняя друг друга во всех своих несчастьях, и ненавидя за это друг друга?
6
Возвращаясь в Ленинград, Федор Абрамов прочитал в «Правде» статью Дмитрия Шепилова «Советский патриотизм»[133]133
Правда. 11 августа 1947 года.
[Закрыть], ошеломившую его своей созвучностью тому, что он уже давно смутно ощущал в себе.
«Известно, что еще начиная с XVIII века, в страну мутным потоком хлынули из-за границы всякого рода иноземные стяжатели и авантюристы, – писал Дмитрий Шепилов. – Они рядились в тогу представителей высшей расы и высшей культуры. Гипертрофированное самомнение и глубокое презрение к русскому народу было символом веры этих «культуртрегеров» И немудрено, ибо в то время даже такой крупный представитель французской просветительной философии, как Вольтер, с которым заигрывала Екатерина II, писал «Народ – это рабочий скот – ему нужен кнут, ярмо и корм». Преклонение перед иностранщиной, «нечистый этот дух пустого рабского, слепого подражания» (Грибоедов) стал дурной болезнью российского дворянства»…
Совершив обстоятельный исторический экскурс, Шепилов переходил к современности.
«Чувство гадости, – писал он, – вызывают интеллигенты, испытывающие низкопоклонство перед всем иностранным… Наша славная интеллигенция не хочет терпеть и отдельных фактов национального самоуничижения советских людей. Потери ими чувства собственного достоинства»…
Откладывая газету, Федор Абрамов уже не сомневался, что статья эта станет важным и узловым моментом в идеологическом перевооружении страны…
Предпринятая в те далекие годы попытка идеологического перевооружения страны предана сейчас нашими либеральными историками анафеме, но в конце сороковых годов, когда компания только разворачивалась, она позволила провести насущные и крайне необходимые стране экономические и идеологические реформы.
Хотя страна только начинала приходить в себя после страшной засухи 1946 года, уже 14 декабря 1947 года – вот она великая сила патриотизма! – было выпущено постановление «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары».
В результате реформы, обменивая банковские и казначейские билеты в соотношении 10 к 1, удалось изъять значительные средства у разжиревших в послевоенные годы спекулянтов. Заработная плата после обмена выплачивалась новыми деньгами в прежнем размере. Все было сделано, чтобы не пострадал простой народ. Вклады до 3 тысяч рублей обменивались 1: 1, а свыше 10 тысяч рублей – 1: 2. Одновременно была проведена отмена карточной системы распределения продовольственных и промышленных товаров…
В архиве писателя сохранилась вырезка из газеты, выпущенной ко Дню Конституции 1947 года.
Д. Трахтенберг запечатлел группу студентов в Актовом зале университета. В центре – Федор Абрамов в офицерском мундире с орденом…
Подпись под фотографией гласит: «Представители сорока двух национальностей учатся на факультетах Ленинградского университета. Это дружный, сплоченный студенческий коллектив. Его объединяет горячая любовь к своей Родине, которая впервые в мире утвердила великое братство народов. На снимке группа студентов (слева направо): узбек А.А. Бурибеков, украинец А.Ф. Бережной, бурятка Р.С. Таихасаева, белорус М.И. Анисов, русский Ф.А. Абрамов, казашка К. Нургалиева, грузин Ю.А. Нацваладзе».
Все студенты улыбаются, но самая радостная, обращенная в будущее улыбка на лице Федора Абрамова.
Смотришь на эту фотографию и понимаешь, что к этой фотографии вместо подписи вполне можно было бы поставить цитату из статьи Дмитрия Шепилова о том, что «советский патриотизм отлился как золотой сгусток самых возвышенных и благородных черт нашего народа».
7
Именно в эти месяцы всенародного подъема и завершает Федор Абрамов учебу на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. Получив диплом с отличием, поступает он в аспирантуру на кафедру советской литературы.
Темой своей диссертации Федор Абрамов избрал «Поднятую целину» Михаила Шолохова[134]134
Правильнее сказать: первую книгу «Поднятой целины». Когда Абрамов писал диссертацию, М.А. Шолохов еще продолжал работать над второй книгой романа. Кстати сказать, оценка Федором Абрамовым второй книги «Поднятой целины» была не столь восторженной, как первой.
[Закрыть].
«Шолохову как писателю свойственна одна важная черта – историзм художественного мышления, – считал Федор Абрамов. – В частности он выражается в том, что Шолохов с редким мастерством изображает те общественно-политические и культурные изменения, которые вносит эпоха в поведение и сознание людей, их речь…»[135]135
Вестник Ленинградского университета № 173. Л., 1949. С. 78.
[Закрыть].
Художник Федор Мельников вспоминает, что осенью 1948 года, по дороге в баню, Федор Абрамов принялся рассказывать о деревенской жизни, а потом в бане, стоя в большой очереди на лестнице, начал читать отдельные заметки.
«В них были те же сюжеты, что он рассказывал по дороге. Меня задел за живое язык. В этих набросках зарождались отдельные эпизоды и лица героев будущего романа. По этому поводу я откровенно и, может быть, даже «шумно» выразил свои чувства восторга и одобрения. Я посоветовал ему настоятельно все это развивать в большую книгу… Помню, я тогда ему сказал, что деревенские его записки ни в какое сравнение не идут с тем, что он мне читал до этого, что здесь все есть, чтобы сделать роман, которого не было со времен «Поднятой целины»[136]136
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 84.
[Закрыть]…
Думается, не случайно возникает «Поднятая целина» в воспоминаниях Федора Мельникова. Видимо, рассказывая о своем замысле, Федор Абрамов упоминал и роман М.А. Шолохова.
Действительно, когда читаешь его статью «О «Поднятой целине» Шолохова, захватывает не только глубокий и сочувственный анализ образов «Поднятой целины», но и явственно обозначаемое соотношение их с образами будущих романов самого Федора Абрамова:
«Многогранное изображение личности героя, показ ее в разнообразных поступках и проявлениях внутренней жизни отличительная черта шолоховского таланта.
Простые неграмотные казаки из «Тихого Дона» поражают нас глубиной и богатством своих переживаний и чувств. Малограмотный казак Кондрат Майданников из «Поднятой целины» «думает о нужде, которую терпит строящая пятилетку страна», размышляет о судьбах мира.
Этот принцип многогранного изображения героя Шолохову удалось в «Поднятой целине» применить и к рабочему…
Давыдов изображен в процессе напряженной и непрерывной деятельности, в постоянном и многообразном общении с другими персонажами романа. Почти все действующие лица романа дают ему оценку и характеристику: «Ходит-то, сукин сын! Будто всей земле хозяин!» – со злобой и страхом думает о нем Островнов. «Веселый он человек, как и я…» – отзывается о Давыдове дед Щукарь. «Ты – как железный аршин-складень» – в этих словах Нагульнова подчеркнута твердость характера рабочего-коммуниста. Разметнов отмечает в Давыдове нравственную чистоту. По мнению Лушки, Давыдов «простой, широкоплечий и милый парень»…
Все эти оценки, раскрывающие разные стороны личности Давыдова, реализуются в действиях и поступках героя. Такой двойной способ характеристики основного героя романа придает его образу особенно яркую выразительность, почти материальную ощутимость».
Можно, разумеется, найти и в «Братьях и сестрах» Федора Абрамова сходные приемы. По наблюдению И.С. Маслова, Анфиса словно растворяется в работе, «заполняя своими переживаниями думы и чаяния людей, само тревожное время, будь то весенний сев, трудная страда или надрывная косовица, передавая пекашинцам чувство собственной уверенности в достижении намеченного. Трудолюбие героини показывается писателем как изначальное качество характера, направленное на созидание. Анфиса больше всего боится сделать меньше того, что в ее силах. Ф. Абрамов не всегда изображает Минину в массовых сценах работы, но каждый раз ее присутствие остается осязаемым, а напряженность переживаний героини усиливает драматизм повествования, то выявляя в отдельности каждый характер, то словно сводя всех воедино, тем самым укрупняя трагическую цельность всех пекашинцев и каждого из них в отдельности»[137]137
Маслов И. Федор Абрамов. Повесть-исследование. Харьков: Майдан, 2005. С. 39.
[Закрыть].
И все же важнее другое…
«Поднятая целина» это не просто образец, на который ориентируется Федор Абрамов, обдумывая свой первый роман, это точка отсчета, с «Поднятой целиной» сверяет Абрамов в конце сороковых – начале пятидесятых годов и поступки своих героев, и свои собственные.
«Давыдов не противопоставляет настоящее будущему, – пишет он. – Суровая героическая современность создает будущее. Она сама по себе прекрасна. У Давыдова нет ни отрешенности от жизни, ни чувства аскетизма… Он борется за счастье народа и свое личное счастье находит в этой борьбе».
С известной поправкой слова эти можно применить и к личной жизни аспиранта Федора Абрамова.
«Как юношеский пух со щек, хваченных фронтовой бритвой, сходила увлеченность французским романтизмом, влюбленность в высокий строй гекзаметров Гомера, казалась пресной трагическая обреченность героев Шекспира… – справедливо отмечает Л. Ханбеков. – Все отступало перед стремлением постичь истоки русского национального характера, истоки необоримой силы молодого советского общества, выдержавшего невиданное испытание – нашествие фашистских орд»[138]138
Ханбеков Л. Веленьем совести и долга: Очерк творчества Федора Абрамова. М.: Современник, 1989. С. 11.
[Закрыть].
Если судить по статье «Проблема типического – важнейшая проблема литературы»[139]139
Вестник Ленинградского университета № 12. Серия общественных наук. Л., 1953.
[Закрыть], Федор Абрамов достаточно хорошо усвоил тогда дух намеченного И.В. Сталиным преображения страны и способен был занять место среди новых идеологов, призываемых разработать идеологическое обеспечение осуществляемого поворота.
«Исторические постановления ЦК партии 1946—48 гг., работа И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», – отмечал Федор Абрамов, – а так же разгром космополитов и формалистов, разоблачение рецидивов рапповщины и пролеткультовщины[140]140
Уместно напомнить тут, что только 28 июня 1949 года улице Пролеткульта в Ленинграде было возвращено ее родное название – Малая Садовая.
[Закрыть], разоблачение антимарксистской теории бесконфликтности в драматургии – все это оказало самое благотворное воздействие на развитие советской литературы в послевоенный период.
Однако в развитии советской литературы и искусства имеются и серьезные недостатки…
Каковы же причины этих недостатков?
Одной из главных причин явилась широко распространенная среди писателей и критиков механистическая теория типического, как среднестатистического, количественно преобладающего, наиболее распространенного. Эта теория нанесла немалый вред советской литературе и искусству. Вредоносность ее состоит прежде всего в том, что она своим острием направлена против отражения в литературе всего нового, возникающего в жизни, которое не будучи количественно преобладающим в действительности, объявлялось сторонниками этой теории не типичным, а следовательно, не жизненным, не правдивым»[141]141
Вестник Ленинградского университета № 12. Серия общественных наук. Л., 1953. С. 75–76.
[Закрыть].
8
Как раз в аспирантские годы происходит сближение Федора Абрамова с Людмилой Владимировной Крутиковой, которая еще до войны была однокурсницей его, но – так сложилась жизнь! – попала в войну под оккупацию, и завершала высшее образование в Харькове.
В Ленинградский государственный университет она вернулась уже в качестве аспирантки.
Здесь она и познакомилась с Федором Абрамовым, который помнил ее еще по довоенной учебе.
Абрамов показался Людмиле Владимировне «отчаянным социологом», коммунистом, считавшим своим долгом исполнение всех партийных постановлений и поручений[142]142
Крутикова-Абрамова Л.В. Жива Россия. СПб.: АТОН, 2003. С. 38.
[Закрыть].
Впечатление, отчасти, верное, но идеология не помешала сближению аспирантов…
Насколько полезным это было для самого Федора Александровича Абрамова, мы еще будем говорить, но именно Людмила Владимировна помогла Абрамову наконец-то освоиться в городской жизни.
Хотя в послевоенные годы Федор Абрамов никого особенно не боялся, ни перед кем не заискивал, но по-прежнему он отсылал часть своей аспирантской стипендии в деревню брату, чтобы тот мог заплатить налоги, и жил очень бедно, ощущая себя порою среди старожилов филфака жителем другой планеты.
«Помню, – вспоминает Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова, – как он обедал у меня в общежитии и не хотел есть помидоры, однозначно объяснив: у нас их не едят. Я долго удивлялась, а потом поняла: в их далекой деревне в пору его детства и молодости никогда не было помидоров. Гречневую кашу, лучшую, по моим понятиям, он тоже долго отвергал, считая более вкусной пшенную. Когда я возражала, он с гневом обрушивался на меня и всех городских жителей, считая, что мы повинны в полуголодном существовании деревни. Я не раз с болью слышала его признания, что после моих обедов он чуть ли не впервые за тридцать лет перестал ощущать голод, досыта наелся»[143]143
Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 93.
[Закрыть].
Не помешало сближению молодых аспирантов и «темное» пятно в анкете Людмилы Владимировны Крутиковой …
Разумеется, Федор Абрамов, вооруженный опытом работы в СМЕРШе, понимал, что создание семьи с человеком, побывавшим на оккупированных территориях, не лучшим образом скажется на его карьере, но, видимо, и тогда он не считал карьеру – главной целью своей жизни.
Между тем, разрушая закономерную череду в общем-то благоприятных для страны событий, в спецсанатории ЦК ВКП(б) на Валдае разыгралась трагедия.
31 августа 1948 года здесь умер член Политбюро ЦК ВКП(б) Андрей Александрович Жданов. Было ему всего 52 года, он ничем не болел и внезапная смерть его не поддается объяснению.
По одной версии, главного партийного идеолога убили на охоте сотрудники возглавляемого В.С. Абакумовым Министерства государственной безопасности. По другой – Андрея Андреевича отравили лечившие его врачи, чтобы остановить развернутую Андреем Александровичем компанию идеологического перевооружения страны. Впрочем, если учесть, что в дальнейшем В.С. Абакумова обвинят в организации внутри МГБ преступной группы еврейских националистов[144]144
Дополнительное обвинение от 3 ноября 1952 года.
[Закрыть], особой разницы между этими версиями нет.
Так или иначе, но гибель А.А. Жданова стала невосполнимой потерей для нашей страны.
Вроде бы продолжалась развернутая по инициативе А.А. Жданова компания… 20 ноября 1948 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о роспуске Еврейского антифашистского комитета. 21 января 1949 года за утерю секретных документов арестовали жену наркома иностранных дел В.М. Молотова Полину Жемчужникову, а через пять дней начались аресты и других видных деятелей еврейского движения. Арестовали бывшего начальника Совинформбюро, руководителя Еврейского антифашистского комитета А. Лозовского (Соломона Абрамовича Дридзо), членов комитета Б.А. Шимелиовича, И.С. Юзефовича, Л.М. Квитко, П.Д. Маркиша, Д.Р. Бергельсона, И.С. Ватенберга, Ч.С. Ватенберг-Островскую, Э.И. Теумина.
Ну а 28 января 1949 года после публикации в газете «Правда» статьи «Об одной антипартийной группе театральных критиков», призвавшей «решительно, раз и навсегда покончить с либеральным попустительством всем этим эстетствующим ничтожествам, лишенным здорового чувства любви к Родине и к народу, не имеющим за душой ничего, кроме злопыхательства и раздутого самомнения», началась и компания борьбы с «безродными космополитами».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































