Читать книгу "О Набокове и прочем. Статьи, рецензии, публикации"
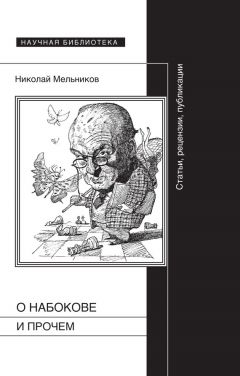
Автор книги: Николай Мельников
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Как справедливо замечал Борис Поплавский: «Журнал не есть механическое соединение людей и талантов, людей даже самых крупных, талантливых, даже первоклассных. Журнал есть идеология или инициатива идеологии»6868
Поплавский Б. Вокруг «Чисел» // Числа. 1934. № 10. С. 209.
[Закрыть]. Исходя из подобного понимания феномена «Чисел» (а именно этот журнал имел в виду Поплавский), едва ли мы сможем согласиться с теми, кто в качестве главной причины исследуемого нами конфликта будет выставлять козни Георгия Иванова, обиду Набокова или личные свойства соперников. Многие особенности войны «до последней капли чернил» позволяют говорить не только о столкновении двух не слишком симпатизирующих друг другу творческих личностей, не только об интригах и зависти, но и о противоборстве антагонистичных эстетико-философских мировоззрений, если хотите – литературных идеологий.
Безусловно, эстетические взгляды Набокова и «парижан» в чем-то совпадали. И Набоков, и авторы «Чисел» неизменно отстаивали принцип свободного творчества и ратовали за искусство, не зависящее ни от «политического террора эмигрантщины» и «невыносимого лицемерия общественников» (Б. Поплавский), ни от «тяжеловесных проповедей» профессиональных моралистов и патентованных пророков. «Навязывать искусству воспитательные задачи – значит ошибаться в его природе, именно в свободе искусства, и только в ней, есть что-то высоко моральное», – нет, это не Набоков, но, думаю, под этой фразой, взятой из статьи Николая Оцупа6969
Оцуп Н. Вместо ответа // Числа. 1931. № 4. С. 158.
[Закрыть], писатель охотно бы поставил свою подпись (если бы ему не сказали, что ее автор – главный редактор «Чисел»).
Живя в двух сосуществовавших мирах – русском прошлом и эмигрантском настоящем, – и Набоков, и его «идеологические противники» из «Чисел» в равной степени вбирали в себя культурные и философские традиции России и Запада. Открещиваясь от литературных староверов, с их «бесконечными описаниями березок» (Б. Поплавский), они живо откликались на новые веяния европейской литературы, поклонялись одним и тем же «литературным богам»: Прусту, Джойсу, Кафке… Наконец, их объединяла – должна была объединять! – общая судьба никому не нужных, полунищих эмигрантских литераторов, отвергнутых родиной. Общими были многие темы и сквозные мотивы их произведений: тема герметичного одиночества современного человека, «не могущего приспособиться не только к какой-либо социальной среде, но и ни к какому вообще общению с людьми» (В. Варшавский), мучительное чувство любви-ненависти к России, «бремя памяти» (М. Кантор), позволяющей вызвать из небытия драгоценные подробности прошлого и преодолеть безличное течение повседневной действительности, и т.д.
И в то же время слишком многое – как в плане эстетических взглядов и мировоззренческих принципов, так и в плане творчества – разделяло Набокова и его парижских собратьев по перу непреодолимой стеной враждебного отчуждения.
Не секрет, что Набоков резко отрицательно относился к основным эстетическим положениям «парижской ноты» – поэтического и философского мироощущения, которое, при всей своей зыбкости и неопределенности, претендовало на роль литературной идеологии и в целом разделялось большинством литераторов, определявших творческое лицо «Чисел». Формальный аскетизм «парижан», их стремление «откровенно покончить с фетишизмом “художественной цельности”», с гипнозом «совершенства» (Г. Адамович), отказ от всякой «красивости», «кукольной безмятежности», «музейного благополучия» «хорошо сделанных» по классическим рецептам произведений, равно как и от безоглядного новаторства – во имя исповедальности и беспредельного самораскрытия внутреннего «я» писателя, апология безыскусности «человеческого документа», – все это было глубоко чуждо Набокову, разделявшему, вслед за Владиславом Ходасевичем, мысль о необходимости бесстрастной холодности и разумной уравновешенности художника.
«Нет ничего более убогого, чем вкладывать в искусство свои личные переживания»; «поэзия не должна быть пеной сердца» – в соответствии с этими флоберовскими аксиомами Набоков старался избегать в своих книгах исповедальности и интимных излияний, всегда тщательно маскировал неизбежно прорывавшиеся откровения с помощью всепроникающей иронии, отстраненности авторского образа от эмоционально-оценочной позиции персонажей, сложной игры с «ненадежными повествователями», вроде Смурова и Германа Карловича, и т.п. Поэтому все призывы к «простоте» и дневниковой исповедальности, звучавшие со страниц «Чисел» в программных статьях Адамовича или Поплавского (и находившие затем воплощение в произведениях поэтов «парижской ноты» и писателей-монпарнасцев), вызывали у Набокова ироничную усмешку. Не случайно в статье, посвященной Владиславу Ходасевичу, он горько сетовал на господство в эмигрантской литературе «того особого задушевного отношения к поэзии, при котором от нее самой, в конце концов, остается лишь мокрое от слез место»7070
Сирин В. О Ходасевиче // Современные записки. 1939. № 69. С. 263.
[Закрыть].
«Искусство, подлинное искусство, цель которого лежит напротив его источника, то есть в местах возвышенных и необитаемых, а отнюдь не в густо населенной области душевных излияний, выродилось у нас, увы, в лечебную лирику, – утверждал в той же статье Набоков. – И хоть понятно, что личное отчаяние невольно ищет общего пути для своего облегчения, поэзия тут ни при чем, схима или Сена компетентнее»7171
Там же. С. 262.
[Закрыть].
Болезненное переживание разлада между творческой личностью и миром, «чуткость к омертвению, охватывающему все большие слои культурных тканей»7272
Федотов Г.П. О смерти, культуре и «Числах» // Числа. 1930/1931. № 4. С. 147.
[Закрыть], «коллективное уныние» монпарнасцев – для Набокова, как и для его литературного союзника Владислава Ходасевича, все это было лишь мазохистской демонстрацией собственной творческой неполноценности, опасной – и порядком поднадоевшей – игрой в декаданс, «сладострастным смакованием безнадежной обреченности», «сознательным, хоть надрывным и истерическим растрачиванием какой бы то ни было веры во что бы то ни было – прежде всего веры в <…> поэзию»7373
Ходасевич В. Книги и люди. Жалость и «жалость» // Возрождение. 1935. 11 апреля (№ 3690). С. 3.
[Закрыть]. Вспомним, какую уничижительную оценку дал Набоков русскому Монпарнасу в «Других берегах»: «В этом мирке, где царили грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом плеяды…»
Весьма скептически Набоков относился и к мистико-религиозным исканиям монпарнасцев, с их «метафизическим беспокойством» и «религиозной напряженностью духа». Несмотря на то что тема «потусторонности», тайного знания «какой-то абсолютной правды, разящей величием и при этом почти абсолютной в силу высшей своей простоты» проходила через все творчество Набокова и напряженное чувство сверхреального одухотворяло лучшие его произведения (прежде всего «Приглашение на казнь» и «Ultima Thule»), писатель с нескрываемым сарказмом отзывался о «чересчур стройных» мистических видениях, отличавших творчество многих монпарнасцев (особенно, конечно, Бориса Поплавского).
Подчинение художественных произведений прямолинейным решениям сложнейших метафизических проблем, самоуверенно-фамильярные рассуждения о «горних делах» или сомнительные откровения о мистическом сопереживании «мировому Абсолюту» неизменно вызывали у Набокова глухое раздражение, которому он давал выход в язвительных литературных пародиях на оккультную литературу, на туманные пророчества счастливцев, находящихся в коротких отношениях с влиятельными потусторонними деятелями (рассказы «Занятой человек» и «Сестры Вейн», отчасти – повесть «Соглядатай»), или в своих задиристых рецензиях довоенного периода, например, в уже упоминавшемся отзыве на «свободный сборник» монпарнасцев «Литературный смотр»: «Попытки Терапиано, Кельберина и Мамченко разрешить побольше метафизических задач с наименьшей затратой мысленной энергии литературными достоинствами не богаты; зато в этих горних облаках ютится самая дрянная злободневность, вроде того, как альпинист находит на казавшейся неприступной скале рекламу автомобильных шин»7474
Сирин В. Рец.: «Литературный смотр». Свободный сборник // Современные записки. 1940. № 70. С. 284.
[Закрыть].
Стоит привести и характерный ответ, данный Набоковым в одном из интервью на лобовой вопрос: «Верители вы в Бога?»: «Я знаю больше того, что могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего».
Со своей стороны Набоков («чудовище» – по известному бунинскому определению) не мог не отталкивать «парижан» намеренно вызывающим поведением своей «литературной личности», старательно выстраивавшимся в соответствии с типом литературного поведения, выработанным в европейской литературе к концу XIX века. Экстравагантный – и несколько архаичный для двадцатых–тридцатых годов нашего столетия – имидж «чистого художника», отрешенного от «мерзкой гражданской суеты» (выражение Германа Карловича, главного героя и одновременно набоковской автопародии из романа «Отчаяние»), стоящего «выше мира и страстей» и глубоко равнодушного к «радостям и бедствиям человеческим», не мог не раздражать монпарнасцев, воспитанных Адамовичем в духе неприятия малейшей искусственности и «игры» как в творчестве, так и в литературном поведении. Мечтая о полном слиянии жизни и творчества, стремясь «расправиться <…> с отвратительным удвоением жизни реальной и описанной» (Б. Поплавский), монпарнасцы (да и не только одни они) никак не могли разглядеть за малоприятным набоковским имиджем капризного эстета и сноба, с неизменным презрением отзывающегося о своих литературных предшественниках и писателях-современниках, истинное творческое «я» писателя, которое реализовывалось в конкретных литературных произведениях, причем зачастую вопреки его же броским эстетическим декларациям и мировоззренческим принципам (особенно явно – в повести «Соглядатай» и романе «Отчаяние», где «безыдейный формалист» и «бездушный эстет» обратился к нравственно-философской проблематике русских классиков XIX века, в том числе и ненавистного ему Ф.М. Достоевского).
Эстетизм Набокова, с его пониманием искусства и литературы только как забавной, ни к чему не обязывающей игры, та роль, которую Набоков – в оглядке на Оскара Уайльда и Нормана Дугласа – прилежно исполнял на протяжении всей писательской карьеры (с особым рвением и целеустремленностью – в поздний период своего творчества, в эпоху «Ады» и «Твердых суждений»), взгляд на художественное творчество как на сочинение «причудливых загадок с изящными решениями», – всё это не могло не раздражать и главного застрельщика разбираемого нами конфликта, Георгия Иванова. Отдав в свое время – в эпоху «директориата» эгофутуризма и гумилевского «Цеха поэтов», «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов», «Отплытья на о. Цитеру» и «Горницы» – немалую дань идеям «чистого искусства», в эмиграции, во время своего «судорожного перерождения» из искусного мастера, автора игриво-декоративной лирики, воспевающего «мечтательные закаты Клода Лоррена» или «легкие созданья Генсборо», в певца эмигрантской трагедии, «поэта Великого Русского Распутья» (К. Померанцев)7575
Цит. по: Континент. 1975. № 3. С. 260.
[Закрыть], обладающего «гениальным даром интимности» и «талантом двойного зрения», умеющего «тихим шепотом, почти на ухо сказанным, прорезать человека как бритвой» (Р. Гуль)7676
Гуль Р. Георгий Иванов // Новый журнал. 1955. № 42. С. 126.
[Закрыть], Георгий Иванов преодолел, перерос свой юношеский эстетизм, более того, язвительно высмеял былые идеалы в гениальном «Распаде атома» (о котором, как мы помним, с таким пренебрежением отзывался Набоков). Выступив в «Распаде атома» с «рискованным манифестом на тему умирания современного искусства»7777
Указ. изд. С. 115.
[Закрыть], вдоволь поиздевавшись – при поддержке комичных зверьков-размахайчиков – над «массовым петербургским эстетизмом», Иванов открыто полемизировал в своей поэме с Владимиром Набоковым: «Я завидую отделывающему свой слог писателю, смешивающему краски художнику, погруженному в звуки музыканту, всем этим, еще не переведшимся на земле людям чувствительно-бессердечной, дальнозорко-близорукой, общеизвестной, ни на что уже не нужной породы, которые верят, что пластическое отражение жизни есть победа над ней. Был бы только талант, особый творческий живчик в уме, в пальцах, в ухе, стоит только взять кое-что от выдумки, кое-что от действительности, кое-что от грусти, кое-что от грязи, сравнять все это, как дети лопаткой выравнивают песок, украсить стилистикой, как глазурью кондитерский торт, и дело сделано, все спасено, бессмыслица жизни, тщета страданья, одиночество, мука, липкий тошнотворный страх – преображены гармонией искусства».
«Отделывающий свой слог писатель», твердо верящий в то, что «пластическое отражение жизни есть победа над ней»7878
Ср. с набоковским определением искусства, данным в эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие» (1937): «…хотелось бы думать: то, что у нас зовется искусством, в сущности, не что иное, как живописная правда жизни; нужно уметь ее улавливать, вот и все. Тогда жизнь становится занимательной, когда погружаешься в такое состояние духа, при котором самые простые вещи раскрываются перед нами в своем особенном блеске» (цит. по: Набоков В. Романы. Рассказы. Эссе. СПб.: Энтар, 1993. С. 237).
[Закрыть], – это, конечно, собирательный образ. Однако многое в нем напоминает Набокова, его «литературную личность». По крайней мере – набоковский (сиринский) тип литератора, к которому автор «Распада атома» относится с горько-ироничной насмешкой: «Блаженны спящие, блаженны мертвые. Блажен знаток перед картиной Рембрандта, свято убежденный, что игра теней и света на лице старухи – мировое торжество, перед которым сама старуха ничтожество, пылинка, ноль. Блаженны эстеты. Блаженны балетоманы. Блаженны слушатели Стравинского. Блаженны тени уходящего мира, досыпающие его последние, сладкие, лживые, так долго баюкавшие человечество сны».
Я не случайно дал такую большую цитату: этот отрывок лишний раз подтверждает нашу догадку о том, что одним из главных прообразов представителя «чувствительно-бессердечной» породы был Владимир Набоков (Сирин). Дело в том, что в этом фрагменте иронично обыгрывается концовка одного из ранних набоковских рассказов «Драка» (1925), риторический вопрос, обращенный героем-повествователем, случайным свидетелем кровавой потасовки в берлинской пивной к самому себе и к нам, читателям, – всего одна фраза, которая тем не менее является ключом ко всему эстетическому мировоззрению писателя, наиболее полным и открытым выражением (в русскоязычном творчестве) его «литературной личности»: «А может быть, дело вовсе не в страданиях и радостях человеческих, а в игре теней и света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных вот сегодня, вот сейчас единственным и неповторимым образом».
К счастью, Набоков был слишком большим и оригинальным художником, чтобы подчинять все свое творчество какому-либо философско-эстетическому принципу – пусть даже и очень ему близкому. Хотя рецидивы подобного эстетического догматизма, а порой и дидактизма можно найти как в русскоязычном, так и в англоязычном творчестве Набокова (особенно в конце писательского пути, когда выбранная маска окончательно приросла к лицу, волшебство иссякло, выродившись в безвкусное фокусничество, в «тяжеловесные ужимки сумасбродного шута», и набоковская «персона» неуклюже погубила его дивный творческий дар).
Завершая анализ причин заинтересовавшего нас с вами конфликта, я, подобно Христофору Мортусу и Георгию Адамовичу, хочу еще раз оговориться: если оставить уровень эстетических деклараций и философско-мировоззренческих установок – сферу писательской преднамеренности и его «литературной личности» – и обратиться к конкретным набоковским произведениям (вспомним хотя бы замечательный рассказ «Ужас» с его безысходным экзистенциальным отчаянием перед «страшной наготой, страшной бессмыслицей» жизни и темной угрозой небытия, вспомним страстные богоборческие пассажи из «Отчаяния», лирическое визионерство и мистические прозрения в «Приглашении на казнь» и «Ultima Thulе» и «многое, многое другое»), то мы найдем немало общего в творчестве Набокова и его заклятых литературных врагов из «Чисел».
Как эффектные позы и броские лозунги «литературной личности», не вмещающей в себя всей противоречивой творческой индивидуальности писателя, не могут объяснить неповторимое своеобразие и глубинную суть набоковских произведений, так и внимательно рассмотренная нами литературная война не исчерпывает всей сложности тех отношений, которые сложились у Набокова с авангардом молодой эмигрантской литературы, ядром которого был авторский круг «Чисел».
Тщательное изучение литературных связей Набокова и писателей-монпарнасцев, выявление точек соприкосновения, неожиданным образом сближающих творческие пути таких непримиримых литературных врагов, какими были Георгий Иванов и Владимир Набоков, – всё это задача для специального литературоведческого исследования. По этой причине, как ни соблазнительны открывающиеся перед нами просторы для роскошных литературных сопоставлений («Тема экзистенциального отчаяния в творчестве Георгия Иванова и Владимира Набокова», «“Поиски утраченного времени” Гайто Газданова и Владимира Набокова», «Влияние идей Анри Бергсона на концепцию времени и памяти в произведениях В.В. Набокова и В.С. Яновского» и т.д. и т.п.), я плавно закругляюсь: возделывать эту, смею надеяться, многообещающую и плодотворную литературоведческую целину не входило в мои планы, равно как и давать какие-либо оценки участникам литературной войны «до последней капли чернил».
Спор этот не канул в Лету, не закончился со смертью оппонентов – прославленного на весь мир писателя и нескольких литературных «неудачников», чье творчество с большим опозданием получило заслуженное признание и подобающую оценку, – он длится и теперь, не потеряв своей остроты и – извините за затасканное словосочетание! – животрепещущей актуальности. Будет он продолжаться и дальше, вероятно, до тех пор, пока будет существовать литература – вечный спор, без твердых аргументов и неоспоримых доказательств, без победителей и побежденных.
А теперь – кода.
«Блаженны спящие, блаженны мертвые…» Блаженны эстеты, неистовые ревнители «высокого и прекрасного», «из тяжести недоброй» и бездушного хаоса бытия творящие «удивительно ладные мирки, проникнутые тихим светом чистейших красок», волшебно преобразующие бесформенную, бессмысленную пестрядь жизни в «чудный стройный образ», в «нечто несомненное, настоящее»…
Блаженны и их противники, пленники великих иллюзий, подвижники от литературы, осознающие личную ответственность за состояние мира и упрямо стремящиеся к его преображению с помощью слова; скорбные романтики с их горькими размышлениями об умирании искусства – «о сиянии ложных чудес, поочередно очаровывавших и разочаровывавших мир», – с их пониманием того, что «старуха бесконечно важнее Рембрандта», с их «мучительным желанием ее спасти и утешить» и «ясным сознанием, что никого спасти и ничем утешить нельзя», – с их святой верой в то, что «грубая красота мира растворяется – и тает в единой человеческой слезе, что насилие – грязь и гадость, что одна отдавленная заячья лапа важнее Лувра и Пропилей»…
Литературное обозрение. 1996. № 2. С. 73–82.
«ДЕТЕКТИВ, ВОСПРИНЯТЫЙ ВСЕРЬЕЗ…»
Философские «антидетективы» В.В. Набокова

Шарж Дэвида Левина
«Есть некоторые виды художественной литературы, к которым я вообще не прикасаюсь, например, детективы, которых я терпеть не могу», – признался в интервью журналу «Плейбой»7979
Цит. по: Набоков о Набокове и прочем: интервью, рецензии, эссе / Редактор-составитель Н.Г. Мельников. М.: Издательство Независимая Газета, 2002. С. 155.
[Закрыть] Владимир Набоков, к тому времени – март 1963 года – знаменитый на весь мир автор супербестселлеров, занимавших высшие места в книжных хит-парадах и удостоившихся похвал высоколобых критиков. О своей неприязни к детективу писатель неустанно твердил и в последующих интервью: «Я ненавижу детективный роман» (интервью Пьеру Домергу)8080
Vladimir Nabokov: échec au réel, par Pierre Dommerges // Le Monde. 1967. Novembre 22 (Des Livre: Suppl. № 7110). P. IV.
[Закрыть]; «За крайне небольшими исключениями, детективная литература представляет собой некий коллаж более или менее оригинальных загадок и шаблонной литературщины» (интервью 1969 года журналу «Тайм»)8181
Набоков о Набокове… С. 254.
[Закрыть].
Трудно вообразить что-либо более далекое друг от друга, нежели Набоков и «шаблонная литературщина», хотя, если верить автору «Других берегов», в детстве он зачитывался произведениями корифея детективной литературы Артура Конан Дойля. Главный герой бесконечной конан-дойлевской эпопеи – неутомимый борец со злом Шерлок Холмс, «придававший логике прелесть грезы, <…> составивший монографию о пепле всех видов сигар, и с этим пеплом, как с талисманом, пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственно сияющему выбору», – не только поразил воображение маленького Лужина, но и покорил сердце юного Набокова.
О том, что автор «Записок о Шерлоке Холмсе» был одним из его любимых писателей, Набоков признался и в интервью Альфреду Аппелю, выпускнику Корнеллского университета, впоследствии ставшему исследователем и пропагандистом набоковского творчества, с которым позволял себе быть более откровенным, чем с другими интервьюерами:
« – Кто-то назвал новый роман “детективом, воспринятым всерьез” <…>. Пародируя этот жанр или нет, но вы относитесь к нему вполне “серьезно”, если принять во внимание, сколько раз вы преобразовывали возможности этого жанра. Скажите, почему вы так часто обращаетесь к нему?
– В детстве я обожал Шерлока Холмса и отца Брауна, может, в этом разгадка»8282
Указ. изд. С. 309.
[Закрыть].
О любви к Шерлоку Холмсу Набоков говорил (точнее – писал) и в упомянутом выше интервью «Плейбою», правда, он добавил при этом, что Конан Дойль и некоторые другие авторы, высоко ценимые им в юные годы (Эдгар По, Жюль Верн и др.), со временем поблекли, утратили для него «прежнее очарование и способность волновать»8383
Там же. С. 154. [Нельзя не отметить, что из продукции современных ему писателей-детективщиков Набоков выделял книги Дороти Сэйерс. В письме от 11 октября 1944 года Эдмунду Уилсону, лютому ненавистнику детективов, Набоков, в целом соглашаясь с пафосом его статьи «Почему люди читают детективы?», заметил: «Твоя статья о детективах мне очень понравилась. Разумеется, Агату [Кристи] читать невозможно – но вот Сэйерс, которую ты не назвал, пишет хорошо». Цит. по: Иностранная литература. 2010. № 1. С. 126.]
[Закрыть].
Но что бы ни утверждал Набоков в своих интервью, как бы ни старался сбить со следа дотошных следопытов, вопрос о детективе возник не случайно: на протяжении своего творческого пути писатель не раз использовал приемы одного из самых почтенных и популярных жанрово-тематических канонов массовой литературы ХХ века.
Как известно, одним из главных сюжетообразующих элементов детектива является мотив тайны, загадки; при этом, в отличие от готических романов и замешенных на мистике триллеров, «в детективе предполагается заранее, что тайна носит не абсолютный, а относительный характер, будучи следствием сочетания объективных обстоятельств и некоего злого умысла, а ее разрешение возможно и посильно для человека, способного собрать воедино рассеянную по частям информацию и правильно осмыслить ее»8484
Николаев Д.Д. Детектив // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 221.
[Закрыть]. Помимо мотива тайны и четко выстроенного сюжета, связанного с этапами ее разгадки, детектив характеризуется обязательным набором персонажей, подчиненных строго заданным сюжетным функциям: преступник, жертва, сыщик, его недогадливый помощник (часто выступающий в роли повествователя), ложно подозреваемый, свидетели и т.д.
Легко догадаться, что строго регламентированная система персонажей, внимание к причинно-следственным связям между явлениями, равно как и присущий многим детективам уголовно-бытовой колорит, несвойственны художественному миру Набокова, тогда как сюжетная модель расследования, разгадки тайны, лежит в основе его лучших романов.
«В произведениях искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем»8585
Ср. с высказыванием корифея детективной литературы Г.К. Честертона: «Детектив – всего лишь игра, и в этой игре читатель борется не столько с преступником, сколько с самим автором» (Честертон Г.К. Писатель в газете. М.: Прогресс, 1984. С. 304).
[Закрыть], – читаем в тринадцатой главе «Других берегов» – в той самой главе, где литературное сочинительство сравнивается с составлением головоломных шахматных задач. В соответствии с этим принципом Набоков довел до совершенства «сложное, восхитительное и никчемное искусство» изящно-хитроумной игры с читателем, перед которым воздвигаются головокружительные словесные лабиринты, полные каверзных ловушек и соблазнительно-ярких приманок, отвлекающих (как это и положено в настоящих детективах) читательское внимание от настоящих улик, – сбивающих его с верного следа, мешающих прийти к «единственно сияющему выбору». Другое дело, что в набоковских произведениях сюжетные схемы детектива постоянно пародируются и выворачиваются наизнанку, а одухотворяющий его пафос обязательной победы человеческого разума над злом либо подвергается сомнению, либо вовсе отсутствует.
***
В русскоязычном творчестве Набокова выделяется несколько произведений – рассказ «Месть», романы «Король, дама, валет», «Отчаяние»,– сюжеты которых замешены на криминальных происшествиях: убийство из ревности, покушение на убийство, убийство мнимого двойника с целью получить страховку. Однако в них нет главной составляющей детективной формулы: разгадки тайны, определяющей сюжетное развитие.
Нагляднее всего квазидетективная повествовательная стратегия проявилась в повести «Соглядатай» (1930), с которой, по мнению Нины Берберовой, началась творческая зрелость «одного из крупнейших писателей нашего времени»8686
Берберова Н. Набоков и его «Лолита» // Новый журнал. 1957. № 57. С. 93.
[Закрыть].
В предисловии к английскому переводу «Соглядатая», получившего заглавие «The Eye», писатель признался в том, что «своей фактурой повесть имитирует детективную литературу», но при этом упорно открещивался от сопоставлений с детективным жанром, отрицая «какое бы то ни было намерение сбить со следа, озадачить, одурачить или еще как-нибудь надуть читателя»8787
Nabokov V. The Eye. N.Y., 1965. P. 9.
[Закрыть].
Формально Набоков прав. В «Соглядатае» отсутствуют важнейшие составляющие детективной формулы: нет преступления, нет противоборства между сыщиком и преступником. Зато налицо жанрообразующая формула детектива – расследование, – пусть и перенесенная из уголовно-криминальной сферы в иную, философско-психологическую, если хотите, метафизическую плоскость. Поиск и разоблачение преступника многоопытным сыщиком заменен не менее увлекательным и интригующим поиском идентичности своего «я», предпринятым русским эмигрантом Смуровым – полунищим, одиноким, болезненно-самолюбивым неудачником с искрой творческих способностей и неутоленной жаждой любви, признания, славы.
Начиная со второй главы, после неудачного самоубийства героя-повествователя, избитого и опозоренного ревнивым мужем его любовницы, повесть представляет собой любопытное психологическое расследование, которое повествователь предпринимает с целью «докопаться до сущности Смурова» – знакомого семейства Хрущовых, влюбленного, как и сам набоковский соглядатай, в Ваню (так шутливо прозвали младшую сестру «хозяйки дома» Варвару). С настойчивостью и дотошностью опытного сыщика (не брезгуя подслушиванием и чтением явно не ему предназначенных писем) набоковский соглядатай при встречах ловит каждое движение своего «подопечного» и особенно внимательно следит за тем, как воспринимают его знакомые, что о нем думают. Однако, несмотря на его старания, образ Смурова распадается на несколько ипостасей, на нескольких совершенно не похожих друг на друга Смуровых.
По ходу действия противоречащие друг другу версии Смурова множатся и множатся, а герой-повествователь (равно как и читатель, воспринимающий все события с его точки зрения) так и не может составить хоть сколько-нибудь цельный образ. И лишь постепенно, по некоторым косвенным уликам, разбросанным то тут, то там хитроумным автором, внимательный читатель начинает догадываться, что Смуров и охотящийся за ним «холодный, настойчивый, неутомимый наблюдатель» – одно и то же лицо.
Подозрения на сей счет возникают у читателя задолго до того, как в конце повести героя-повествователя встречает его давний обидчик и окликает по фамилии: «Смуров!» Подозрительно уже само нездоровое влечение, которое на протяжении всего повествования проявлял набоковский соглядатай по отношению к Смурову, а также следующий факт: сообщая доверчивому читателю о своей любви к Ване, повествователь в то же время откровенно симпатизирует возможному конкуренту; проявляя уже во второй главе странную заинтересованность, хорошее ли впечатление производит Смуров на Ваню, он всячески старается приукрасить смуровский облик, придает ему налет загадочности и романтической исключительности: «Был он роста небольшого, но ладен и ловок, его скромный черный костюм и черный галстук бантиком, казалось, сдержанно намекают на какой-то тайный траур. Его бледное, тонкое лицо было молодо, но чуткий наблюдатель мог бы в его чертах найти следы печали и опыта. Он держался прекрасно, улыбался спокойной, немного грустной улыбкой, медлившей у него на губах. <…> Казалось, что он не мог сразу же не понравиться Ване, – именно этой благородной, загадочной скромностью, бледностью лба и узостью рук…»
Но мало того что портрет Смурова, данный повествователем, выдержан в строгом соответствии со стандартами, принятыми в мелодрамах и любовных романах, где «рокового» героя изображают в точно таких же ярко-аляповатых красках, – набоковский соглядатай то и дело проявляет кровную заинтересованность в том, чтобы именно Смуров стал избранником прекрасной Вани. Старательно притворяясь бесстрастным наблюдателем, повествователь тем не менее приходит в ярость, когда, пробравшись в пустую квартиру Хрущовых в надежде узнать, сохранила ли Ваня смуровский (то есть его собственный) подарок – «желтую, пятнистую, чем-то похожую на лягушку, орхидею», – вместо «заветных останков» обнаруживает обрезанную фотографию, где от запечатленного рядом с Ваней и Мухиным Смурова остался только черный локоть: «Улика поразительная! На Ваниной кружевной подушке вдруг появилась звездообразная мягкая впадина – след от удара моего кулака…» Увидев эту «поразительную улику», впавший в уныние соглядатай пытается успокоиться и с трогательной непосредственностью внушает себе: «…иногда отрезают, чтобы обрамить отдельно».
Сообщение в начале третьей главы о том, что Смуров, сменив «негодного старика», устроился приказчиком в книжной лавке Вайнштока, также настораживает внимательного читателя: ведь во второй главе именно к Вайнштоку отправился вышедший из больницы герой-повествователь, и именно при этой встрече Вайншток сообщает ему о намерении рассчитать старого, «абсолютно негодного» помощника и взять кого-нибудь помоложе.
Наконец, еще одна улика, после которой у читателя вряд ли остаются сомнения в идентичности Смурова и героя-повествователя: набоковского соглядатая выбивает из колеи сообщение в перехваченном письме Романа Богдановича о том, что Смуров – либо клептоман, либо заурядный воришка, присвоивший серебряную табакерку Филиппа Иннокентьевича Хрущова. Начало следующей, шестой главы открывается мучительной сценой объяснения между Смуровым (о содержании письма Романа Богдановича вроде бы ничего не знавшим) и Хрущовым, – разговором, который, оказывается, приснился задетому за живое повествователю (то бишь самому Смурову).
Казалось бы, сюжетный узел, завязанный в начале повести, благополучно развязывается, однако расследование, которое «прогоняет героя через ад зеркал и кончается его слиянием с образом двойника», так и не дает ключ к разгадке Смурова. В конце повести, как и в ее начале, читатель все так же разрывается между отрицающими друг друга толкованиями и вынужден довольствоваться калейдоскопом беспрестанно сменяющих друг друга смуровских личин – мешаниной обманчивых отражений, порожденных зеркалами чужих душ: легковесный авантюрист и донжуан (которому достается-таки от разъяренного рогоносца-мужа со зловещей фамилией Кошмарин); «сексуальный левша», «несчастный в половом смысле субъект», как аттестует его «проницательный» Роман Богданович; пошлый и мелкий враль, позорно уличенный во лжи во время цветистого рассказа о том, как красные чуть не расстреляли его на «ялтинском вокзале»; бессовестный жулик, который преспокойно вскрывает чужие письма и деловито роется в пустой квартире своих знакомых, при этом по-передоновски уплетая изюм, – «вор, вор в самом вульгарном смысле этого слова» (как утверждает лишившийся табакерки Хрущов); влюбчивый, впечатлительный, одаренный к тому же редким писательским даром романтик и фантазер, вопреки всем бедам и неурядицам кричащий нам, жестоким и самодовольным, о том, что он счастлив, счастлив…






























