Текст книги "Роковые вопросы. Русские писатели против Запада"
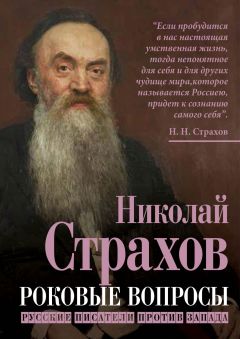
Автор книги: Николай Страхов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Наслаждение тщеславием, джентльменством, мысленный и сердечный разврат всякого рода для него гораздо противнее и ненавистнее, чем ягоды со сливками или пулька в преферанс. Вот от каких соблазнов он бережет себя; вот тот высший аскетизм, которому предан Базаров. За чувственными удовольствиями он не гоняется, он наслаждается ими только при случае; он так глубоко занят своими мыслями, что для него никогда не может быть затруднения отказаться от этих удовольствий; одним словом, он потому предается этим простым удовольствиям, что он всегда выше их, что они никогда не могут завладеть им. Зато тем упорнее и суровее он отказывается от таких наслаждений, которые могли бы стать выше его и завладеть его душою.
Вот откуда объясняется и то более разительное обстоятельство, что Базаров отрицает эстетические наслаждения, что он не хочет любоваться природою и не признает искусства. Обоих наших критиков это отрицание искусства привело в великое недоумение.
«Мы отрицаем, – пишет г. Антонович, – только ваше искусство, вашу поэзию, г. Тургенев; но не отрицаем и даже требуем другого искусства и поэзии, хоть такой поэзии, какую представил, например, Гете». «Были люди, – замечает критик в другом месте, – которые изучали природу и наслаждались ею, понимали смысл ее явлений, знали движение волн и трав прозябанье, читали звездную книгу ясно, научно, без мечтательности, и были великими поэтами».
Г. Антонович, очевидно, не хочет приводить стихов, которые всем известны:
С природой одною он жизнью дышал.
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.
Дело ясное: г. Антонович объявляет себя поклонником Гете и утверждает, что молодое поколение признает поэзию великого старца. От него, говорит он, мы научились «высшему и разумному наслаждению природой». Вот неожиданный и, признаемся, весьма сомнительный факт! Давно ли же это «Современник» сделался поклонником тайного советника Гете?» Современник» ведь очень много говорит о литературе; он особенно любит стишки. Чуть, бывало, появится сборник каких-нибудь стихотворений, уж на него непременно пишется разбор. Но чтобы он много толковал о Гете, чтобы ставил его в образец, – этого, кажется, вовсе не бывало. «Современник» бранил Пушкина: вот это все помнят; но прославлять Гете – ему случается, кажется, в первый раз, если не поминать давно прошедших и забытых годов. Что же это значит? Разве уж очень понадобился?
Да и возможное ли дело, чтобы «Современник» восхищался Гете, эгоистом Гете, который служит вечною ссылкою для поклонников искусства для искусства, который представляет образец олимпийского безучастия к земным делам, который пережил революцию, покорение Германии и войну освобождения, не принимая в них никакого сердечного участия, глядя на все события свысока!..
Не можем мы также думать, чтобы молодое поколение училось наслаждению природой или чему-нибудь другому у Гете. Дело это всем известное; если молодое поколение читает поэтов, то уж никак не Гете; вместо Гете оно много-много читает Гейне, вместо Пушкина – Некрасова. Если г. Антонович столь неожиданно объявил себя приверженцем Гете, то это еще не доказывает, что молодое поколение расположено упиваться гетевскою поэзией, что оно учится у Гете наслаждаться природою.
Гораздо прямее и откровеннее излагает дело г. Писарев. Он также находит, что, отрицая искусство, Базаров завирается, отрицает вещи, которых не знает или не понимает. «Поэзия, – говорит критик, – по его мнению, ерунда; читать Пушкина – потерянное время; заниматься музыкою – смешно; наслаждаться природою – нелепо». Для опровержения таких заблуждений г. Писарев не прибегает к авторитетам, как сделал г. Антонович, но старается собственноручно объяснить нам законность эстетических наслаждений. Отвергать их, говорит он, нельзя: ведь это значило бы отвергать наслаждение «приятным раздражением зрительных и слуховых нервов». Ведь, например, «наслаждение музыкою есть чисто физическое ощущение». «Последовательные материалисты, вроде Карла Фохта, Молешотта и Бюхнера, не отказывают поденщику в чарке водки, а достаточным классам в употреблении наркотических веществ. Они смотрят снисходительно даже на нарушения должной меры, хотя признают подобные нарушения вредными для здоровья». «Отчего же, допуская употребление водки и наркотических веществ вообще, не допустить наслаждения природою». И точно так, если можно пить водку, то отчего же нельзя читать Пушкина? Отсюда мы уже должны ясно видеть, что так как Базаров допускал питье водки и сам ее пил, то он поступает непоследовательно, смеясь над чтением Пушкина и над игрою на виолончели.
Очевидно, Базаров смотрит на вещи не так, как г. Писарев. Г. Писарев, по-видимому, признает искусство, а на самом деле он его отвергает, то есть не признает за ним его настоящего значения. Базаров прямо отрицает искусство, но отрицает его потому, что глубже понимает его. Очевидно, музыка для Базарова не есть чисто физическое занятие, и читать Пушкина не все равно, что пить водку. В этом отношении герой Тургенева несравненно выше своих последователей. В мелодии Шуберта и в стихах Пушкина он ясно слышит враждебное начало; он чует их все увлекающую силу и потому вооружается против них.
В чем же состоит эта сила искусства, враждебная Базарову? Выражаясь как можно проще, можно сказать, что искусство есть нечто слишком сладкое, тогда как Базаров никаких сладостей не любит, а предпочитает им горькое. Выражаясь точнее, но несколько старым языком, можно сказать, что искусство всегда носит в себе элемент примирения, тогда как Базаров вовсе не желает примириться с жизнью. Искусство есть идеализм, созерцание, отрешение от жизни и поклонение идеалам; Базаров же реалист, не созерцатель, а деятель, признающий одни действительные явления и отрицающий идеалы.
Все это верно чувствовалось и чувствуется многими, между прочим и «Современником». «Современник» стяжал себе немало лавров в борьбе против искусства, начиная от хвалебной рецензии на диссертацию г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» и до последних экономических соображений самого г. Чернышевского, по которым художники не заслуживают никакого вещественного вознаграждения за свои произведения, а наслаждаться этими произведениями позволительно только тогда, когда уже ничем полезным заняться невозможно.
Вражда к искусству составляет важное явление и не есть мимолетное заблуждение; напротив, она глубоко коренится в духе настоящего времени. Искусство всегда было и всегда будет областью вечного: отсюда понятно, что жрецы искусства, как жрецы вечного, легко начинают презрительно смотреть на все временное; по крайней мере, они иногда считают себя правыми, когда предаются вечным интересам, не принимая никакого участия во временных. И, следовательно, те, которые дорожат временным, которые требуют сосредоточения всей деятельности на потребности настоящей минуты, на насущных делах, – необходимо должны стать во враждебное отношение к искусству.
Что значит, например, мелодия Шуберта? Попробуйте объяснить, какое дело делал художник, создавая эту мелодию, и какое дело делают те, кто ее слушает? Искусство, говорят иные, есть суррогат науки; оно косвенно способствует распространению сведений. Попробуйте же рассмотреть, какое знание или сведение содержится и распространяется в этой мелодии. Что-нибудь одно из двух: или тот, кто предается наслаждению музыки, занимается совершенными пустяками, физическим ощущением; или же его восторг относится к чему-то отвлеченному, общему, беспредельному и, однако же, живому и до конца овладевающему человеческой душою.
Восторг – вот зло, против которого идет Базаров и которого он не имеет причины опасаться от рюмки водки. Искусство имеет притязание и силу становиться гораздо выше приятного раздражения зрительных и слышательных нервов: вот этого-то притязания и этой власти не признает законными Базаров.
Как мы сказали, отрицание искусства есть одно из современных стремлений. Напрасно г. Антонович испугался Гете или, по крайней мере, пугает им других: можно отрицать и Гете. Недаром наш век называют антиэстетическим. Конечно, искусство непобедимо и содержит в себе неистощимую, вечно обновляющуюся силу; тем не менее веяние нового духа, которое обнаружилось в отрицании искусства, имеет, конечно, глубокое значение.
Оно особенно понятно для нас, русских. Базаров в этом случае представляет живое воплощение одной из сторон русского духа. Мы вообще мало расположены к изящному; мы для этого слишком трезвы, слишком практичны. Сплошь и рядом можно найти между нами людей, для которых стихи и музыка кажутся чем-то или приторным, или ребяческим. Восторженность и высокопарность нам не по нутру; мы больше любим простоту, едкий юмор, насмешку. А на этот счет, как видно из романа, Базаров сам великий художник.
Пойдем далее. Базаров отрицает науку. На этот раз наши критики разделились. Г. Писарев вполне понимает и одобряет это отрицание, г. Антонович принимает его за клевету, взведенную Тургеневым на молодое поколение.
«Курс естественных и медицинских наук, прослушанный Базаровым, – говорит г. Писарев, – развил его природный ум и отучил его принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения; он сделался чистым эмпириком; опыт сделался для него единственным источником познавания, личное ощущение – единственным и последним убедительным доказательством. Я придерживаюсь отрицательного направления, – говорит он, – в силу ощущений. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения – это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу». «Итак, – заключает критик, ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя Базаров не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого (теоретического) принципа».
Что касается до г. Антоновича, то такое умственное настроение Базарова он считает чем-то весьма нелепым и позорным. Весьма жаль только, что, как он ни усиливается, он никак не может показать, в чем же состоит эта нелепость.
«Разберите, – говорит он, – приведенные выше воззрения и мысли, выдаваемые романом за современные: разве они не походят на кашу? (А вот посмотрим!) Теперь «нет принципов, то есть ни одного принципа не принимают на веру»; да самое же это решение не принимать ничего на веру и есть принцип!»
Конечно, так. Однако же, какой хитрый человек г. Антонович: нашел противоречие у Базарова! Тот говорит, что у него нет принципов, – и вдруг оказывается, что есть!
«И ужели этот принцип нехорош? – продолжает г. Антонович. – Ужели человек энергический будет отстаивать и проводить в жизнь то, что он принял извне, от другого, на веру, и что не соответствует всему его настроению и всему его развитию?»
Ну вот это странно. Против кого вы говорите, г. Антонович? Ведь вы, очевидно, защищаете принцип Базарова; а ведь вы собрались доказывать, что у него каша в голове. Что же это значит?
Но чем дальше, тем удивительнее.
«И даже, – пишет критик, – когда принцип принимается на веру, это делается не беспричинно (кто ж говорил, что нет?), а вследствие какого-нибудь основания, лежащего в самом же человеке. Есть много принципов на веру; но признать тот или другой из них зависит от личности; от ее расположения и развития; значит, все сводится к авторитету, который заключается в личности человека (т. е., как говорит г. Писарев, личное ощущение есть единственное и последнее убедительное доказательство?); он сам определяет и внешние авторитеты, и значение их для себя. И когда молодое поколение не принимает ваших принсипов, значит, они не удовлетворяют его натуре; внутренние побуждения (ощущения?) располагают в пользу других принципов».
Яснее дня, что все это суть базаровские идеи; г. Антонович, очевидно, против кого-то ратует; но против кого, неизвестно; но все, что он говорит, служит подтверждением мнений Базарова, а никак не доказательством, что они представляют кашу.
И, однако же, почти тотчас вслед за этими словами г. Антонович говорит: «зачем же роман старается представить дело так, будто бы отрицание происходит вследствие ощущения: приятно отрицать, мозг так устроен и – баста; отрицание – дело вкуса! одному оно нравится так же, как другому нравятся яблоки?»
Как зачем? Ведь вы же сами говорите, что это так и есть; а роман и имел целью изобразить человека, разделяющего такие мнения. Разница между словами Базарова и вашими только та, что он говорит просто, а вы высоким слогом. Если бы вы любили яблоки и вас спросили бы, почему вы их любите, вы, вероятно, отвечали бы так: «я принял этот принцип на веру; но это не без причины: яблоки удовлетворяют моей натуре; к ним меня располагают мои внутренние побуждения». А Базаров отвечает просто: «я люблю яблоки вследствие приятного для меня вкуса».
Должно быть, сам г. Антонович почувствовал, наконец, что из его слов выходит не совсем то, что нужно, и потому он заключает так: «Что значит неверие в науку и непризнание науки вообще, – об этом нужно спросить у самого г. Тургенева; где он наблюдал такое явление и в чем оно обнаруживается, нельзя понять из его романа».
По этому случаю мы могли бы многое вспомнить, например, хотя бы то, как г. Чернышевский смеялся над историей, как г. Антонович намекал, что можно обойтись и без философии и что немцы нынче дошли до такой премудрости, что опровергли некоторые науки целиком. Говорим это для примера, а не то чтобы мы указывали важнейшие случаи. Но – не станем отвлекаться от дела.
* * *
Не говоря о проявлении образа мыслей Базарова в целом романе, укажем здесь на некоторые разговоры, которые могли бы навести г. Антоновича на не дающееся ему понимание.
«– Это вы всё, стало быть, отвергаете? – говорит Базарову Павел Петрович. – Положим. Значит, вы верите в одну науку?
– Я уже доложил вам, – отвечал Базаров, – что ни во что не верю; и что такое наука, наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, знания, а науки вообще не существует вовсе».
В другой раз не менее резко и отчетливо возразил Базаров своему сопернику.
«– Помилуйте, – сказал тот, – логика истории требует…
– Да на что нам эта логика? – отвечал Базаров, – мы и без нее обходимся.
– Как так?
– Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!»
Уже отсюда можно видеть, что воззрения Базарова не представляют каши, как старается уверить критик, а, напротив, образуют твердую и строгую цепь понятий. Вражда против науки есть также современная черта, и даже более глубокая и более распространенная, чем вражда против искусства. Под наукою мы разумеем именно то, что разумеется под наукою вообще и что, по мнению нашего героя, не существует вовсе. Наука для нас не существует, как скоро мы признаем, что она не имеет никаких общих требований, никаких общих методов и общих законов, что каждое знание существует само по себе. Такое отрицание отвлеченности, такое стремление к конкретности в самой области отвлечения, в области знания, составляет одно из веяний нового духа. Представителем его был и есть тот знаменитый философ, которого некоторые мыслители у нас провозгласили последним философом, а себя при этом случае его верными учениками. Ему принадлежит отрицание науки в ее чистейшей форме, в форме философии: «Моя философия, – говорит он, – состоит в том, что я отвергаю всякую философию». Конечно, г. Антонович легко бы поймал его, точно так, как он поймал Базарова: «Ну вот, – сказал бы он, – вы отрицаете всякую философию, а между тем самое это отрицание уже и составляет философию!» Дело это, однако же, гораздо серьезнее, чем может подумать склонный к шутливости г. Антонович.
Отрицание отвлеченных понятий, отрицание мысли составляет следствие более крепкого, более прямого признания действительных явлений, признания жизни. Это разногласие между жизнью и мыслью никогда так сильно не чувствовалось, как теперь. Оно проявляется в бесчисленных формах и есть важное современное явление. Никогда философия не играла такой жалкой роли, как в настоящее время. Над нею, кажется, сбывается пророчество Шеллинга (1806): «Тогда, – говорит он, – пресыщение отвлеченностями и голыми понятиями само укажет нам единственное средство исцелить душу, – именно погрузиться в частные явления». И действительно, всего более разработываются, всего более уважаются всеми естественные науки, т. е. науки, для которых исходом служат факты, частные явления. Другие науки потеряли то уважение, которым некогда пользовались. Мы даже привыкли к мысли, что они несколько портят человека, уродуют его, а не возвышают. Мы знаем, что занятия науками отвлекают от жизни, порождают доктринеров, мешают живому сочувствию к современности.
Ученость стала для нас подозрительною; кафедра потеряла свое значение, история – свой авторитет. Это обратное движение ума, это самоотвержение мысли совершается с глубокою силою и составляет один из существенных элементов современной умственной жизни.
Чтобы еще указать некоторые его характеристические черты, приведем здесь места из романа, поразившие нас необыкновенною проницательностью, с которою Тургенев понял дух базаровского направления.
«– Мы ломаем, потому что мы сила, – заметил Аркадий.
Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.
– Да, сила, так и не дает отчета, – проговорил Аркадий и выпрямился.
– Несчастный! – возопил Павел Петрович, – хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией?.. Но – вас раздавят!
– Коли раздавят, туда и дорога! – промолвил Базаров, – только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете».
Это прямое и чистое признание силы за право есть не что иное, как прямое и чистое признание действительности; не оправдание, не объяснение или вывод ее, – все это здесь лишнее, – а именно простое признание, которое так крепко само по себе, что не требует никаких посторонних поддержек. Отречение от мысли как от чего-то совершенно ненужного здесь вполне ясно. Рассуждения ничего не могут прибавить к этому признанию.
«Наш народ, – говорит в другом месте Базаров, – русский, а разве я сам не русский?» «Мой дед землю пахал». «Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы ратуете?»
Такова эта простая логика, сильная именно тем, что не рассуждает там, где рассуждения не нужны. Базаровы, как скоро они стали действительно Базаровыми, не имеют никакой нужды оправдывать себя. Они не фантасмагория, не мираж: они суть нечто крепкое и действительное; им нет нужды доказывать свои права на существование, потому что они уже действительно существуют. Оправдание нужно только явлениям, которые подозреваются в фальши или которые еще не достигли действительности.
«Я пою, как птица поет», – говорил в свое оправдание поэт. «Я Базаров, точно так, как липа есть липа, а береза – береза», – мог бы сказать Базаров. Зачем ему подчиняться истории и народному духу, или как-нибудь сообразоваться с ними, или даже просто думать о них, когда он сам и есть история, сам и есть проявление народного духа?
Веруя таким образом в себя, Базаров несомненно уверен в тех силах, которых часть он составляет. «Нас не так мало, как вы полагаете».
Из такого понимания себя последовательно вытекает еще одна важная черта в настроении и деятельности истинных Базаровых. Два раза горячий Павел Петрович приступает к своему противнику с сильнейшим возражением и получает одинаковый многознаменательный ответ.
«– Матерьялизм, – говорит Павел Петрович, – который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и не раз оказывался несостоятельным…
– Опять иностранное слово! – перебил Базаров. – Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках…»
Через несколько времени Павел Петрович опять попадает на эту же тему.
«– За что же, – говорит он, – вы других-то, хоть бы тех же обличителей честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?
– Чем другим, а этим грехом не грешны, – произнес сквозь зубы Базаров».
Чтобы быть вполне и до конца последовательным, Базаров отказывается от проповедования, как от праздной болтовни. И в самом деле, проповедь ведь была бы не чем иным, как признанием прав мысли, силой идеи. Проповедь была бы тем оправданием, которое, как мы видели, для Базарова излишне. Придавать важность проповеди значило бы признать умственную деятельность, признать, что людьми управляют не ощущения и нужды, а также мысль и облекающее ее слово. Пуститься проповедовать – значит пуститься в отвлеченности, значит призвать в помощь логику и историю, значит сделать себе дело из того, что уже признано пустяками в самой своей сущности. Вот почему Базаров не охотник до споров и разглагольствований и не придает им большой цены. Он видит, что логикой много взять нельзя; он старается больше действовать личным примером и уверен, что Базаровы сами собою народятся в изобилии, как рождаются известные растения там, где есть их семена. Прекрасно понимает этот взгляд г. Писарев. Например, он говорит: «Негодование против глупости и подлости вообще понятно, но, впрочем, оно так же плодотворно, как негодование против осенней сырости или зимнего холода». Точно так же он судит и о направлении Базарова: «Если базаровщина – болезнь, то она болезнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какие паллиативы и ампутации. Относитесь к базаровщине как угодно – это ваше дело, а остановить не остановите; это та же холера».
Отсюда понятно, что все Базаровы-болтуны, Базаровы-проповедники, Базаровы, занятые не делом, а только своею базаровщиною, – идут по ложному пути, который приводит их к беспрерывным противоречиям и нелепостям, что они гораздо непоследовательнее и стоят гораздо ниже настоящего Базарова.
…Вот какое строгое настроение ума, какой твердый склад мыслей воплотил Тургенев в своем Базарове. Он одел этот ум плотью и кровью и исполнил эту задачу с удивительным мастерством. Базаров вышел человеком простым, чуждым всякой изломанности, и вместе крепким, могучим душою и телом. Все в нем необыкновенно идет к его сильной натуре. Весьма замечательно, что он, так сказать, более русский, чем все остальные лица романа. Его речь отличается простотою, меткостью; насмешливостью и совершенно русским складом. Точно так же между лицами романа он всех легче сближается с народом, всех лучше умеет держать себя с ним.
Все это как нельзя лучше соответствует простоте и прямоте того взгляда, который исповедуется Базаровым. Человек, глубоко проникнутый известными убеждениями, составляющий их полное воплощение, необходимо должен выйти и естественным, следовательно, близким к своей народности, и вместе человеком сильным. Вот почему Тургенев, создававший до сих пор, так сказать, раздвоенные лица, например, Гамлета Щигровского уезда, Рудина, Лаврецкого, достиг, наконец, в Базарове до типа цельного человека. Базаров есть первое сильное лицо, первый цельный характер, явившийся в русской литературе из среды так называемого образованного общества. Кто этого не ценит, кто не понимает всей важности такого явления, тот пусть лучше не судит о нашей литературе. Даже г. Антонович это заметил и заявил свою проницательность следующею странною фразою: «По-видимому, г. Тургенев хотел изобразить в своем герое, как говорится, демоническую или байроническую натуру, что-то вроде Гамлета».
Гамлет – демоническая натура! Как видно, наш внезапный поклонник Гете довольствуется весьма странными понятиями о Байроне и Шекспире. Но действительно, у Тургенева вышло что-то в роде демонического, то есть натура, богатая силою, хотя эта сила и не чистая.
* * *
Какой же смысл романа? – спросят любители голых и точных выводов. Составляет ли, по-вашему, Базаров предмет для подражания? Или же, скорее, его неудачи и шероховатости должны научить Базаровых не впадать в ошибки и крайности настоящего Базарова? Одним словом, написан ли роман за молодое поколение или против него? Прогрессивный он или ретроградный?
Если уж дело так настоятельно идет о намерениях автора, о том, чему он хотел научить и от чего отучить, то на эти вопросы следует, как кажется, отвечать так: действительно, Тургенев хочет быть поучительным, но при этом он выбирает задачи, которые гораздо выше и труднее, чем вы думаете. Написать роман с прогрессивным или ретроградным направлением еще вещь нетрудная. Тургенев же имел притязания и дерзость создать роман, имеющий всевозможные направления; поклонник вечной истины, вечной красоты, он имел гордую цель во временном указать на вечное и написал роман не прогрессивный и не ретроградный, а, так сказать, всегдашний. В этом случае его можно сравнить с математиком, старающимся найти какую-нибудь важную теорему. Положим, что он нашел, наконец, эту теорему; не правда ли, что он должен быть сильно удивлен и озадачен, если бы к нему вдруг приступили с вопросами: да какая твоя теорема – прогрессивная или ретроградная? Сообразна ли она с новым духом или же угождает старому?
На такие речи он мог бы отвечать только так: ваши вопросы не имеют никакого смысла, никакого отношения к моему делу: моя теорема есть вечная истина.
Увы! на жизненных браздах,
По тайной воле провиденья,
Мгновенной жатвой – поколенья
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут…
Смена поколений – вот наружная тема романа. Если Тургенев изобразил не всех отцов и детей или не тех отцов и детей, каких хотелось бы другим, то вообще отцов и вообще детей и отношение между этими двумя поколениями он изобразил превосходно. Может быть, разница между поколениями никогда не была так велика, как в настоящее время, а потому и отношение их обнаружилось особенно резко. Как бы то ни было, для того, чтобы измерять разницу между двумя предметами, нужно употреблять одну и ту же мерку для обоих; чтобы рисовать картину, нужно взять изображаемые предметы с одной точки зрения, общей для всех их.
Эта одинаковая мера, эта общая точка зрения у Тургенева есть жизнь человеческая, в самом широком и полном ее значении. Читатель его романа чувствует, что за миражем внешних действий и сцен льется такой глубокий, такой неистощимый поток жизни, что все эти действия и сцены, все лица и события ничтожны перед этим потоком.
Если мы так поймем роман Тургенева, то, может быть, перед нами всего яснее обнаружится и то нравоучение, которого мы добиваемся. Нравоучение есть, и даже весьма важное, потому что истина и поэзия всегда поучительны.
Глядя на картину романа спокойнее и в некотором отдалении, мы легко заметим, что, хотя Базаров головою выше всех других лиц, хотя он величественно проходит по сцене, торжествующий, поклоняемый, уважаемый, любимый и оплакиваемый, есть, однако же, что-то, что в целом стоит выше Базарова. Что же это такое? Всматриваясь внимательнее, мы найдем, что это высшее – не какие-нибудь лица, а та жизнь, которая их воодушевляет. Выше Базарова – тот страх, та любовь, те слезы, которые он внушает. Выше Базарова – та сцена, по которой он проходит. Обаяние природы, прелесть искусства, женская любовь, любовь семейная, любовь родительская, даже религия, все это – живое, полное, могущественное – составляет фон, на котором рисуется Базаров. Этот фон так ярок, так сверкает, что огромная фигура Базарова вырезывается на нем отчетливо, но, вместе с тем, мрачно. Те, которые думают, что ради умышленного осуждения Базарова автор противопоставляет ему какое-нибудь из своих лиц, например Павла Петровича, или Аркадия, или Одинцову, – странно ошибаются. Все эти лица ничтожны в сравнении с Базаровым. И, однако же, жизнь их, человеческий элемент их чувствие ничтожны.
Не будем говорить здесь об описании природы, той русской природы, которую так трудно описывать и на описание которой Тургенев такой мастер. В новом романе он таков же, как и прежде. Небо, воздух, поля, деревья, даже лошади, даже цыплята – все схвачено живописно и точно.
Возьмем прямо людей. Что может быть слабее и незначительнее юного приятеля Базарова, Аркадия? Он, по-видимому, подчиняется каждому встречному влиянию; он – обыкновеннейший из смертных. Между тем он мил чрезвычайно. Великодушное волнение его молодых чувств, его благородство и чистота подмечены автором с большою тонкостью и обрисованы отчетливо. Николай Петрович, как и следует, – настоящий отец своего сына. В нем нет ни единой яркой черты и хорошего только одно, что он человек, хотя и простейший человек. Далее, что может быть пустее Фенички?» Прелестно было, – говорит автор, – выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья, да посмеивалась ласково и немножко глупо». Сам Павел Петрович называет ее пустым существом. И, однако же, эта глупенькая Феничка набирает чуть ли не больше поклонников, чем умница Одинцова. Ее не только любит Николай Петрович, но в нее, отчасти, влюбляется и Павел Петрович, и сам Базаров. И, однако же, эта любовь и эта влюбленность суть истинные и дорогие человеческие чувства. Наконец, что такое Павел Петрович, щеголь, франт с седыми волосами, весь погруженный в заботы о туалете? Но и в нем, несмотря на видимую извращенность, есть живые и даже энергические звучащие сердечные струны.
Чем дальше мы идем в романе, чем ближе к концу драма, тем мрачнее и напряженнее становится фигура Базарова, но вместе с тем все ярче и ярче фон картины. Создание таких лиц, как отец и мать Базарова, есть истинное торжество таланта. По-видимому, что может быть ничтожнее и негоднее этих людей, отживших свой век и со всеми предрассудками старины уродливо дряхлеющих среди новой жизни? А между тем какое богатство простых человеческих чувств! Какая глубина и ширина душевных явлений – среди обыденнейшей жизни, не подымающейся и на волос выше самого низменного уровня!
Когда Базаров заболевает, когда он заживо гниет и непреклонно выдерживает жестокую борьбу с болезнью, жизнь, его окружающая, становится тем напряженнее и ярче, чем мрачнее сам Базаров. Одинцова приезжает проститься с Базаровым; вероятно, ничего великодушнее она не сделала и не сделает во всю жизнь. Что же касается до отца и матери, то трудно найти что-нибудь более трогательное. Их любовь вспыхивает какими-то молниями, мгновенно потрясающими читателя; из их простых сердец как будто вырываются бесконечно жалобные гимны, какие-то беспредельно глубокие и нежные вопли, неотразимо хватающие за душу.









































