Текст книги "Роковые вопросы. Русские писатели против Запада"
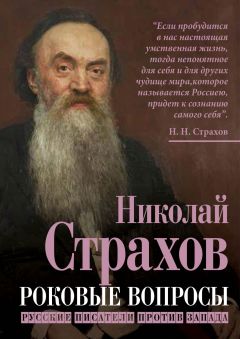
Автор книги: Николай Страхов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Толки о Л.Н. Толстом
Толки о Л.Н. Толстом продолжаются. Начались эти толки уже давно, вскоре после окончания «Анны Карениной»; они быстро усилились и потом стали постоянным, непрерывным явлением. Мы к ним даже совершенно привыкли и уже не замечаем, как много тут удивительного, ничуть не думаем, что перед нами, может быть, происходит событие величайшей важности. Припомним, когда же бывало что-нибудь подобное? Малейшие известия о том, что пишется и как живется в Ясной Поляне, газеты помещают наравне с наилучшими лакомствами, какими они угощают своих читателей, то есть наравне с политическими новостями, с пожарами и землетрясениями, скандалами и самоубийствами. И мы потом ежедневно треплем своими языками имя знаменитого писателя с неменьшим усердием и обыкновенно с таким же хладнокровием, как имена Бисмарка или Вильгельма II. Но мы знаем, на этой болтовне дело не останавливается. У многих, особенно у молодых людей, на Л.Н. Толстого устремлено серьезное, душевное внимание.
И это не у нас только дома. Известность Л.Н. Толстого стала истинно всемирной; о нем пишут и за ним следят во всех образованных странах. Каждая его новая повесть сейчас переводится на разные языки, каждая театральная пьеса ставится на сцене, переводится каждая страница даже старых неконченных рукописей, как-нибудь попавшая в руки ревностных почитателей, переводятся и чужие рассуждения, которые он одобрил и снабдил своим предисловием. И это делается никак не по одной усилившейся фабрикации праздного чтения. Во Франции, в Германии, в Англии, в Америке – везде писания Л.Н. Толстого возбуждают живейший интерес, порождают толки и споры. Может быть, со времен Вольтера не было писателя, который производил бы такое сильное действие на своих современников.
Тут есть чему подивиться и о чем задуматься. Правда, бывает слава фальшивая, бывают всесветно громкие имена, которые потом забываются; но обыкновенно человечество не ошибается в своей любви и в своем удивлении. Упорно и неотвратимо привязываются умы к тому имени, под которым им почуялось истинное величие, явился предмет, достойный истинного поклонения. Вот почему поэт так решительно сказал:
И нам уж то чело священно,
Над коим вспыхнул сей язык.
Славное имя всегда есть любопытная задача для наших мыслей. Иногда в прославлении обнаруживается только настроение читателей и зрителей, создающих себе кумира по своему вкусу; но обыкновенно даже сумасбродный энтузиазм, даже фанатическое гонение или превознесение какого-нибудь человека имеют свое основание в самом этом человеке и его деятельности. Если мы станем старательно вникать в дело, мы почти всегда откроем в нем важный вопрос, глубокий поворот умов или обнаружение душевных сил, далеко превосходящих обыкновенную меру.
Единый дух во всей деятельности
Отчего так знаменит Л.Н. Толстой? На этот вопрос многие сейчас так ответят: оттого, что он написал гениальные художественные произведения, «Войну и мир», «Анну Каренину». Это настоящая причина его известности; без этого никто не обратил бы внимания на те плохие рассуждения, которые он стал потом писать. Он прославился именно как великий художник, и вот теперь носятся с каждой страницей, которую он напишет, разбирают его наставления, принимают их в руководство для жизни, хотя все эти писания ничего не стоят и составляют для него просто стыд, а не славу. Так отвечают одни, а другие идут еще дальше. Он велик как художник, говорят они, а по тому самому мы не читаем его рассуждений и не хотим обращать на них внимание. Художнику следует оставаться художником, и он не может ничего хорошего сделать, если берется не за свое дело.
Легко, однако, заметить, что все эти речи принадлежат людям, желающим непременно осудить последний период деятельности Л.Н. Толстого. Они хватаются за его огромную художественную славу, чтобы так или иначе обратить ее против него, сделать из нее орудие, подрывающее его авторитет. Они часто уверяют при этом, что они даже необыкновенно любят Толстого-художника, но зато Толстого-мыслителя терпеть не могут.
Добрые люди, повторяющие подобные речи, конечно, сами не замечают, что они пускают в дело очень жалкую уловку, очень наивное лицемерие. Во-первых, может быть, большую долю всемирной известности Толстого нужно приписать не его художественным произведениям, а именно тому религиозно-нравственному перевороту, который в нем совершился и смысл которого он стремился выразить и своими писаниями, и своей жизнью. Как бы мы ни судили об этом перевороте, но, очевидно, образованный мир был поражен зрелищем человека, в котором с такой силой, без всяких внешних толчков, сказались вечные запросы души человеческой. Нужно отдать людям честь: никакое литературное мастерство не могло привлечь их любопытства и уважения в такой степени, как та душевная история, которая совершилась и совершается пред их глазами в Ясной Поляне. Даже в тех, кто так усердно порицает Толстого, есть, очевидно, какое-то живое чувство, заставляющее их с жадностью следить за всем, что он делает и думает.
Что же касается до противоположения между художником и мыслителем, то это был бы чрезвычайно легкий и простой выход из затруднения, почему за этот выход и хватаются упорные люди. Но, как я сказал, они в этом случае только лицемерят вольно и невольно. Не любит художественных произведений Толстого, не может ценить их глубокого духа и содержания тот, кто не понимает, как тесно они связаны с его новыми писаниями. Те самые начала, которые он теперь проповедует, бессознательно жили в нем всегда и составляли душу всего, что он тогда писал. На каждой странице его рассказов можно видеть, что выше всякой красоты для него всегда стояла красота душевная, что эту красоту он видит в «простоте, доброте и правде», что истинное мужество состоит для него в терпении и преданности, что истинная любовь всегда для него целомудренна и что самые смиренные люди ему являются прекраснее самых великих героев.
Долго очаровывал нас Толстой этими картинами, и долго сам был очарован ими. Но, наконец, он как будто вдруг опомнился наверху славы и счастья и с изумлением взглянул на себя и на других. Он как будто спросил себя: разве все это забава? Разве можно жить, не зная твердого пути жизни? Для чего я живу и пишу, если не нашел этого пути и не могу указать его другим? И он с отчаянием стал искать этого пути, влагая в это искание всю свою умственную силу. Тогда для него получила новое, неизмеримо более глубокое значение вся та красота души, которой он прежде только беспечно любовался. Из эстетика он обратился в нравственного проповедника; но содержание его художественных образов и его практических наставлений осталось, в сущности, одно и то же. Толстой, можно сказать, подписал для нас и для себя нравоучение под теми баснями, которые прежде рассказывал.
И как не видеть, что сделать это было и полезно, и даже совершенно необходимо? Теперь ведь стало ясно для всех и для самого автора, что эти бесподобные художественные произведения, в которых повсюду разлито самое высокое и чистое нравственное чувство, не действовали на читателей так, как должны были действовать. Когда мнимые любители этих произведений изливаются в восторгах от их красот и вместе отворачиваются от нравственных наставлений художника, они только доказывают или свое непонимание, или извращение своего эстетического вкуса. И, следовательно, Толстой не мог и не должен был ограничиться одним художеством. Странно подумать, «Анну Каренину», это глубоко целомудренное произведение, иные сумели так читать, что в них возбуждались только нечистые чувства и мысли. Они любовались картинами роскошной жизни и пробегающих по ней вспышек чувственности и разврата. Понятно, что художник не захотел больше подобного эстетического поклонения. Он написал «Крейцерову сонату», он так беспощадно избичевал нашу нечистую жизнь, что ошибиться в его мысли уже было невозможно.
Любители литературы часто упрекают Толстого за то, что он теперь пишет не одни художественные произведения, да если и создает что-нибудь художественное, то не вносит в дело полного своего искусства. Для этих любителей, очевидно, не имеет никакого значения внутренний переворот, совершившийся в художнике, – так мало им дорог этот художник, так мало они ценят и понимают самый глубокий нерв его деятельности!
Но для понимающих между двумя половинами деятельности Толстого нет разлада и нельзя делать противоположения; напротив, одна половина поддерживает и поясняет другую. Кто вникнет в его нравственные наставления, для того вдруг открывается самый глубокий и драгоценный смысл его художественных произведений, те тайные и иногда еще неясные для самого художника побуждения, которыми оживлялось его творчество. И наоборот, чтобы точно понять направление и дух его последних поучений, мы можем и должны обращаться к его чисто художественным созданиям, где этот дух раскрывался еще спокойно, еще без порыва и волнения, и потому высказывался часто с великой тонкостью и правдой, хотя прежде многие видели в этом только одну роскошь еще неслыханного художества. Так мы должны поступать, если хотим быть вполне справедливыми к Толстому.
Не цепляться за мелкие недостатки и обмолвки, не ловить мелкие и второстепенные противоречия, а брать его в целом составе его деятельности, понять и проследить тот единый дух, который проникает все, что он творил, думал и делал. Пред нами огромное явление, которому, по его размерам и значению, трудно найти подобное во всей истории всемирной литературы.
Христианское, религиозное явлениеВсе дело в том, чтобы найти правильную точку зрения на Толстого, отыскать тот центр, которым управляются его мысли и действия, из которого поэтому хорошо видны их связь и порядок.
Этот центр, эта исходная точка всех его стремлений есть не что иное, как евангельское учение. Если мы хотим понимать Толстого, то прежде всего должны смотреть на него, как на некоторого христианина, как на одного из последователей Христова учения.
Чрезвычайно странно, что этот важнейший пункт всего дела обыкновенно вовсе не приходит на мысль ценителям и порицателям, что они не видят здесь, по крайней мере, существенного вопроса, который нужно рассмотреть самым тщательным образом. Естественно, положим, что этот вопрос не занимает тех, кто на всякую религию смотрит с пренебрежением; но ревнителей христианства, казалось бы, должно глубоко интересовать религиозное настроение Толстого. Не видно, однако, чтоб они над этим задумывались; с самым легким сердцем они лишают его имени христианина, как будто такое лишение не великая обида, и бывают готовы, по всякому попавшемуся поводу, приписать ему мнения и чувства, совершенно противоположные христианским.
Между тем многие ли из нас имеют больше прав называться христианами, чем Толстой? Напомню здесь историю его обращения, которую все знают или, по крайней мере, могут знать, но в которую очень мало вникают. Как он сам говорит, он был сперва нигилистом, то есть не имел никаких религиозных убеждений, да не имел, в противоположность обыкновенным нигилистам, и никаких политических убеждений. И он не был в этом случае каким-нибудь исключением; таких нигилистов у нас было и есть великое множество. Он жил тогда не столько правилами и мыслями, сколько своими чувствами и вкусами, и художественная деятельность, казалось, давала полный исход его душевным силам. Вдруг наступил переворот. Среди полного благополучия, когда слава его поднялась высоко, богатый, знатный, здоровый, окруженный любящей семьей, он вдруг почувствовал пустоту земного счастья, почувствовал с такой силой, что пришел в отчаяние. Невольно приходит на мысль сближение с тем царевичем, который основал буддизм. Уже это одно отчаяние Толстого должно быть для нас великим религиозным поучением, и оно, без сомнения, так и действует на многих, оно для них убедительный пример, что ничто земное не может насытить душу человека и что нужно обратиться к небесному, к религии. А противники Толстого, считающие себя настоящими христианами, должны бы серьезно спросить самих себя, точно ли они чувствуют всю тщету земных благ в такой мере, как он ее чувствовал?
С какой силой он почувствовал свою беду, с такой же силой он стал искать от нее спасения. Он отдался этому исканию всем сердцем и всей душой. Очень скоро он увидел, что отвлеченные умствования и мертвые книги не дадут ему успокоения, и он выбрал другой, живой путь, чем дал нам новое поучение. Он стал искать вокруг себя людей, которые знают, зачем жить и как умирать, следовательно, людей истинно и твердо верующих, и нашел их в русском простом народе. Пусть не забудут ревнители христианства, в какой великой школе обучался вере граф Толстой. Они должны согласиться, что в выборе этой школы им руководило глубокое религиозное понимание. Наши образованные классы таковы, что не могли дать ему того, чего он жаждал. Он обращался ко всем, он спрашивал о вере Каткова, Аксакова, митрополита Макария, но не был вполне удовлетворен их ответами; только у простых людей он несомненно нашел ту мудрость, которая утаена от мудрых и разумных и открыта младенцам. Каковы бы ни были убеждения Толстого, но при оценке их никогда не следует забывать, что они развивались под влиянием, можно сказать, наилучшего христианского элемента, какой только есть в мире. Долгие годы Толстой провел в близком и постоянном общении с простым народом, к которому он и всегда чувствовал особенное влечение. Тут он учился, как «no-Божью» жить, мыслить и чувствовать. А к этому нужно еще прибавить, что такую школу проходил человек, одаренный гениальным поэтическим чутьем, способный видеть все душевные изгибы и глубины.
Лучше кого бы то ни было он мог понять и усвоить основы народного благочестия, и по всему этому, как бы мы ни были расположены искать у него ошибок и преувеличений, но мы, без сомнения, должны признать в нем живое и могущественное проявление той самой религиозности, которая одушевляет русский народ. Иностранные писатели часто говорят, что Толстой был обращен к религии одним из наших раскольников. Это неверно; но понятно, что в глазах иностранцев два различных явления подходят под одну формулу, под ту черту глубокой веры, которую знает весь мир за Россией.
На этом дело, однако же, не могло остановиться. Так или иначе, но Толстой, конечно, не мог ограничиться детской и простодушной верой народа; неизбежно должны были возникнуть старания привести ее себе к сознанию, облечь ее в ясные понятия. Он стал читать богословские книги, принялся изучать Священное Писание и посвятил на это много времени, много напряженного труда. Когда-то прежде он ради Гомера выучился по-гречески; теперь это знание пригодилось, чтобы вникать в подлинник Евангелия, и он выучился по-еврейски, чтобы точно так же читать в подлиннике Ветхий Завет. И тут не должны ли мы поставить его себе в пример и образец? Кто из нас, из тех, которые считают себя настоящими христианами и упрекают его в заблуждениях, кто настолько заинтересован своим христианством, чтобы прилежно изучать Библию и писания богословов? Мы предаемся всякой любознательности, но меньше всего мы любознательны к тому, что считаем будто бы самым важным для себя предметом. Толстой показал, как должны бы мы вести себя в этом отношении, если бы были истинно религиозными людьми.
Наконец, известно, что он изменил образ своей жизни, что он старается на деле выполнять свои новые убеждения. Но тут, конечно, мы не можем произнести полного суждения, ибо это его личное дело, которое очень трудно ценить и разбирать, даже если бы мы имели на то какое-нибудь право и возможность. Тут от нас легко могут укрыться самые существенные стороны, и мы что-нибудь побочное и случайное примем, пожалуй, за самое главное. Достоверно и ясно только то, что он непрерывно делает усилия и попытки новой жизни. Всем известно его отречение от мирских благ, этот внешний признак поворота; внутренние же его подвиги не могут быть известны и, может быть, останутся навсегда тайной между ним и Богом.
Если теперь мы соединим вместе все указанные черты, то пред нами окажется полный образ истинно религиозного человека, притом образ яркий и величавый. Среди нашей, в сущности, языческой жизни, среди равнодушия к религии и неверующих и верующих, он показал нам, какую силу может и должна иметь для человека религиозная идея. И так как он притом великий художник, так как всеми симпатиями и мыслями он сливается с народным нашим благочестием, то нет сомнения, что он составляет одно из глубочайших и замечательнейших явлений религиозного духа. Люди, преданные религии, ставящие духовную жизнь выше всего, должны смотреть на него и с уважением, и с величайшим любопытством. В нем они наверное найдут для себя много поучительного и назидательного, чего уже никак нельзя найти у тех, которые называют себя настоящими христианами, но о вере никогда не думают, предоставляя эту заботу духовнику, а в жизни спокойно плывут туда, куда дует ветер.
Рационализм и отречение от него«Все это так, – скажут нам, – но ведь Толстой умствует и по-своему толкует тексты; он – не верующий, а рационалист».
Но, во-первых, кто же не рационалист? Как мольеровский мещанин был очень удивлен, узнав, что говорит прозой, так, без сомнения, многие ревнители веры не подозревают, что рационализм вообще есть дело неизбежное и что сами они на каждом шагу оказываются рационалистами. Несколько лет тому назад одна благочестивая дама, живущая в далекой глуши, спрашивала меня: «Объясните мне, за что все так бранят Толстого?» – «Больше всего за то, – отвечал я, – что он по-своему толкует Евангелие». – «Ах, Боже мой! – возразила она, – да ведь и я его толкую по-своему, как понимаю, и нянюшка Михайловна тоже, как понимает, так и объясняет. Мы обе постоянно читаем Евангелие, но у нас тут не у кого и спросить, верно ли мы поняли».
Признаюсь, это возражение на минуту сбило меня, и этот случай остался в моей памяти, как самая простая формула вопроса о наших отношениях к тексту Священного Писания. Не следовало ли мне сказать этим двум читательницам, что они подвергаются большой опасности ложно понять слова Евангелия и что им нужно запастись богословскими сочинениями, устанавливающими правильное истолкование? Но ведь богословские сочинения были бы для них в тысячу раз менее понятны, чем само Евангелие. А потом, и это главное, для меня было вне всякого сомнения, что эта дама и ее бесподобная Михайловна никогда евангельских слов не истолкуют и не могут истолковать в дурном духе. Следовательно, дело не в том, что мы пускаемся в собственные объяснения и умствования, а в том, с каким духом мы приступаем к чтению Писания, чего мы в нем ищем.
Многие, как известно, убеждены, что это чтение вообще опасно. «Изучение Священного Писания вовсе не так легко и требует головы не менее сильной, чем изучение какой-либо другой науки. Нет ничего опаснее, как плохое пользование текстами Откровения». Если бы так, если бы только «сильные головы» способны были надлежащим образом понимать тексты Писания и вполне безопасно ими пользоваться, то нам следовало бы признать очень вредной деятельность всех, кто так ревностно распространяет Писание среди самых темных слоев народа. По счастью, все это дело имеет совершенно другой вид. Не умом постигается главный смысл Писания, а сердцем, всеми живыми силами нашей души. Кто приступает к Писанию с тем религиозным чувством, искра которого таится в самых простых и темных душах, тот найдет в божественной книге пищу для этого чувства, и тем больше пищи, чем сильней и глубже его чувство.
Все мы отчасти рационалисты, потому что во всяком деле мы неизбежно рассуждаем, а если рассуждаем, то, значит, прибегаем к каким-нибудь началам и приемам разума, и даже всегда стараемся проводить эти приемы и начала как можно дальше. Но быть вполне рационалистом, то есть опираться на один только разум, едва ли кто может, почему люди, стремящиеся к полному рационализму, обыкновенно отличаются лишь тем, что больше других отрицают и сомневаются. Если обратимся к Толстому, то, конечно, он начал с рационалистического отрицания и сомнения; но уже давно он пришел к образу чувств и мыслей, которые нельзя назвать рационализмом.

Н.Н. Страхов в начале 1890-х годов.
Идеи Страхова встречали большое сопротивление как со стороны либералов-шестидесятников, так и со стороны официальных правительственных кругов. Так, М. Протопопов, сотрудник демократического журнала «Дело» называл Страхова «кладбищенским философом», «реакционером и обскурантом», воюющим против прогресса и проповедующий нирвану и пессимизм, в то время как сама жизнь требует борьбы.
Умер Н.Н. Страхов 24 января (5 февраля) 1896 года в своей петербургской квартире. Последними его словами были «Ну, я отдохнул, теперь поработаю».
Он поверил в Евангелие, он всем сердцем почувствовал и признал над собой власть Христова учения. Поэтому, тогда как для рационалиста Евангелие есть книга наряду с другими книгами, и слова этой книги подлежат обсуждению наравне со всякими другими человеческими словами, – для Толстого эти слова есть высший авторитет, не сравнимый ни с каким другим. Он не смотрит на учение Христа объективно, не подвергает его какой-нибудь исторической или психологической критике; он всем умом и сердцем стремится к одной лишь цели – понять это учение, уразуметь ту высочайшую правду, которая в нем заключается и которая уже влечет за собой исполнение естественно и неизбежно. Он прилежно ищет в словах Христа указаний для жизни и потом следует этим указаниям –
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную.
Да мало сказать и безропотно: нужно сказать – радостно, как тот, кто с ужасом чувствовал, что не знает и не может узнать, куда идти, и кого вдруг вывели на прямой и ясный путь к родному дому.
Разве это живое и сердечное отношение к евангельской проповеди похоже на рационализм? Чтоб яснее увидеть разницу, возьмите настоящих рационалистов, возьмите лучшего из них – Ренана. Мы все его читали, и конечно с несравненно большим вниманием и уважением, чем Толстого. Итак, припомните, что Ренан по временам относится к Христу с явным чувством своего умственного превосходства.
Он признает, что это был человек высшего разряда (un homme superieur), и очень восхищается Его нравственными качествами; но относительно людских дел и хода исторических явлений Ренан открывает в Нем следы незнания и непонимания и замечает об этом с некоторой высокомерной снисходительностью.
Ничего подобного этой жалкой «игре ума», этим жалким обобщениям и отвлечениям вы не найдете у Толстого. Для него Христос есть явление единственное и несравнимое, есть живое лицо, в Котором воплотилась высшая истина. Для него судить и критиковать Христа есть нелепое пустословие, а следует делать одно – с открытым сердцем вникать в Его жизнь и слова, потому что кто вникнет, тот и предастся им всей душой.
Опять скажу: наш великий художник подает нам всем великий пример. Своим гениальным чутьем он понял, как праздны и мертвенны все отвлеченные толкования и изучения; он перешел от всяких рассуждений и исследований к живой любви, к радостной, сердечной покорности. Такой переход должен быть всегда целью и концом искания истины.
Величайшую несправедливость и величайшую обиду Толстому делают те, которые говорят и печатают, что он проповедует «новую веру», что он сочинил «новое евангелие». Конечно, его противники посредством такого приема сразу выигрывают дело, – кто же захочет предпочесть Христовой вере другую веру и другое евангелие? Но к подобным вещам сам Толстой не подавал никакого повода. Он постоянно твердит, что исповедует только учение Христа и что желает объяснить Христово Евангелие, а не возвестить что-нибудь новое.
* * *
Мы вовсе не хотим разбирать здесь какие-нибудь учения Л.Н. Толстого, не хотим ни защищать их, ни опровергать. Пусть это делают другие, как скоро сознают, что они достигли ясного понимания дела и что могут сказать о нем что-нибудь твердое и хорошее. Наша цель гораздо проще и легче: мы хотели бы только указать на самые ясные и несомненные черты дела, на самые очевидные и неизбежные точки зрения, на которые должен становиться всякий, кто берется судить об этом деле. Читая и слушая бесчисленные толки о Толстом, часто нельзя не изумляться тому, в каких потемках живут люди относительно важнейших вопросов, и можно только радоваться, если наконец эти вопросы стали для них вопросами, если наконец они вынуждены отдавать себе в них отчет. Но сила потемок очень велика; поэтому у многих, вместо умственного и нравственного возбуждения, часто все ограничивается одним упорным непониманием и оканчивается совершенно несправедливым негодованием и пренебрежением.
Очень любопытная черта: нападения и крики на Толстого у нас несравненно распространеннее и жесточе, чем за границей, в странах давнего образования. Там, очевидно, есть привычка, так сказать, к теоретической терпимости, там приучились не отказывать разномыслящим в уважении. Мы же, русские, будучи на практике самым терпимым народом в мире, на словах и в мыслях встречаем всякое разногласие с каким-то ожесточением и беспощадно его отвергаем. Против Толстого с воплем подымаются люди, не замечающие, что сами они не имеют никакого права подавать голос в религиозных и нравственных вопросах. И как только раз началось осуждение, то уж без разбора на гениального писателя взводится нелепость за нелепостью и обвинители не подумают, что нужно бы тщательно изучать его писания, вникать в дух и связь его речей, прежде чем решиться приписывать ему даже малую долю того, что они приписывают.
Когда укоряют его в том, что он по своему пониманию религии, по советам нравственности или даже по жизни, – плохой христианин, невольно хочется сказать иным укоряющим: кто из вас лучше, тот пусть первый бросит в него камень. «Он искажает догматы». Но разве за то, что мы этого не делаем, мы стоим большой похвалы? Мы ведь их не искажаем только потому, что вовсе о них не думаем, что мы, в сущности, совершенно к ним равнодушны и предоставляем их понимание и истолкование другим людям. Только поэтому мы и воображаем, что имеем право считать себя настоящими православными. Мы не говорим и не размышляем о догматах, а потому, конечно, никак не можем искажать их.
Но ведь в строгом смысле и этого сказать нельзя. Мы все-таки пускаемся иногда вспоминать и определять догматы, и так как все мы невежды в церковном учении, то мы неизбежно его искажаем; если хорошенько допросить нас о нашем понимании религиозных истин, то оказалось бы, что, почти без исключения, каждый из нас еретичествует в том или в другом пункте. И мы спасаемся от ереси только одним, только тем, что не придаем никакого значения собственным словам и мыслям, что мы готовы отказаться от них по первому требованию.
Итак, все наше преимущество пред Толстым состоит в том, что мы не проповедуем того, что думаем, и даже, еще лучше, что мы вовсе не думаем о чем-нибудь таком, что нужно бы проповедовать. Единственно поэтому мы признаем себя хорошими христианами, да поэтому же ревнители веры если и не одобряют нас, то, по крайней мере, закрывают на нас глаза и не считают нужным о нас тревожиться. Между тем разве все это хорошо? Разве мы получаем в силу этого какое-нибудь право судить и осуждать Толстого? В глазах людей, преданных религии, Толстой должен иметь перед нами великое преимущество, потому что он одушевлен истинно религиозной ревностью. Ошибается ли он или нет, но во всяком случае он знает, что он исповедует, он долго об этом думал, он долго и прилежно изучал самые источники вероучения. Чтобы нам с ним поравняться, чтобы приобрести право судить его не с чужого голоса, нам нужно делать то самое, что он делал. И, без сомнения, в образованных классах иные почувствовали эту обязанность, так что, благодаря Толстому, кое-где началось чтение и изучение Евангелия. Но большинство, конечно, осталось нетронутым; они продолжают кричать и порицать Толстого, сами не зная хорошенько за что, в сущности же, за то, что он нарушает их покой, тревожит их неведение и равнодушие.
Главное дело относительно Толстого, однако же, не в догматах. Если мы хотим быть справедливыми к Толстому и судить его с надлежащей точки зрения, то должны видеть, что центр его учения составляют не какие-нибудь догматы, а христианские правила жизни, изложение и объяснение наших обязанностей. Он проповедник не какой-нибудь теории, а практического христианства, учитель нравственности. Сюда тяготеют все его мысли, и если мы не будем иметь этого в виду, то мы ничего в нем не поймем.
Например, если мы находим, что он что-нибудь отрицает (а отрицание чаще всего ведет к ошибке, как заметил Лейбниц), то мы заранее должны предполагать, что он делает это не из простого скептицизма, не ради какой-то борьбы с авторитетом, а потому, что видит в отрицаемом помеху чисто нравственному настроению. Пред таким стремлением, перед такой постановкой вопроса мы не можем не почувствовать уважения и внимания. Ибо нравственность есть действительное мерило человеческого достоинства и верховная точка зрения. Никто не обязан иметь высокий ум, и все обязаны иметь чистую совесть. Всякие человеческие соображения, все наши желания и блага должны отступить на второй план пред стремлением к нравственному совершенству. Да как скоро человек завидел этот путь и одушевлен нравственной силой, он уже не может быть покорен никакой иной мудростью, никаким иным могуществом. Для некоторых философов, например, для Канта, нравственное чувство составляет самый источник религии, и из требований этого чувства они выводят религиозные истины.
Именно с этой стороны преимущественно нам следует рассматривать Толстого. Нужно прежде всего видеть в его писаниях их нравственное содержание вообще, а затем, определеннее, их стремление к христианскому нравоучению, как к высшему и окончательному. Все, что сюда не относится, теоретические истолкования и практические отрицания уже имеют у Толстого второстепенное значение, и, не в меру останавливаясь на них, мы только затемним дело. Поэтому, если кто непременно желает опровергнуть Толстого, тот пусть не ловит его на ошибочных взглядах на природу Бога, мира и людей, на те или другие слова Писания, а пусть доказывает, если может, что Толстой проповедует дурные нравственные начала, что он не понял и извратил христианское нравоучение.
Некоторые духовные лица (может быть, впрочем, вернее было бы здесь поставить вместо множественного – единственное число) поняли, что именно в этом заключается вопрос о Толстом; но, к несчастью, правильно поставив вопрос, они сейчас же сошли с верного пути, принявшись с непонятной легкостью приписывать Толстому всевозможные дикости. Как и почему это делается, действительно трудно понять. Дело доходит до того, что, по случаю увещаний Толстого жить в деревне, говорили, что он ограничивает все потребности человека едой и питьем, а по случаю «Крейцеровой сонаты» – что он чуть ли не советует убивать неверных жен или, по крайней мере, совершенно оправдывает Позднышева.









































