Текст книги "Роковые вопросы. Русские писатели против Запада"
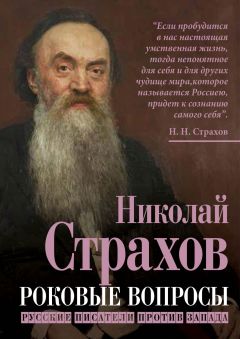
Автор книги: Николай Страхов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Пушкин
(из одноименной статьи)
…Недавно в «Русском слове» наш великий поэт Пушкин был осыпан всякого рода бранью. Этот скандал, который старались совершить с возможно большим треском, обратил, однако же, на себя очень мало внимания; но и этого малого внимания он едва ли, кажется, заслуживал. В самом деле, кому, хотя мало сведущему в нашей журналистике, могли показаться удивительными подобные суждения со стороны «Русского слова»? И далее – кто, даже одаренный проницательным умом, может найти в этих суждениях что-нибудь новое и достойное размышления?
Наша духовная жизнь – еще хаос, наше умственное развитие – сумятица, нет еще никаких крепких основ и точек опоры для русских умов, они еще бродят в потемках и носятся по всем ветрам; они не умеют ни правильно понимать, ни верно слышать и видеть; что же мудреного, что нашлись такие; для которых и Пушкин недостаточно громок и светел?
Нашлись люди, глазам которых это прекрасное светило представилось в виде темного пятна; вот образчик того положения, в котором находятся все наши светила, большие и малые, все крепкие основы и точки опоры, какие у нас есть. Эти основы, пожалуй, и крепки, да мало таких, которые на них опираются; большинство или их не знает, или считает их хрупкими. Эти светила, пожалуй, и светят, да для большинства этот свет так же незаметен, как свет солнца для слепых, а некоторые даже считают его тьмою. Вот откуда это блуждание в потемках, «без кормила и весла».
Оставим же этих блуждающих, как огромное отрицательное явление, где ничего нельзя найти, кроме отсутствия света, и обратимся к тем, для глаз которых сколько-нибудь ясен свет наших родных светил, кто среди хаоса руководится этим светом и нашел что-нибудь твердое, на что можно опереться.
В 1865 году праздновался у нас большой праздник – столетний юбилей памяти Ломоносова. Это был праздник русской науки и русской литературы; в лице Ломоносова воздавалась честь той науке и той литературе, которых он был представителем. Мы торжествовали: одно из светлых явлений нашей духовной жизни.
Казалось бы, при таком смысле этого торжества мысль невольно должна была обратиться ко всей нашей духовной жизни; казалось бы, мы невольно должны были вспомнить и других ее представителей. Торжественно произнося имя Ломоносова, мы должны бы, по-видимому, почувствовать у себя на губах другие имена, достойные стать рядом, равно дорогие и славные. О ком же нам напомнило великое имя Ломоносова? Чье имя было произнесено?
Ничье. Восторг, возбужденный памятью Ломоносова, не вызвал восторга ни к какой другой памяти; не нашлось ни одного светила, которое бы по яркости могло поравняться с этим светилом.
Между тем такое имя есть, и одно только есть такое имя. Есть светило, которое у нас не уступает никакому другому светилу, но, по общей участи русских светил, все еще остается бледным и малым для многих глаз. Это имя и это светило – Пушкин.
Говоря о русской литературе, нельзя не говорить о Пушкине. Поэтому и странно, и жаль, что на первом торжестве, где чествовались подвиги русской мысли, имя его было забыто.
Этого мало. Вскоре после торжества в «Дне» явилась статьи, объясняющая смысл этого торжества и объясняющая его так, что как раз имя Пушкина и было бы лишнее на этом празднике, что память о Пушкине чуть ли не была бы противоречием духу всего торжества.
Имя Пушкина в статье не упоминается. Но статья старается объяснить, почему именно Ломоносов обладает у нас исключительным величием, с которым никто другой не может равняться. Статья указывает на происхождение Ломоносова из простого народа; вот, по ее мнению, причина, почему он обнаружил такую цельную, здоровую, громадную силу духа. Западное просвещение здесь упало своим зерном еще на добрую, не испорченную почву. Зараза еще только начиналась. Но потом она приняла злокачественный характер, она отрывала людей от источника силы, от духа родной земли. Вот отчего весь остальной период нашей умственной и литературной жизни уже не мог произвести ничего равного Ломоносову. Единственное сколько-нибудь здоровое явление еще составляют славянофилы – как отвлеченные мыслители, уразумевшие этот корень общего бессилия.
Таков очерк всего нашего умственного развития по теории статьи. В эту теорию никоим образом не вмещается Пушкин, который и не был простолюдином, и не стал мыслителем. Его не приходится, следовательно, считать чем-нибудь важным в нашем бедном развитии.
Никому, впрочем, не тайна холодность наших славянофилов к нашему Пушкину. Она заявляется издавна и постоянно. Это печальный факт, который еще и еще раз свидетельствует о безмерной путанице нашей жизни. Люди, даже всего глубже понимающие эту жизнь, все еще недостаточно согреты ее живым скрытым теплом, так что им бывают чужды самые горячо бьющиеся кровью ее явления. Дорожа пониманием основных черт ее духа, они равнодушно, без боли отбрасывают родное явление, мешающее этому пониманию, разрушающее, как резкое исключение, их свято уважаемую теорию.
Пушкин был поэт, поэт в самом высоком значении, какое может иметь это слово. Вот та точка зрения, с которой одной можно понять его и с которой, как мне кажется, объясняются все эти обиды, которых он столько перенес при жизни и которые, как мы видим, преследуют его и по смерти, и так давно уже преследуют!
В том, что славянофилы отрицают Пушкина, есть, может быть, какое-то указание на сущность дела, невольное проникновение в истину. Если бы кто-нибудь сказал, что Пушкин есть явление странное, неожиданное, необъяснимое, что он явился не к месту, не вовремя, что его поэтическая натура была вовсе не кстати в эпоху, когда он жил, и среди людей, которые его окружали, то с таким отрицанием Пушкина, может быть, отчасти можно бы было согласиться. Разве не видим мы, в самом деле, странного явления, что неполный поэт Гоголь был признан славянофилами за русского художника, тогда как Пушкин, поэт полный, подвергся с их стороны сомнению? Очевидно, что-то мешает нам понимать настоящую поэзию, и нам понятно то, что не восходит до ее эфирной высоты.
Таинственный певец, как называет, очевидно, самого себя Пушкин в стихотворении «Арион», очень живо чувствовал свою загадочную судьбу; в своих произведениях он оставил нам множество указаний, из которых видно, как тяжела была эта судьба. Вот где можно искать самого лучшего пояснения наших разноречивых и холодных отношений к Пушкину.
Начиная с 1826 года у Пушкина является целый ряд произведений, тема которых – значение поэта, его достоинство, его отношение к окружающей жизни. Вот главнейшие из этих произведений: «Пророк», «Поэт», «Чернь», «Поэту», «Арион», «Эхо», «Не дорого ценю я громкие права», «Памятник». Далее, некоторые стихотворные отрывки, принадлежащие к последним годам Пушкина, и из прозаических статей: «Египетские ночи» и два удивительных наброска, которые служили приготовлением к «Ночам»: «Мы проводили вечер на даче» и «Цесарь путешествовал».
Этот ряд начинается великолепными стихотворениями «Пророк» (1826) и «Поэт» (1827). Пушкин торжественными, величественными чертами рисует поэтическую силу, которую он с такой полнотой чувствовал в своей груди. Поэт – это преображенный человек, пророк, которому серафим вложил жало змеи вместо языка и угль, пылающий огнем, вместо сердца.
Пушкин очевидно дожил в это время до полного сознания своего поэтического призвания, он знал уже, что на его челе «вспыхнул огненный язык», что он, как говорит кривляющийся Гейне, «божиею милостию – поэт».
Это сознание своего важного значения не покидало Пушкина до конца; но странно! чем дальше мы идем в его жизни, тем сильнее нападает на него какое-то беспокойство и смущение. Его окружает какая-то загадка, которой он не может понять, его что-то тревожит глубоко и болезненно. Отсюда ряд его стихотворений, которые можно назвать неправильными, так как в них слышно нарушение ясного течения творческой силы, слышна тревога и дисгармония, с которою эта сила не совладала до конца.
Рассказывают, что в последние годы жизни Пушкина, то есть в годы полного расцвета его поэзии и полного сознания этого расцвета, масса читателей все больше и больше к нему охладевала. И в самом деле, вскоре после полного сознания своего великого значения у Пушкина начинает слышаться борьба между этим сознанием и между холодностью, упреками и требованиями читателей. Из этой борьбы он не вышел до конца, и она, без сомнения, играла большую роль в раздражительности и равнодушии к жизни, которыми была ускорена его безвременная смерть.
В стихотворении «Чернь» (1828) поэт называет себя «божественным посланником», «сыном неба», а этот народ, приступавший к нему с своим «дерзким ропотом», – «червем земли», «холодной и надменной» толпою, которая «бессмысленно внимает» поэту.
Но такое равнодушие и гордое отношение к читателям, очевидно, не было в натуре Пушкина; с ним не могла помириться та глубокая сердечная теплота, которою он весь проникнут. И в самом деле, в музыке его стихов скоро послышались звуки боли и печали, и чем дальше, тем грустнее и грустнее становятся эти звуки.
Сначала поэт все еще хочет казаться гордым и презирающим, но уже видно, что он старается в чем-то утешить себя, устранить от себя какие-то несбывшиеся желания.
Поэт, не дорожи любовию народной!
Так начинается сонет. Этот сонет, обращенный к самому себе, показывает только, какие желания жили в душе поэта. Им, очевидно, обладало высокое честолюбие – ему хотелось любви народной! Но, чувствуя вокруг себя холод и равнодушие и, однако же, твердо веря в свое призвание, он прибегает к гордому совету:
Поэт, не дорожи любовию народной!
Были, однако же, минуты, когда он побеждал свое уныние, когда он тверже верил в себя, и тогда первою его мыслью была эта самая народная любовь. Так, когда он воображал свой «Памятник», он надеялся, что к нему не зарастет народная тропа. Здесь своею высшею наградой, своим лучшим утешением он считает именно память и любовь народа:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.
Но отчего же прежде он не доверял этой любви, почему советовал сам себе отказаться от нее? Говорят, в Москве в это время начало распространяться немецкое учение о великом значении поэтов, и некоторые приписывают влиянию этого учения тогдашние высокомерные стихотворения Пушкина. Кажется, однако же, они могут быть вполне объяснены тем, что совершалось тогда с самим Пушкиным. Прямо из своей собственной жизни он вынес горькую необходимость уединиться от народа, так или иначе перенести его равнодушие и остаться самим собою.
Итак, вот причина: его судили глупцы, толпа отвечала на его речи холодным смехом. Ничем не мог он победить холодности толпы, ничем не мог изменить мнения глупцов. Своих судей он называет глупцами, своих читателей – вообще холодною толпою. Но эти жесткие слова у него вырвались как будто невольно; он никак не мог смотреть хладнокровно, равнодушно на «тупую чернь». Чувствуя в душе гнев, или скорее горечь, он сам старается успокоиться, он говорит себе:
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Угрюм! При всех утешениях самому себе, он чувствует, однако же, что не может не быть угрюмым.
Ты царь: живи один! –
говорит он сам себе; а между тем, несмотря на то что в нем так живо чувство своего царственного величия, он остается печальным, угрюмым; ему тяжело жить одному, тяжело без сочувствия.
Какая грустная история! Прочтите эти стихи, вы не найдете в них ни одного намека на какие-нибудь личные несчастия поэта, на его положение в обществе просто как человека, на притеснения или гонения, которые претерпел он; нет – здесь выступает только одно отношение между поэтом и его читателями, между писателем и публикою. Пушкин всею натурою своею был поэтом; что бы он сам ни говорил в минуты печали, для поэта главное – сочувствие его произведениям, или, говоря широкими словами самого Пушкина, народная любовь. И потому немудрено, что он во всем мог утешиться своею поэзией, но что ничто не могло его утешить в невнимании и холодности к его поэзии. Это было его главным несчастием, глубочайшею язвою его жизни.
Нельзя не заметить, что хотя в «Памятнике» поэт ближе к спокойствию, но страдания, от которых поэт хочет уйти в свое величие, указываются более резкими и мрачными чертами. Стараясь сохранить перед обидой равнодушие, поэт говорит себе:
Обиды не страшись, не требуй и венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно…
Клевету! – это уже не суд глупцов, не смех толпы холодной, а что-то гораздо хуже. Клевета уже не детская резвость, не холодность, не глупое суждение, а уже прямо действие злобы, умышленный вред, проявление того недоброжелательства, которое замечал вокруг себя Пушкин.
Немало можно было бы найти еще других доказательств его мучительного беспокойства. Одну из сторон этого беспокойства он одолел и поэтически воплотил ее в своих «Египетских ночах». Пушкин разбил самого себя на две фигуры, на Чарского и на импровизатора. Импровизатор – конечно, сам Пушкин, одна частица его огромного таланта, которою он вздумал одарить бедного итальянского проезжего. Рассказывая о нем, он в образах показал, как должна была страдать эта частица его души, как общество подавляло свободное развитие этой частицы. Припомните смех мужчин и вообще всю маленькую историю этой импровизации; наконец, это место:
«Импровизатор сошел с подмостков держа в руках урну и спросил: кому угодно будет вынуть тему? Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал…»
Бедный Пушкин! Так и кажется, что он сам все старался привыкнуть к этому северному равнодушию и все никак не мог к нему привыкнуть, все страдал от него. Все эти последние годы он старался себя успокоить, сдержать, затвориться в своем внутреннем святилище поэта; но его теплой душе, очевидно, не было, да и не могло быть примирения и успокоения. Холод царил вокруг него, наш северный русский холод; нежная душа поэта была не по климату, она сжималась и дрожала.
Об этом холоде, который Пушкин чувствовал вокруг себя, есть у него другое указание, чрезвычайно драгоценное. На этот раз поэт является перед нами не итальянцем, а испанцем, на что имеет большие права, если судить по его произведениям, изображающим Испанию, и вот как излагает свои впечатления («Гости съезжались на дачу»):
«Вы так откровенны и снисходительны, – сказал испанец, – что осмелюсь просить вас разрешить мне одну задачу. Я шатался по всему свету, представлялся во всех европейских дворах, везде посещал высшее общество, но нигде не чувствовал себя так связанным, как в проклятом вашем аристократическом кругу. Всякий раз, когда я вхожу в залу княгини В* и вижу эти неподвижные мумии, напоминающие мне египетское кладбище, какой-то холод меня пронимает. Меж ними нет ни одной моральной власти, ни одно имя не натвержено мне славою… Перед кем же я робею?
– Перед недоброжелательством, – отвечал русский. – Это черта наших нравов. В народе выражается она насмешливостью, в высшем кругу – невниманием и холодностью».
Итак, холод и недоброжелательство – вот что постоянно чувствовал вокруг себя Пушкин; можно себе представить, как должна была страдать чуткая и нежная душа поэта. Не нужно при этом упускать из виду, что Пушкин представляет нам один из образцов полного душевного здоровья. Малодушия в нем не было и тени; он не мог предаваться сентиментальному унынию, не мог падать духом и изливаться в жалобах. Поэтому проблески страдания, которые мы у него видим, имеют такой сдержанный характер и выразились как будто помимо его воли.
Со всем мирился Пушкин; во что бы то ни стало он хотел жить, сохранять душевную бодрость и силу и петь свои «дивные песни». Ему ставят обыкновенно в упрек, почему он не был деятелем протеста против современного ему порядка вещей, почему он уживался в нем. Но тут великая тайна. Он ужился со своим временем только потому, что был великий поэт, что у него был алтарь, огонь которого он должен был свято охранять.
Есть случаи, когда человек имеет право служить только вечным требованиям души. Так было при появлении христианства. Для спасения себя, для того, чтобы остаться человеком в вечном смысле этого слова, человек одарен страшною живучестию. Так, цветок иногда вырастает в трещине скалы и, несмотря на зной и бесплодие окружающей его пустыни, блещет и благоухает. Ужели кто-нибудь, вместо того чтобы любоваться им, станет укорять его за то, что он не чахнет?
Пушкин и без того умер рано, умер жертвою своих отношений к окружавшим его людям; но он успел сохранить нам в себе великого поэта. В этом обнаруживается такое обилие жизни, такая твердость характера, такая вера в себя и гениальная проницательность относительно своей судьбы, что невольно является мысль об избранной натуре и высшем назначении.
* * *
Но будучи вполне поэтом, Пушкин был в то же время вполне человеком в лучшем смысле этого слова. Его отношения к общественным делам, к отечеству заслуживают тщательного изучения. Они очень сложны, но живая правда прорывается в них широкими молниями. М.П. Погодин указывал на то, что Пушкин предсказал не только освобождение крестьян, но и самую форму, в которой произойдет это событие. Когда Пушкину было двадцать лет (1819), он был пламенным поклонником свободы и ненавидел наше крепостное право; и вот, изображая картину этого рабства, он с негодованием и надеждой воскликнул:
Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный,
И рабство падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?..
Другие два стиха Пушкина часто были повторяемы, как формула, в которой ясно и просто выражается историческое положение России:
Славянские ль ручьи сольются в Русском море,
Оно ль иссякнет – вот вопрос!
Эти стихи, может быть, возникли не без влияния Погодина, бывшего хорошим приятелем Пушкина. Но вообще у Пушкина нужно учиться политическому взгляду на Россию. Он первый понял сердцем, что Европа для нас чужой мир, и сказал ей, как до него никто не решился бы сказать:
Оставьте: это спор славян между собою…
………………
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали…
Он сердцем почувствовал, что наша сила в том единодушии и самоотвержении, которое воплощается для нас в повиновении нашему царю. Хотя была минута, выраженная им стихом:
В Москве не царь, в Москве – Россия!
но единодушие царя и народа воспето Пушкиным в лучшем его смысле и во всем его могуществе. Когда поэт грозил врагам России, он, как одну из самых страшных угроз, говорил им:
Иль русского царя уже бессильно слово?
Все русские люди, конечно, знают этот вопрос и повторяют его. В минуты уныния, когда надвигаются великие внешние опасности, или когда внутреннее расстройство раздирает государство, мы говорим:
Иль русского царя уже бессильно слово?
И в минуты гордости, когда мы предаемся великим надеждам и хотим внушить страх недругам, мы говорим точно так же:
Иль русского царя уже бессильно слово?
Патриотизм есть чувство очень сложное; он является часто в виде грубых, слепых пристрастий к своему, в виде закоснелости в привычках и нравах; но он может восходить и до самой чуткой и возвышенной преданности лучшим началам своего народа. Таков был патриотизм Пушкина; слепого пристрастия в нем не было. Чтобы убедиться в этом, стоит прочесть суждения поэта о нашей литературе, то есть о той области, к которой он был наиболее пристрастен, в которой Дельвига и Баратынского готов был ставить выше себя. Но еще лучше – прочесть его отрывок «Рославлев», начало повести, в которой он хотел в поэтической форме противопоставить свой настоящий патриотизм неправильному патриотизму Загоскина и его поклонников. Там есть описание московского общества в 1812 году, описание даже чуть ли не более резкое, чем картины Л.Н. Толстого в «Войне и мире»; эти картины, как известно, возбуждали и возбуждают негодование узких патриотов; но мы думаем, что именно у Пушкина и Л.Н. Толстого следует учиться истинному патриотизму.
Религиозность Пушкина, сказавшаяся в последние его годы, имеет тот же характер чистоты и силы, как и другие движения его души. Что прекраснее и проще его любимой молитвы?
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мои мне зреть, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения любви
И целомудрие мне в сердце оживи.
Итак, это была душа необычайной красоты, отзывавшаяся на все высокое, что встречалось ей в жизни, и предававшаяся ему искренне и живо, без напускной восторженности, без сентиментальности и мечтательности, без всякой фальши. В этой душе не было неизлечимых язв, не было дурных чувств, облекающихся в поэтический и грандиозный вид.
И потому понятно, как он должен был страдать, как на него должны были обрушиваться несчастье за несчастьем, пока, наконец, не случилось то несчастье, которое вырвало его из ряда живых. Пушкина часто упрекают в увлечениях и непостоянствах, но ведь никто из нас не родится зрелым человеком, и если можно указать на людей, подлежащих упреку гораздо меньше Пушкина, то, может быть, их спасла вовсе не твердость души, а только слабость ее стремлений. Пушкин же так был полон жизни, что должен был подпасть соблазнам, и гораздо большее достоинство нужно полагать не в том, что он от них уклонялся, а в том, что он их поборол и от них очистился. Когда он выступил в жизнь, его окружили соблазны необыкновенно сильные и увлекающие. Во-первых – свободомыслие, тогдашний наш революционаризм, подготовлявший декабрьский мятеж и бывший в полном цвету. Другой соблазн был – большой свет, тогдашнее избранное общество, открывшее к себе доступ поэту за его талант и манившее молодого человека своим блеском и тщеславием. Прибавьте сюда кутеж, разгул неслыханных размеров, который был в моде у тогдашней молодежи наравне со стихами, дуэлями и свободомыслием.
Сама литература была не чужда соблазнов; Пушкин вырос на французской риторической и чувственной словесности, и его стремились покорить с одной стороны сентиментальность Жуковского, с другой – эгоистическое разочарование Байрона. Представим же себе двадцатипятилетнего юношу, одаренного душою подвижною и кипящею и телом, в котором еще было много африканской крови, и мы поймем, как естественно и неизбежно он должен был поддаться обступившим его соблазнам и какая великая сила обнаружилась в его победе над ними. Эти соблазны, которых не он искал, а которые сами его искали, сами тянули его в себя, были его несчастьем, бедою, постигшею его и перенесенною им. Когда он вышел из-под их влияния, он иногда горько жаловался на эту свою судьбу. Ему не было еще тридцати лет, когда он писал:
Я вижу – в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, в гонении, в степях
Мои утраченные годы;
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды.
Это написано 19 мая 1828 г. Перед концом жизни он повторил ту же жалобу, и еще трогательнее. Он писал:
В уныньи часто
Я помышлял о юности моей,
Утраченной в бесплодных испытаньях,
О строгости заслуженных упреков,
О дружбе, заплатившей мне обидой
За жар души доверчивой и нежной –
И горькие кипели в сердце чувства!
И этот отрывок (1835 года), и предыдущий – были тайными излияниями Пушкина и не назначались им к печати. Это его искренние, свободно выраженные чувства, и тут есть все, о чем мы говорили: и безумство гибельной свободы, и хладный свет, и неистовые пиры и, наконец, обида и предательский привет с той стороны, с которой они были всего больнее для Пушкина, со стороны дружбы.
Да, с такою душою, какая была у Пушкина, он должен был много страдать. Это была душа, как он сам говорит, доверчивая и нежная; вообразим же себе обыкновенные недостатки нашего общества: русское недоброжелательство, русское злословие, русское взаимное недоверие, наконец, русское невежество и русский цинизм, и мы поймем, что душевные чувства Пушкина были непрерывно оскорбляемы. Не только свет наносил ему неотразимые обиды, но и в любви, в дружбе, в патриотических и религиозных чувствах он страдал от противоречия своих стремлений с тем, что находил вокруг себя. Он, например, возвел любовь к женщине до ее чистой силы, даже до благоговения пред святыней красоты; понятно, что он должен был натолкнуться на жестокие разочарования, как он жалуется на друзей, так он еще раньше и открыто жаловался на женщин:
Нечисто в них воображенье,
Не понимает нас оно,
И признак бога – вдохновенье
Для них и чуждо и смешно.
Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я содрогаюсь, сердцу больно,
Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?
Если мы сведем все это вместе, если вспомним, как бурно текла жизнь поэта среди этих беспрерывных обид и как доведена была до своего безвременного конца, то бесконечная жалость овладеет нами. Дорого поплатился Пушкин за тонкость своих чувств, за бесподобную красоту своих душевных движений. Истинной чувствительности в нем было во сто раз больше, чем в Карамзине и Жуковском, и только неистощимая бодрость и сила духа залечивала беспрерывные раны и сохраняла ясность мысли. И все-таки стихотворения последнего года его жизни (1836) дышат глубокою, суровою грустью. На лицейском празднике этого года он начал читать одно из них:
Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался…
и вдруг залился слезами и не мог продолжать чтения…









































