Текст книги "Роковые вопросы. Русские писатели против Запада"
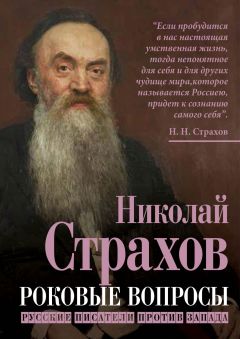
Автор книги: Николай Страхов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Не слуги просвещенья, а холопы!
и которое отзывается на сей раз и в статье г. Соловьева.
Очень громки эти слова: борьба с Западом, но смысл их, как знают читатели, очень скромный. Они выражают желание труда, твердой умственной работы, при которой одной невозможно рабство перед авторитетом. Проповедуется не отрицание авторитетов, а их точная и правильная критика, требующая самостоятельной работы мысли.
Пусть мои собственные попытки слабы и маловажны, как того желает г. Соловьев; но я стою не за них, а за свое знамя, и так как оно зовет к строгому размышлению и труду, то мне можно, кажется, не бояться ответственности за то, что я распустил это знамя. Будьте свободны духом, и дадутся вам все умственные блага и успехи! Возможно ли не видеть, как рабство перед умственным миром Европы подавляет наши силы? Если статья г. Соловьева на кого-нибудь подействовала (не думаю, впрочем), то влияние ее должно быть только вредное. Греки говорили: познай самого себя, будь самим собою! Из тщеславия, из слабости, из самолюбия мы тянемся за Европой, принимаем на себя всякие чужие виды, исповедуем всякие чужие мысли и чувства и, предаваясь горячо и спешно такому самоусовершенствованию, забываем и заглушаем то, что одно имеет цену в мире духовной деятельности – собственную мысль, собственное чувство. Между тем, если мы только будем сами собой, если только научимся искусству стоять на своих ногах, то что бы мы ни писали, стихи или критику, ученую диссертацию или шутливый фельетон, – на всем будет лежать яркая печать самобытного русского ума и чувства. Таков закон человеческой души, таков закон жизни, которая проявляет силу своего творчества лишь в определенных формах, следовательно в своеобразных.
Упреки и сомненияСлавянофилы никогда не были оптимистами в суждениях о русском просвещении. Напротив, они очень строго судили о нашей литературе, науке, искусстве, иногда даже грешили по избытку строгости. У Хомякова, у И. Аксакова можно найти много самых горьких упреков нашей культуре, ее зыбкости, фальшивости и внутреннему бессилию. Западники всегда были довольнее нашим просвещением, потому что требования их были очень просты и, можно сказать, плоски, число их приверженцев было несравненно больше, и всякая умственная деятельность в духе западничества нарастала и распространялась с каждым днем. Западники желали больше всего прогресса в наших общественных порядках, славянофилы же брали дело гораздо выше и полагали главное в умственном перевороте, в глубоком преобразовании чувств и мыслей. Н.Я. Данилевский в этом смысле был ничуть не доволен развитием России и посвятил этому вопросу особую главу «Европейничанье – болезнь русской жизни», главу, оставленную г. Соловьевым без всякого внимания.
Итак, если западники считают лучшим своим занятием ежедневно в газетах и журналах щеголять некоторой скорбью, то напрасно они присваивают себе какую-то монополию на скорбь. Кто больше и истиннее любит, тому и приходится больше и истиннее не только радоваться, но и огорчаться, и приходить в уныние и боязнь. И как обидно бывает, когда эту скорбь и волнение глубоко любящего человека поставят вдруг на одну доску со злорадными обличениями человека равнодушного или даже ненавидящего! Когда из слов, относящихся к частному случаю, или выражающих временное огорчение, вдруг с бездушной недобросовестностью сделают какой-то общий приговор! Такие извращения не редкость у иностранных писателей и газетчиков, которым нет дела до наших чувств; можно сказать, что нечто подобное сделал и г. Соловьев, когда в конце своей статьи привел одно восклицание Данилевского и несколько моих строк, как подтверждение своих суждений. Г. Соловьев, мы надеемся, чужд злорадства и ненависти, но его мнения, как он сам знает, придутся по душе многим злорадникам и ненавистникам, и нет никакого удовольствия вместе с ним служить для них потехой.
Между тем, есть великая разница в самом смысле славянофильских и западнических упреков, даже если бы они совпадали в предмете осуждения. Известно, что славянофилы видели в России некоторое раздвоение, что они глубоко чтили дух русского народа, живущий в массе низших сословий, и питали мало уваженья к объевропеившейся части народа, которую Данилевский так хорошо называл «внешним выветрившимся слоем», покрывающим твердое ядро. Упреки славянофилов относятся именно к этому слою, заправляющему у нас почти вполне и внешними, и внутренними делами, но никак не ко всему народу, взятому в его внутренних силах и возможностях. Вот и разгадка того противоречия, которое нашел г. Соловьев в моих унылых словах, сказанных по случаю смерти Аксакова. «Он смущается, – пишет г. Соловьев обо мне, – и унывает только за нас, а само славянофильство остается для него в своем прежнем ореоле». И через несколько строк: «Он (все я же. – Н. С.) рассуждает так: мы оказываемся духовно-слабыми и для всемирных дел непригодными, – следовательно, нам должно быть стыдно перед славянофилами, которые так на нас уповали. Но не правильнее ли будет обернуть заключение: мы оказались духовно-слабыми и несостоятельными для великих дел к стыду славянофильства, которое понапрасну и неосновательно надеялось на наши мнимые силы?».
Г. Соловьев хочет сказать, что я смущаюсь и унываю и стыжусь будто бы за весь русский народ; нет, он ошибся, к таким чувствам я вовсе не расположен; я часто смущаюсь и унываю и стыжусь, но только за нас в тесном смысле, т. е. за себя с г. Соловьевым, за наше общество, за ветер в головах наших образованных людей и мыслителей, за то, что мы не исполняем обязанностей того положения, которое занимаем, что мы так неисцелимо тщеславны и легкомысленны, что мы не любим труда и постоянства, а предпочитаем разливаться в красноречии и только являться деятелями. Много у меня предметов смущенья, уныния и стыда; но за русский народ, за свою великую Родину я не могу, не умею смущаться, унывать и стыдиться. Стыдиться России? Сохрани нас, Боже! Это было бы для меня неизмеримо ужаснее, чем если бы я должен был стыдиться своего отца и своей матери. Иные речи г. Соловьева о России кажутся мне просто непочтительными, дерзкими. Вот какое у меня настроение чувств, и вот почему я так уважаю славянофилов; по моему мнению, это самое настроение есть истинный корень славянофильства.
Нелегко было богатырю Н.Я. Данилевскому, когда он, читая в своей книге, что никак не может оказаться, чтобы Россия была
Больной, расслабленный колосс,
черкнул на полях: «Увы! начинает оказываться!» Что он разумел под этим? И что бы он написал, если бы ему довелось вполне изложить свою мысль? Может быть, эта заметка была сделана после печальных вестей о Берлинском конгрессе. Но если так, то нет никакого сомнения, что упрек здесь относился только к злополучному ходу нашей внешней политики, а не к русскому народу и его будущим судьбам. Последняя наша война сама служит только ярким доказательством того, как часто наши внешние дела ничуть не соответствуют исполинской душевной мощи нашего народа. Г. Соловьев с видимым удовольствием признает в заметке Данилевского будто бы согласие со своими мыслями, извлеченное из опыта, и, следовательно, полагает, что Россия действительно «больной, расслабленный колосс». Но не то говорит чувство тех, кто никогда не отделял себя от Родины. Много болезней точат безмерное тело России; но, несмотря на то, чувство душевной бодрости, молодой свежести и отваги, неисчерпаемого избытка жизни и здоровья с такой силой разлито по этому колоссу, беспечно растущему и беспечно проживающему день за днем, год за годом, что все мы невольно сознаем это стихийное богатырство, и сомнение в нем готовы считать за признак «больных, расслабленных» людей, которых где же не бывает.
Данилевский, который не только живо чувствовал в себе это здоровье, но умел привести себе к сознанию самый дух и судьбу своего народа и даже облек это сознание в научные формы, – нет, г. Данилевский не мог из-за Берлинского конгресса усомниться в России!
Русские писатели и Запад
Ход нашей литературы, начиная от Ломоносова
Наша самобытностьИсторию русской литературы можно рассматривать как историю постепенного освобождения русского ума и чувства от западных влияний, постепенного развития нашей самобытности в словесном художестве. Благодаря небесам, мы теперь стоим крепко на своих ногах, и потому можем уже понимать эту историю, имеем твердые основания для суждения об ее явлениях – с этой точки зрения.
От Ломоносова начинается у нас ряд таких европейских влияний, которые уже не порождают одной подражательности, а действительно вызывают к самодеятельности наш народный дух. Для прогрессивных историков, каков и г. Полевой, Ломоносов сливается с предшествующими и современными ему писателями; но для нас он выделяется резко; в нем совершилось чудо – созданы произведения, равные своим образам, и явился язык, вполне пригодный для таких произведений.
Ломоносовская ода есть явление удивительное. Искренность и живость многих стихов поразительны; великолепное течение речи, которое вполне усвоил себе только Пушкин, не уступит никаким одам в мире. Вообще на так называемую ложноклассическую эпоху нашей литературы вовсе не следует смотреть так презрительно, как на нее обыкновенно смотрят. В ней видят одну подражательную напыщенность, одну ложь, возникшую в подобие тому, что само было ложью, то есть французскому псевдоклассицизму. Нет сомнения, что в самой жизни было нечто поддерживавшее высокопарность наших од и ходульность наших трагедий. Россия в тот период, очевидно, питала великие надежды и по временам испытывала упоение славы.
Сближаясь с Европой, мы сразу показали себя равными ей в одном отношении – в государственном могуществе, и это не могло не возбудить нашей гордости. Ясно было, что нам открывается безмерное поприще, всемирно-историческое значение; европейская цивилизация тогда еще не пугала и не подавляла нас, как теперь, а, напротив, возбуждала в нас только юношескую бодрость и надежду. Эпоха Петра была блистательным заявлением нашего могущества, век Екатерины был веком твердой, громкой славы. Было бы странно, если бы литература не отразила в себе того героического восторга, который составлял самую светлую сторону тогдашней жизни России. Было бы странно, если бы при таком ненатуральном приподнятом положении народа, литература была натуральной, если бы она отражала в себе тогдашнюю будничную действительность, а не те порывы и помыслы, которые носились поверх этой действительности.
Этот молодой восторг прошел, как мы знаем; более близкое знакомство с Европой, более точный анализ нашего положения подорвали наши надежды и показали нам ту сложность и трудность задачи, которой мы сперва и не подозревали; но период восторга (от Ломоносова до Карамзина), период оды и трагедий принес и свой положительный плод, оставил нам долговечное наследство. Самая восторженность не умерла в нас, и еще не вовсе потухли в нас искры того пламени, которое вспыхивало в Ломоносове и Державине; но осталось и более явное и, так сказать, осязательное наследство – наш литературный язык.
Когда явился Пушкин, язык для него был уже готов. Язык вообще есть дело очень таинственное. Ломоносов, например, едва ли ясно видел размеры подвига, который он совершил в этом отношении. Отлично чувствуя красоты и силы языка, он заранее верил, что найдет в нем все средства для выражения своих мыслей; создавать, казалось, ничего не нужно было; а между тем, вышел новый язык, которым еще никто до него не писал.
Задача вообще предстояла огромная. Если бы тогда водились у нас скептики и нигилисты, смиренно преклоняющееся перед Европой и не верящие в русские духовные силы, то они, по-видимому совершенно основательно, могли бы говорить, что пытаться писать русские поэмы и трагедии, подобные европейским, есть совершенная нелепость, несбыточная затея, так как у нас нет языка, нет оборотов и выражений для высоких и тонких мыслей. Даже в тридцатых годах нашего столетия один из наших министров народного просвещения сказал же русскому ученому, просившему пособия на издание перевода Платона, что он не думает, чтобы можно было русским языком удачно передать речь греческого мудреца, что французский язык, – совсем другое дело.
Итак, как же совершилось чудо? Каким образом русских людей не остановили сомнения, столь очевидные и основательные? Вера их была так крепка, что не задумывалась и не колебалась. И вот они пустились на истинно варварском языке выражать самые возвышенные чувства, изысканный героизм, напряженные и величественные страсти. Все, что образованный мир наследовал от древних и внес от себя, что признавалось в те дни поэтическим и высоким, было пересказано по-русски. Для того, чтобы представить себе ту живость и естественность, до которой доходило это перенимание, нужно вспомнить театр той эпохи, тот театр, который еще во всем блеске застал Пушкин.
Где Озеров невольны дни
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил,
Где наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый.
Говоря о Сумарокове, г. Полевой подробно излагает недостатки того рода драматических произведений, который тогда господствовал; но он ни слова не говорит о том, в чем могла состоять привлекательность этих произведений, что выходило из них для зрителей. В то время явились первые русские актеры, то есть явились люди, которые своим голосом, лицом и всей фигурой взялись изображать эти неестественные лица, эти ходульные чувства, и делали это превосходно, в высшей степени естественно. Русские оказались чрезвычайно способными к актерству. Кто хочет иметь понятие о том, что из этого выходило, пусть прочтет «Воспоминания» С.Т. Аксакова. Изящнейшие рыцари, величественные герои, несравненные полубоги являлись перед зрителями, как живые лица, и поражали их восторгом и умилением. Идеализация воплощалась в слове, в дикции, в жесте и выражении лица.
Несомненно, что таким образом были приобретены великие богатства. Язык и стих поднялись в своей выразительности до самой крайней высоты. Трудам и талантам этого периода мы отчасти обязаны тем, что свободно можем выражать на своем языке всякую поэзию, всякую мысль.
За ломоносовским периодом следовал карамзинский, в котором бессознательная вера была не менее сильна и принесла не менее обильные плоды. Карамзин, Жуковский, Батюшков и пр. интересны в том отношении, что нимало не сомневаются в нашем равенстве с Европой, простодушно становятся наравне с ней. И происходят чудеса, не уступающие прежним. Вдруг является русская история, является во всеоружии, в столь крепких очерках, что для нее потом безвредно проходят все бури сомнений и неверия, продолжающиеся до сего дня. Вдруг область поэзии расширяется неизмеримо, спускаясь до ежедневных чувств, до будничных мелочей.
Г. Полевой смотрит на Жуковского исключительно как на подражателя. Такой взгляд нам кажется односторонним, так как захватывает только внешность вещей. Жуковский нечто создал в русской литературе, именно создал ту манеру мыслить, чувствовать и выражаться, которой до него не знали, и в которой нашли себе выход известные поэтические стремления русской души. Мечтательность, сентиментальность не были у Жуковского и Карамзина чем-нибудь напускным и заимствованным; это были их естественные, прирожденные свойства, и никто нас не уверит (хоть и пытались), что Карамзин был, в сущности, человек жестокосердный, а Жуковский – хитрый придворный пролаза. Европейские влияния только пробудили те струны и силы, которые уже хранились и в русских душах.
Да писатели этого периода вовсе и не думают подражать; они, как мы уже сказали, думают просто стать наравне с европейскими гениями, которые тогда славились. Вот откуда их смелость, их расположение бороться со своими образцами, их постоянные попытки оригинальных созданий. Рабства и копирования в них нет и следа. Тогда мы верили в свою литературу так, как никогда не верили ни прежде, ни потом. Мы имели лирику, драму, басню, историю, имели произведения во всех родах, и среди восторгов от этих произведений ни одна мысль о бедности нашей литературы и о ее подражательном характере не приходила в голову ни читателям, ни писателям.
Таковы некоторые черты той истории, которая послужила подножием для действительного основателя самобытной русской литературы, для Пушкина. Пушкин – вот роскошный плод этих усилий, этого обилия веры в себя, этих подражаний, чуждых рабства. В Пушкине завершился наш язык, завершилось распространение кругозора нашей поэзии, и идеал русской души, истинная мера ее чувств и движений выразились в такой полноте, что вся дальнейшая литература может быть рассматриваема как развитие зачатков, положенных Пушкиным.
А между тем, Пушкин, по-видимому, есть тоже подражатель. Его язык, приемы, формы – все принадлежит современной ему литературе. Вот самый поразительный пример, как внешность в этом случае обманчива, как строго нужно обращать внимание на дух писателя, на его, так сказать, внутреннюю форму, чтобы понять его настоящий смысл. Как французский псевдоклассицизм в сущности был выражением чисто французских идеалов, воплощал дух и понятия великой нации, так и в Пушкине под чужими формами развилось совершенно самобытное содержание.
Гений Пушкина не тяготился формой. С чисто русской гибкостью он схватывает и усваивает себе все, всякую форму и всякий язык. Процесс, который при этом совершался в поэте, который происходил в нем с чрезвычайной быстротой, силой и отчетливостью, есть дело в высшей степени важное и любопытное. Чужое усваивалось во всей его полноте и многосторонности; потом наступала борьба с чужим и его разложение; наконец или, лучше, одновременно с этим возникало свое, били ключи из неведомой глубины народного духа.
Пушкин нашел и воплотил в своих последних произведениях – правильное отношение к русской действительности, нашел приемы, посредством которых можно возводить в поэзию эту действительность, не прикрашивая ее, не изменяя и не переодевая. Отсюда становится понятным, почему все последовавшие писатели могут быть, в известном смысле, сведены на Пушкина; именно в Пушкине всегда можно найти ту струну, ту сферу чувства и понимания, которая составляла впоследствии особенность какого-нибудь писателя, была им специально разрабатываема. Так, зачатки Гоголя можно найти в «Гробовщике»; Островский, конечно, ведет свое происхождение от «Бориса Годунова»; тон Некрасова уже взят в замечательном стихотворении «Гуманный критик мой, насмешник толстопузый»; Достоевский начинается от «Станционного смотрителя»; С.Т. Аксаков и Л.Н. Толстой от «Капитанской дочки». Мы указали при этом на самых оригинальных наших писателей, вносивших в литературу, по-видимому, совершенно новый элемент, «новое слово».
Этими замечаниями мы желали бы дать почувствовать читателю, что в Пушкине, очевидно, совершалось поэтическое душевное движение огромных размеров и глубочайшего значения. Об этом движении, которое первый понял Ап. Григорьев, у нас обыкновенно не имеют никакого понятия; о нем ни слова не говорит и г. Полевой, упоминающий о таких произведениях, как «Пиковая дама», «Капитанская дочка», – не только равнодушно, а даже с некоторым пренебрежением.
Вера в себяСвязь между развитием писателя и его веком есть дело первой важности, так как истинная поэзия не есть отвлеченная вещь, а сливается с глубочайшими движениями жизни народа. Если же так, то легко понять, почему столь несовершенна история нашей новой литературы: у нас почти вовсе нет истории государства и народа за последний период, начинающийся с Петра. Совершенно ясно, что этот период еще не кончен, что мы сами еще охвачены его интересами и столкновениями; преобразования минувшего царствования, хотя в них и «послышалась нам наша старина», все-таки составляют продолжение эпохи, начатой Петром.
Понятно поэтому, что мы не можем смотреть на явления этого периода объективно и беспристрастно, что мы не имеем о них установившихся понятий. Сверх того, и самая сущность дела, как нам кажется, трудна необыкновенно; жизненное движение, происходившее в этом периоде, так сложно, противоречиво, неясно, что нужны очень гибкие и необыкновенные категории, чтобы уложить его в определенные формы мысли. И вот как случилось, что до сих пор мы, собственно, стоим в недоумении перед новой русской историей, а проживши энергической жизнью полтора столетия, наполнивши мир славой и страхом, создавши свою литературу, театр, музыку, чувствуя в себе крепость сил непоколебимую, мы все еще с изумлением оглядываем сами себя и готовы в минуту сомнения счесть всю эту историю почти за бессмыслицу.
А если так, то мудрено нам и понимать связь между нашими писателями и тем временем, которое их воспитало. Некоторые черты, впрочем, так ясны, что их смело можно указать. Например, Ломоносов есть, очевидно, воспитанник Петровской эпохи; Карамзин – плод Екатерининского времени; Пушкин и плеяда поэтов, его окружавших, порождены 1812 годом, Лев Толстой есть порождение того, что сам он называет «Севастопольской эпопеей». Таким образом, ясно, что время особенных напряжений народных, время, когда дух народа подымался и чувствовал свою мощь, оставляло следы в избранных душах, оплодотворяло дарования!
Можно сделать и обратное заключение: если мы находим, что известная эпоха отразилась в крупных явлениях литературы, то это доказывает, что она действительно отличалась усиленной жизнью народного духа. Стихи Державина лучше всяких изысканий показывают, что Россия того времени упивалась восторгом от своей славы, а строй мыслей и чувств Карамзина непререкаемо свидетельствует о лучших сторонах того духа, к которым было проникнуто царствование Екатерины. При слабости нашего исторического понимания близких к нам эпох, указания литературы составляют даже почти единственную путеводную нить при воссоздании той жизни, которая одушевляла эти эпохи.
Возьмем какую-нибудь частность, – например, 1812 год. Г. Полевой не видит ничего хорошего в том действии, которое произвела эта вечно памятная война с Европой на нашу литературу. Он, во-первых, считает за некоторую помеху развития нашей литературы то, что тогдашние писатели так легко увлекались воинским духом. Из наших знаменитостей, как известно, Жуковский был в ополчении, Батюшков делал весь поход по Европе; о Грибоедове наш историк рассказывает так: «1812 год и ему, как большей части тогдашнего русского юношества, становится поперек дороги: 17-летний Грибоедов бросает все, поступает корнетом в Салтыковский гусарский полк и в 1813 году является уже в Брест-Литовске в одном из наших гусарских полков… Об этом пребывании своем в гусарах Грибоедов не мог вспомнить без особенного негодования и утверждал, что пробыв всего четыре месяца в этой дружине, целых четыре года не мог потом попасть на путь истинный».
Таким образом, г. Полевой, как видим, готов предположить, что если бы русские юноши того времени не поддавались общему течению и не поступали в гусаарские и другие ужасные полки, а занимались бы науками и опытами в словесности, то наша литература и все развитие оказали бы несравненно большие успехи.
Но еще хуже, по мнению г. Полевого, те последствия, которые порождены были нашими победами, безмерным патриотическим воодушевлением. Интересный образчик того, как извращены были взгляды этим настроением, г. Полевой приводит в биографии Батюшкова:
«Дошедшие до нас письма его, писанные из Парижа, указывают на то, что и Батюшков наравне со множеством современников своих решительно потерял голову в чаду упоения той славой, которая так изобильно увенчала лаврами наше оружие, и той рыцарской, бескорыстной борьбой за свободу Европы, которую мы так твердо вынесли. Видно, что Батюшков и в это время все еще продолжал жить одним только настоящим, не задумываясь о завтрашнем дне, да к тому же и очень легко приходил в восторг.
«…Я часто с удовольствием смотрю, – пишет он из Парижа Данилову – как наши казаки беспечно проезжают через Аустерлицкий мост, любуясь его удивительным построением; с удовольствием неизъяснимым вижу русских гренадер перед Траяновой колонной или у решетки Тюльери, перед Arc de Triomphe, где изображены и Ульм, и Аустерлиц, и Фридланд, и Иена… Французы дорого заплатили за свою славу, любезный друг».
Таким же увлечением и заносчивым поверхностным взглядом на Францию, на французскую литературу и просвещение отзывается вообще все то, что Батюшков пишет из Парижа о пребывании в нем, причем называет себя «маленьким Тибуллом или, проще, капитаном русской императорской службы, что в нынешнее время важнее, нежели бывший кавалер или всадник римский (ибо, по словам Соломона, «живой воробей лучше мертвого льва»)»…
Особенно странно и неприятно поражают нас суждения «маленького Тибулла» о современном состоянии французской литературы:
«Нынешний год была предложена к увенчанию (в академии) «Смерть Баярда», но по слабости поэзии не получила обыкновенной награды. Теперь отгадайте, какой предмет назначен для будущего года? – «Польза прививания коровьей оспы!» Это хоть бы нашей Академии выдумать! По этому, любезный друг, можете судить о состоянии французской словесности. Ее не любил Наполеон… что немало послужило к упадку академии французской. Правление должно лелеять и баловать муз; иначе они будут бесплодны. Следуя обыкновенному течению вещей, я думаю, что век славы для французской словесности прошел и вряд ли может когда воротиться. Впрочем, мирное отечественное правление будет во сто раз благосклоннее для муз судорожного тиранского правления корсиканца…».
Мы понимаем, почему эти слова Батюшкова кажутся г. Полевому одни – просто странными и неприятными, а другие – особенно странными и неприятными. Батюшков восхищается и гордится тем, чем, по мнению г. Полевого, нельзя гордиться, и отзывается очень смело и поверхностно о том, перед чем следует благоговеть. Он осмеливается смотреть свысока на французскую словесность – какова дерзость! Он осмеливается мечтать, что правление, которое мы тогда установили во Франции, будет благоприятнее музам, чем Наполеон, – каково ослепление!
Что касается до нас, то этот тон самоуверенности и радости представляет для нас явление истинно-приятное. Такое настроение должно было сильно содействовать развитию нашей литературы. Именно как? Писатель в те времена считал для себя возможным ту же славу, тот же гений, какие он находил у других народов. Мы признали своей всю поэзию, какую только знали; отсюда такое множество переводов и подражаний, не уступающих подлинникам и имеющих все значение оригинальных произведений. Отсюда несколько ложный, но истинно чудесный колорит, который наброшен был на все явления русской жизни; все было опоэтизировано и, хотя облечено было в формы отчасти чужие, но в них сказалось много и своего. Батюшков недаром называет себя Тибуллом и мечтает, глядя на наших солдат в Париже, что он ничем не хуже какого-нибудь римского всадника.
* * *
Без веры в себя невозможно никакое развитие, и только веруя в свой народ, Карамзин мог создать свою «Историю» в подражание Юму, а Пушкин «Капитанскую дочку» – в подражание Вальтеру Скотту. Верой же мы надолго запаслись в 1812 году, и ни в ком она не проявилась так сильно, живо, безгранично смело, как в Пушкине. Все места, где Пушкин говорит о 1812 годе, свидетельствуют о неизгладимом и несравненном впечатлении. Пушкин был в это время отроком и, следовательно, в той поре, когда впервые раскрывается душа и впечатления действуют всего могущественнее.
Вы помните? Текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас…
Как искренно и как глубоко! Идти на войну не значит, как воображает, кажется, большая часть нынешних писателей, идти убивать других; это значит прежде всего идти самому на смерть.
Соображая все это, мы были очень удивлены, встретив у г. Полевого о стихотворениях Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» такой отзыв: «В них совершенно нет ни того теплого чувства, ни той искренности, которые одни только и способны придать значение всякому патриотическому стихотворению».
Дальше этого, по нашему мнению, непонимание дела простираться не может. Стихотворения эти не только говорят сами за себя, но и согласуются строжайшим образом со всей историей развития Пушкина, со всем, что он говорил и писал.
Заметим, что уже Пушкин хорошо знал сомнения относительно нашей славы, что он уже слышал скептические голоса – и свои, и чужие. Он спрашивает:
Что взяли вы? Еще ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Еще ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Но эти сомнения потом выросли и заполонили нас до такой степени, что многие у нас перестали понимать самую возможность искренней и живой веры в Россию. Между тем, если мы не понимаем веры в Россию, то мы ровно ничего не поймем в русской литературе – вот какая беда грозит новым, просвещенным историкам этой литературы. Если мы думаем, что Россия – больной, расслабленный колосс, и что ее слава – пустая притча, то на людей, восхищающихся этой славой, мы естественно будем смотреть или как на глупцов, не понимающих дела, или как на лгунов, писавших громкие фразы ради лести и из видов. Тогда нам покажется странен и неприятен Батюшков, любующийся казаками на Аустерлицком мосту, и мы не найдем ни искренности, ни теплоты в стихотворении «Клеветникам России». Тогда вся наша литература окажется и фальшивой, и непонятной; ибо не только все большие русские писатели от Ломоносова до Льва Толстого проникнуты верой в Россию, но эта вера была существенным, главным условием их деятельности.
Скептицизм есть чувство непроизводительное, и напрасно думают наши историки, что наши сатирические писатели, которых они особенно любят – Фонвизин, Грибоедов, Гоголь и т. п. – питались одним разочарованием и неверием. Дать полную волю своей насмешливости, казнить без пощады каждое темное явление возможно только при непоколебимой вере, что эти явления суть частности и случайности, не имеющие существенного значения для здоровья и силы целой России. Император Николай разрешил постановку «Ревизора» и сам смеялся на представлении. Скептик Чаадаев удивляется этому факту, не понимая, что только он, маловерный, мог видеть в этой комедии обличение несостоятельности всей русской жизни; Николаю же при его обилии веры не могло прийти в голову бояться того, что глупость и подлость, встречающаяся у нас, всенародно казнятся на сцене. И можем уверить наших историков, что Гоголь имел в этом случае такие же чувства, как Император Николай.









































