Текст книги "Роковые вопросы. Русские писатели против Запада"
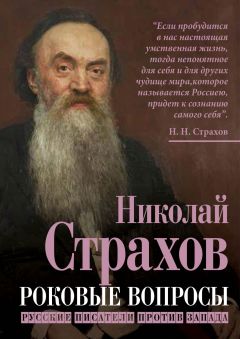
Автор книги: Николай Страхов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Человечество не представляет собою чего-то единого, «живого целого», а скорее походит на некоторую живую стихию, стремящуюся на всех точках складываться в такие формы, которые представляют большую или меньшую аналогию с организмами. Самые крупные из этих форм, имеющие ясную связь между частями и ясную линию общего развития, составляют то, что Данилевский назвал «культурно-историческими типами». Чтобы убедиться в их существовании, нужно только ясно представить себе некоторую совокупность множества людей, связанных и соседством по месту, и общностью языка, душевного склада и всего быта, и вообразить, что в подобной массе по мере того, как поколения следуют за поколениями совершается ясное культурное развитие, нарастание, расцвет и одряхление особого склада всех сфер человеческой жизни. Тут, очевидно, существует некоторая реальная и органическая связь между отдельными людьми, какой мы никак не можем видеть в человечестве, взятом в совокупности. В то же время история нам показывает, что эта связь имеет великую важность, потому что только в таких больших группах мы и находим высокое развитие человеческих сил и действий, так что только судьба таких групп и составляет настоящий предмет истории.
Но из этих ясных и несомненных фактов вовсе не следует, чтобы не было таких нравственных обязанностей и таких естественных прав, в которых все люди равны между собою; не следует, вообще, что вовсе нет такой общей области, которая стоит выше культурных типов, и историю которой можно, в известном смысле, назвать жизнью человечества. Дело это ясное, и если мы не будем его умышленно путать, то легко усвоим себе то разграничение, которое нужно при этом делать. Вот как выражается об этом предмете Н.Я. Данилевский:
«Народы каждого культурно-исторического типа не вотще трудятся; результаты их труда остаются собственностью всех других народов, достигающих цивилизационного периода своего развития, и труда этого повторять незачем».
Например:
«Развитие положительной науки о природе составляет существеннейший результат германо-романской цивилизации, плод европейского культурно-исторического типа; так точно, как искусство, развитие идеи прекрасного, было преимущественным плодом цивилизации греческой; право и политическая организация государства – плодом цивилизации римской; развитие религиозной идеи единого истинного Бога – плодом цивилизации еврейской».
В другом месте:
«Науки и искусства (и преимущественно науки) составляют драгоценнейшее наследие, оставляемое после себя культурно-историческими типами, хотя они составляют самый существенный вклад в общую сокровищницу человечества».
Итак, существует общая сокровищница человечества, в которую каждый тип вносит плод своей цивилизации, как некоторое наследие, равно принадлежащее всем существующим и будущим типам. То, что раз вошло в эту сокровищницу, сохраняется там навсегда, и сокровищница растет, хотя типы сменяются и исчезают. Человечество живет, постоянно пользуясь этими общими сокровищами, так что отвлеченно можно сказать, что жизнь человечества становится все богаче и богаче.
Вот в какой области и какой прогресс признавал Н.Я. Данилевский в общем ходе истории.
Всем нам очень хорошо известно существование этих наследственных богатств, и все мы знаем, какая разница между этим общечеловеческим достоянием и тем имуществом, которое принадлежит нам, как членам особого культурного типа. Носители нашей родной культуры суть живые люди, которые нас родили и воспитали, среди которых мы живем и действуем. Общая же сокровищница не имеет живых носителей в точном смысле слова; она хранится в книгах и всякого рода памятниках, равно всем доступных и дорогих, но и равно всем чуждых, ни с кем прямо не связанных. Разница всего яснее на отношениях, в которых, например, мы стоим к нашему родному языку и родной литературе и к какой-нибудь древней письменности, латинской, греческой. Для образования нашего ума и чувства, для понимания поэзии и красоты человеческой речи Пушкин и Гоголь служат нам больше, чем Гомер и Вергилий, какие бы усилия мы не делали, чтобы усвоить себе эти творения отживших народов. Да мы хорошо знаем, что и богатства общей сокровищницы всего больше доступны именно тому, кто умеет вполне владеть и наслаждаться своими родовыми богатствами.
Но, с другой стороны, существование общей сокровищницы есть великое благо, которым хотя отчасти восполняется всегдашняя ограниченность и слабость человеческих сил. «Для человечества, – пишет Н.Я. Данилевский, – как для коллективного и все-таки конечного существа – нет другого назначения, другой задачи, кроме разновременного и разноместного (т. е. разноплеменного) выражения разнообразных сторон и направлений жизненной деятельности, лежащих в его идее и часто несовместимых как в одном человеке, так и в одном культурно-историческом типе развития».
Не может никакой человек быть всесторонним, совмещать в себе все направления человеческой деятельности; так точно и те огромные скопления людей, которые соединены культурной связью, хотя расширяют и углубляют свою деятельность в течение множества поколений, хотя в силу этого в таких скоплениях развитие человеческой души достигает высшей степени, но и они никогда не представляют всесторонности, и их культура запечатлена некоторым органическим своеобразием. Поэтому люди спохватились и стали собирать общую сокровищницу, в которой сохранялось бы все, чем они могут владеть, но чего сами добыть не в состоянии. Стали хранить и изучать историю, стали печатать и изучать книги минувших культурных типов, построили архивы и музеи для всякого рода памятников. В людях живет всеобъемлющее духовное начало, и потому человечество постоянно борется со своей ограниченностью и с разрушительною силой времени. Наша сокровищница уже очень обильна и содержит величайшие драгоценности.
Но какое значение она имеет в действительной жизни народов? Хотя она всем открыта и в силу своей идеи должна содержать все общечеловеческое, оказывается, что пользоваться ею очень трудно. «Наши библиотеки, – писал Сен-Симон, – эти собрания всевозможных заблуждений, противоречий и нелепостей», – и он прав: бережно сохраняются в наших библиотеках всевозможные заблуждения, противоречия и нелепости в тысячекратно большем количестве, чем истина, и без живых руководителей безмерно трудно было бы найти ее в одних мертвых книгах. Один из крымских ханов (если не ошибаюсь, последний) для просвещения своего народа желал, чтобы была переведена на татарский язык энциклопедия Дидро и Даламбера. Не великое бы вышло просвещение!
Мы знаем, что всего легче заимствуется из общей сокровищницы печатные станки, железные дороги, телеграфы и пр. Но знаем, что во всем этом еще не заключается образование. Оказывается, что для того, чтобы народ мог пользоваться сокровищницей человечества, он должен уже до известной степени развить свою собственную культуру, совершенно так, как для перевода гениального поэта на другой язык, нужно, чтобы этот был язык уже богатый и гибкий.
Религия и наукаПосле того, что сейчас сказано, для читателя, конечно, не может быть никаких сомнений и неясностей в вопросе, как понимал Н.Я. Данилевский отношение науки и религии к народному и к общечеловеческому. Наука, как дело, по самому существу своему совершенно отвлеченное, должна целиком поступать в общую сокровищницу человечества. Значение народности может здесь состоять только в том, что в многосложном и многотрудном деле науки одна народность более способна производить одну работу, а другая другую, почему и необходимо для успехов науки, чтобы различные народности содействовали постройке общего здания. Религия по тому понятию, до которого давно уже возвысилось человеческое сознание, есть также нечто универсальное, долженствующее иметь силу для всех людей одинаково. Так смотрим на религию не только мы, христиане, но также смотрят и буддисты, и магометане. Совершенно несправедливо Ренан недавно упрекал покойного императора Вильгельма за привычку говорить: наш Бог. Ренан выводит из этих слов, что император признавал особого «Бога немцев»[1]1
Histoire du peuple d’Israel. T. 1, p. 264.
[Закрыть]. Но подобная мысль об особом Боге давно уже стала для людей вовсе невозможной; наш Бог значит просто – тот Бог, которого мы безусловно исповедуем, которому всецело предаем себя, но который есть единый истинный Бог, и если не всеми еще признается, то должен быть признаваем всеми людьми.
Между тем г. Соловьев, упорно закрывая глаза на эту правильную и вполне очевидную постановку дела, выставил в своей статье множество возражений Н.Я. Данилевскому, в сущности, не нуждающихся ни в каком опровержении. Например:
«Индия, несмотря на то, что она относится к уединенным типам, передала высшее выражение своей духовной культуры – буддизм – множеству народов совершенно другого племени и другого типа, передала не как материал только, не как «почвенное удобрение», а как верховное определяющее начало их цивилизации. Недаром наш автор во всех своих рассуждениях так тщательно умалчивает о буддизме: это огромное всемирно-историческое явление никак не может найти места в «естественной системе» истории. Религия – индийская по своему происхождению, но с универсальным содержанием, и не только вышедшая за пределы индийского культурно-исторического типа, но почти совсем исчезнувшая из Индии, зато глубоко и всесторонне усвоенная народами монгольской расы, не имеющими в других отношениях ничего общего с индусами, – религия, которая создала, как свое средоточие, такую своеобразную местную культуру, как тибетская, и однако же сохранила свой универсальный международный характер и исповедуется пятью или шестьюстами миллионов людей, рассеянных от Цейлона до Сибири и от Непала до Калифорнии – вот колоссальное фактическое опровержение всей теории Данилевского; ибо нет никакой возможности ни отрицать великой культурно-исторической важности буддизма, ни приурочить его к какому-нибудь отдельному племени или типу».
Да кто же вас просил приурочивать? Разве Данилевский когда-нибудь учил, что каждый тип должен иметь свою религию? Притом истинное отношение вещей как нельзя яснее выступает в том самом очерке судеб буддизма, который сделан г. Соловьевым. Несмотря на «великую культурно-историческую важность» этой религии, она распространилась по народам, которые «в других отношениях не имеют ничего общего» между собою, т. е. культурные типы продолжают существовать, несмотря на общую религию.
Вот «колоссальное фактическое» доказательство правды Данилевского. Г. Соловьев сам не замечает, что когда он хочет выставить на вид внутреннюю силу буддистской религии, то приписывает ей «великую культурно-историческую важность», называет ее «верховным определяющим началом цивилизации», когда же дело коснется ее универсальности, то он начинает упирать на полное различие народов, на «своеобразные местные культуры». Странное неуменье справиться с очень простыми отношениями понятий! Если бы г. Соловьев догадался, что ему нужно уяснить себе отношение культуры и религии, о чем он ни слова не говорит, и что нет ни малейшей надобности ни отрицать значение религии из-за культурных типов, ни жертвовать культурными типами из-за религии, то все его недоумения разом бы исчезли, и он вполне согласился бы с Данилевским.
В судьбах буддизма особенно интересен факт, что он почти исчез в самой Индии, его породившей. Не то же ли мы видим в христианстве, не удержавшемся в той еврейской культуре, которая была его первоначальной почвой? Такова сила особой культуры, ее неизбежная ограниченность; другие типы должны бывают принять на себя дело, которое превышает жизненный захват первоначальной культуры. К доказательствам неодолимой силы типового культурного развития следует отнести и то своеобразие, которое накладывается различными типами на общую им религию.
Что касается до науки, то, по-видимому, тут нет и повода к сомнениям и недоумениям. Христианство есть единая истинная религия; но и буддизм, и магометанство имеют притязание на такой же характер универсальности. Наука же одна для всего земного шара, и человек, столь глубоко, можно сказать, страстно преданный науке, как Н.Я. Данилевский, не мог не понимать этой ее существенной черты. Между тем г. Соловьев преспокойно приписал ему дикое и даже неудобопонятное мнение, что между различными науками одна принадлежит одному типу, другая другому и т. д., и потом пространно потешается доказательствами, как это нелепо. Свои рассуждения о науке г. Соловьев прямо начинает так:
«Позволительно прежде всего спросить: к какому культурно-историческому типу, к какой местной цивилизации должно приурочить ту науку или ту совокупность наук, о которой так хорошо рассуждает наш автор?»
Нет, г. Соловьев, это вовсе не «позволительно прежде всего». Ни прежде, ни после нельзя предлагать вопроса, к которому разбираемый автор не подавал никакого повода. Между тем наш критик распространяется:
«Древний грек (Гиппарх) создает искусственную систему для астрономии, славянин (Коперник) возводит эту науку на степень естественной системы, немец (Кеплер), опираясь на систему своего предшественника поляка, доходит до частных эмпирических законов в астрономии, а англичанин (Ньютон), продолжая их труды, возвышается, наконец, до общего рационального закона. К какому же культурно-историческому типу все это относится?».
Странная логика! Именно из того, что успехи астрономии потребовали участия различных народов и даже различных культурно-исторических типов, именно из того и выходит подтверждение мысли Данилевского, что для прогресса человечества необходимо это разнообразие и особое развитие больших человеческих групп. С необыкновенным остроумием Данилевский старался даже показать, какой народ представляет особенную способность к известным научным задачам, и какой другой к другим. Но и вообще, отвлеченно, мы имеем право утверждать, что без поляка, может быть, долго еще не была бы найдена истинная система мира, без немца – ее эмпирические законы, без англичанина – ее общий закон. По какой же логике можно вывести из этих фактов, что типы не имеют никакого значения для науки, потому-де, что одна и та же наука никак не развивается в одном лишь типе?
Для нас просто непостижима та развязность, с которой г. Соловьев навязывает Данилевскому мнение, что науки должны быть разделены по типам. Возьмем одно место:
«Наш автор, настаивающий на национальном характере науки и совершенно забывши при этом о своих культурно-исторических типах, не придает никакого ясного и определенного смысла своим надеждам на «самобытную славянскую науку».
Видите ли, какое прекрасное объяснение! У Данилевского совсем выскочили из головы его культурно-исторические типы – как это правдоподобно! Вот отчего и вышли у него «неясные и неопределенные» суждения о славянской науке, которые уяснить в его духе г. Соловьев считает теперь долгом. Он продолжает:
«Ожидать от славянства, т. е. прежде всего от России, деятельного и самостоятельного участия в развитии «романо-германской» науки было бы, конечно, несогласно с общим воззрением нашего автора, но не заключало бы в себе никакой внутренней невозможности».
Надеемся, нет нужды доказывать, как нелепы подобные соображения о взглядах Данилевского. Мы только заметим по случаю этих толков о науке, что вообще статья г. Соловьева должна, несомненно, послужить поддержкой того мнения о славянофилах, которое в большом ходу в публике и не раз излагалось на страницах «Вестника Европы», а именно, что славянофилы – самодовольные, хвастливые патриоты, что они противники прогресса, свободы и европейского просвещения, приверженцы «исключительного национализма», отвергают «лучшие заветы» современной науки, поклонники китайщины и застоя. Нельзя сказать, чтобы все это доказывалось в статье г. Соловьева, но именно в эту сторону клонятся его возражения против Данилевского, и он хорошо знал, что в таком смысле он будет понят многими усердными почитателями «Вестника Европы». Таким образом, при том положении дел, которое господствует в нашей литературе, мы думаем, что статья его уже не просто статья, а некоторый поступок. Чем бы он при этом ни руководствовался, мы можем разве только пожалеть его, но никак не одобрить.
Научная самобытностьДля чего г. Соловьев включил в свое рассуждение замечания на книги «Дарвинизм», «Борьба с Западом», «О вечных истинах»? Мы вовсе не думаем тут о каких-нибудь «высших нравственных требованиях», а просто хотим только спросить, какую тему он желал доказать своими замечаниями?
Он, видите ли, думает, что под «самобытною славянскою наукой» (согласно основному воззрению «России и Европы». – Н. С.) разумеется особый, небывалый доселе тип науки, существенно отличный от европейского», а потому и принялся искать этого «небывалого типа» в названных книгах, авторы которых будто бы заявляли стремление к такому «вполне самобытному научному творчеству».
Можно бы подумать, что г. Соловьев пишет все это на смех, что он только шутит над дикой претензией создать нечто совершенно невозможное, шутит, не замечая, что эту претензию он сам же и выдумал. Каким образом он мог бы отыскивать небывалый тип науки? Под такое понятие могут подойти разве только какие-нибудь нелепости, которые, как известно, до того разнообразны, что бывают свои собственные даже у отдельных людей.
Но наш критик не шутит или, лучше сказать, у него так сплетаются мысли, что он и сам не разберет, где он шутит и где говорит серьезно. Насмешка над «существенно новым типом науки» перешла вдруг в очень простое и всем известное требование – самостоятельности в научных исследованиях. Вот г. Соловьев излагает это требование относительно книги «Дарвинизм».
«Все это позволяло ожидать, что русский и притом славянофильский критик (значит искатель небывалого типа? – Н. С.) не ограничится одним отрицательным разбором, а противопоставит английской теории столь же глубокое (глубокое? – Н. С.), но более верное и многостороннее (по крайней мере, с его собственной точки зрения) решение этой мировой задачи, и притом решение, ярко запечатленное русскою духовною особенностью. Конечно, и такой труд не основал бы еще самобытной славянской науки (т. е. небывалого типа. – Н. С.), но все-таки нечто было бы сделано (для какого же типа? – Н. С.), и наша научная самобытность не представлялась бы уже такою пустою и смешною претензией».
Этот поток слов, вероятно оглушающий самого их автора, сводится, как видит читатель, к простой мысли, что «Дарвинизм» исполнил только отрицательную задачу, а потому не есть доказательство научной самобытности. Положим пока, что такое рассуждение верно; но разве у нас один Данилевский? Если требуются непременно положительные труды, не критика, а созидание, то разве у нас мало найдется этих доказательств научной самобытности? Наши математики, химики, зоологи, физиологи, ориенталисты, византисты, слависты – уже известны целому миру, уже внесли и вносят в общую сокровищницу вклады самого высокого достоинства. Как же после этого смеет г. Соловьев говорить, что наша научная самобытность представляется «такою пустою и смешною претензией»?
Но и возражение против «Дарвинизма», что это лишь критика и что тут нет новой теории, – конечно, неосновательно. Какой ученый может согласиться с тем, что отрицательная работа не имеет научной важности? Правильное отрицание должно ведь опираться на чем-нибудь положительном, и всякое определенное отрицание дает в выводе определенное положение. И разве «новая теория» была бы непременно чем-нибудь истинно новым? Ведь так могут судить только поверхностные люди, не отличающие названия от сущности. Скажем прямо, если бы Н.Я. Данилевский пустился создавать теорию происхождения видов, как создавали ее Демаллье, Ламарк, Дарвин, Спенсер, Негели и пр., то тут-то он и обнаружил бы истинное отсутствие самостоятельности. Мы видим, напротив, его великую оригинальность в той трезвости и вполне славянской ясности ума, по которой никакие соблазны не могли увлечь его на ложный путь. Ведь все эти теории суть плод того материалистического брожения умов, которое так сильно в Европе и составляет, конечно, некоторую болезнь европейской науки.

Титульный лист книги Н.Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе». Большой общественный резонанс получило сочинение Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», в котором автор стремился показать творчество русских писателей в славянофильском духе. «Разоблачая» Запад как царство «рационализма», Страхов подчеркивал самобытность русской культуры и пропагандировал идеи H. Я. Данилевского о различных культурно-исторических типах.
Г. Соловьев сам почувствовал, что указать на отрицательный характер «Дарвинизма» еще недостаточно для осуждения этой книги, а потому постарался и еще подбавить доказательств для своей цели. Признавая полную компетентность автора в деле и находя, что он «превосходно разбирает чужие научные идеи», г. Соловьев, однако, так определяет сущность этой книги:
«Это есть, вообще говоря, самый полный, самый обстоятельный и прекрасно изложенный свод всех существенных возражений, сделанных против теории Дарвина в европейской науке (подчеркнул. – Н. С.)».
Ну так бы вы и говорили! Тогда не нужно было бы и никаких ваших разводов. Если Данилевский есть просто компилятор чужих возражений, то нечего тут и рассуждать о нем.
Г. Соловьев, хорошо зная свою некомпетентность в этом деле, решился однако произнести свое суждение о компилятивном свойстве этого труда не ради истины, а только чтобы набросить тень на заслуги автора и в том расчете, что подобные чисто отрицательные суждения трудно опровергаются.
Мы и не станем опровергать. Положение дела теперь такое: в европейской науке сделаны будто бы все возражения, какие есть у Данилевского; между тем Дарвинова теория господствует в Европе. В России же эта теория уже потеряла право на существование, ибо русский ученый может только по упорству или несообразительности обойти или не понять книгу Н.Я. Данилевского, а эта книга вполне опровергает теорию Дарвина.
Понадобилась г. Соловьеву и моя книга «О вечных истинах»; он в ней увидел самое легкое средство доказать, что у меня нет никакой «самобытности». Именно, он утверждает, что я тут держусь «механического мировоззрения», то есть просто материализма, и значит, «являюсь не только западником, но еще западником крайним и односторонним».
Откуда же это? А из того, что я опровергал спиритизм и настаивал на непреложности физических истин. Опять скажу, только на смех можно говорить подобные вещи; но г. Соловьев говорит совершенно серьезно. Рассуждение его чрезвычайно просто:
«Маятник качается по строго определенным законам механики, но признавать далее, что и остановлен, и приведен в движение маятник может быть исключительно только механическою причиною, – значит из области научной механики переступать на почву той умозрительной системы, для которой…» и пр. – словом – материализма.
Боже мой! Какое убожество диалектики! Какое неуменье установить ясно хоть единое понятие! Мне так и хочется те слова Rabanus Maurus’a, которые г. Соловьев язвительно применяет вообще к русской философии, применить в его собственному рассуждению; оно «есть нечто столь скудное, пустое и безобразное, что нельзя достаточно пролить слез над таким прискорбным состоянием».
В самом деле, «маятник качается по строго определенным законам механики» – вот где эти законы непреложны; пока он качается, он им подчинен «исключительно». Между тем, остановить его или привести в движение можно, будто бы и вопреки этим законам, какою-нибудь «немеханическою» причиной. Но какая же разница? Ведь качание, и остановка, и приведение в движение – ведь все эти три случая суть равно механические явления, явления движения; научная механика и не делает между ними никакого различия. Если спиритические духи, по г. Соловьеву, могут остановить маятник или привести его в движение, то они могут изменять по-своему и его качание; если же они над качанием бессильны, и тут действует непреложный закон, то они не в силах и начать, и остановить это движение. Вот почему физики с таким непоколебимым упорством утверждают, что на спиритических сеансах всякие вещи приводятся в движение и останавливаются не духами, а руками и ногами живых людей, т. е. телом, материею.
С необычайной наивностью г. Соловьев повторил самое ходячее заблуждение, которому поддаются спириты и вообще все, незнакомые с началами механики; он не уяснил себе первого ее закона, закона инерции, по которому движение и покой суть нечто равно сохраняющееся, и изменения того и другого происходит от одинаковых причин и имеют одинаковую сущность.
С полным правом мне можно бы здесь уличать г. Соловьева не только в незнании самых оснований физики, но также в непонимании великих философских учений Декарта и Лейбница, учений, положивших навсегда правильную границу между духом и веществом. Но перейду лучше прямо к заключению и скажу вообще, что истинно печально видеть такое состояние понятий, как у г. Соловьева, состояние совершенно однородное с тем, какое господствует у спиритов и которым порожден самый спиритизм. Очевидно, дух представляется просто в виде тонко материального, но одушевленного существа, которое сидит в нашем теле, как в мешке, или гуляет на свободе без этого мешка. Печально здесь то, что таким образом искажается и теряется истинное понятие о духе, то понятие, которое одно способно нас руководить, спасать и животворить в наших мыслях и действиях. Г. Соловьев называет меня материалистом; между тем все, что я писал по этому предмету, было направлено именно к выяснению истинного понятия о духе. Три моих книги – «Мир как целое», «Об основных понятиях психологии и физиологии» и «О вечных истинах», можно сказать, все написаны на эту тему; в них я старался о том, чтобы, установивши точнее понятия о веществе, о вещественном мире, показать полнейшую противоположность вещества духу и очистить самое понятие духа от малейшей примеси материалистических представлений. Вот почему я и воевал со спиритизмом, который есть не что иное, как грубейшее овеществление духовных явлений, почему он и нашел себе поддержку у натуралистов, давно чуждающихся всякого философского образования.
Г. Соловьеву известны мои три книги; но теперь мне ясно, что он главного в них и не мог понять, несмотря на свои занятия философией. Он заявляет, что не нашел у меня ни малой научной самобытности. Ну что ж делать? Если кто говорит: «не вижу», «не понимаю», «не нахожу», то он, значит, признает себя за судью, на которого уже нет апелляции.
Книга «Борьба с Западом», если судить по отзыву г. Соловьева, не представляет каких-нибудь недостатков, но зато и не имеет никаких достоинств. Удивительная книга! Мне вовсе не приходит и в мысли защищать свою книгу от такого суждения; оно для того и сказано голословно и бессодержательно, чтобы от него нельзя было защищаться. Но при этом г. Соловьев делает мне упрек, о котором скажу несколько слов. Он насмешливо предполагает, что у меня есть особое знамя, «восточное», на котором что-то написано, и упрекает меня, зачем я не развернул этого знамени в своей «Борьбе с Западом». Такие и подобные упреки мне приходится уже давно и часто слышать. В этом отношении я даже совершенно несчастный человек. О чем бы я ни заговорил и как бы ни старался быть ясным и занимательным, есть множество читателей, которые не хотят ничего слушать, нимало не заинтересовываются моими рассуждениями, а сейчас же пристают ко мне: «Да вы кто такой? Выкиньте ваше знамя!»
Это приводит меня в отчаяние. Ну какое им дело до меня, и почему они не занимаются предметом, о котором я говорю? Вот и теперь г. Соловьев, который сам так часто и с таким успехом развертывал разные знамена, требует от меня тоже знамени, если я желаю, чтобы он удостоил вниманием мои мысли. Нужно мне, наконец, объясниться.
Скажу откровенно: я вовсе не умею выкидывать знамена, вовсе не способен к этому. Да кроме того я считаю это выкидывание часто бесполезным, а большей частью превредным делом. Говорят: толчок, даваемый умам, возбуждение сознания. Согласен, что это может быть полезно; но каковы обыкновенные результаты? Обыкновенно и тот, кто поднял знамя, и те, кто обратил взор на это знамя, пускаются в неистовое словоизлияние. Обыкновенно прекращается всякая работа мысли, всякий труд доказательства и уяснения предмета, а наступает лишь бесконечное повторение одного и того же и верченье на одном и том же месте. Люди, которым понравилось знамя, чаще всего думают, что кроме этого сочувствия от них ничего больше не требуется, и поднимают крик и гам, как будто в крике все дело. И таким образом, мысль, которая могла бы созреть и развиться, остается у самого автора на степени одной красноречивой выходки, а у последователей искажается, истрепливается, опошляется на тысячу ладов и наконец всем надоедает. Тогда публика начинает с тоской посматривать, не выкинул ли кто нового знамени, и снова начинается шум, и снова та же история бесплодного брожения мыслей и непомерного словоизвержения. Так идет почти все наше литературное и умственное движение – порядок печальный и жалкий, которому следует противодействовать всеми силами.
Вот почему я не очень огорчаюсь своим неуменьем выкидывать и развертывать знамена.
Впрочем, что ж я? Ведь и я какими-то судьбами выкинул знамя, именно то, на котором написан девиз: борьба с Западом. Но с моим знаменем случилась престранная история. Сколько могу судить, множество читателей поняли, что я хочу сказать, вероятно, потому, что под знаменем находились два томика опытов, стремившихся показать приложение девиза к делу. Но зато писатели, как оказалось, никак не могут уразуметь моей мысли и моего желания и так упорны в своем непонимании, как бывают только люди, твердо решившиеся не понимать. Г. Модестов пишет, что не может себе и представить такого происшествия, как борьба с Западом.
И г. Соловьев говорит: «все-таки борьбы с Западом мы не видим». А доказательство следующее: «Автор «Борьбы с Западом», в сущности, не говорит ничего такого, чего бы не мог сказать любой толковый европеец».
Ну что же? Покорно благодарю и за это. Мне и это годится. Мне именно хотелось, чтобы русские люди были хоть столько же самостоятельны в своих суждениях, как «любые толковые европейцы», а еще лучше, если бы они поравнялись даже с самыми толковыми европейцами, если бы они судили о разных явлениях Запада полной свободой ума, без того постыдного подобострастия и преклонения перед Европой, которое вызвало у поэта выражение:









































