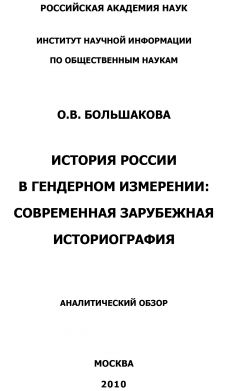Дальнейшие шаги по обоснованию того факта, что иностранка незнатного происхождения правит Россией как «помазанница Божья», предприняло духовенство, которое в проповедях активно подчеркивало связь между святой Екатериной и императрицей, воплотившей на земле Божественный промысел и волю ее супруга. Эти моменты были закреплены затем и в светских публичных празднествах, неизменно включавших в себя церковные службы. Императрица играла в них центральную роль в качестве соратницы и преемницы Петра Великого. День ее ангела стал одним из важнейших государственных праздников. Таким образом была создана символическая модель, которая использовалась при обосновании права на трон последующих российских императриц – Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Елизавета, кроме того, возродила день св. Екатерины, отмененный ее предшественницей, и всячески возвышала память матери, подчеркивая свое наследование «по крови» не только по мужской линии – от Петра, но и по женской (97, с. 185).
Как заключает автор, исследованный им сюжет выдвигает на передний план иную составляющую политической культуры и стратегий петровского времени, которой обычно пренебрегали историки. Наряду с дискурсом обновления, разрыва с традициями и воинствующей секулярностью в риторике эпохи присутствовали идеи глубокой преемственности и сильный религиозный компонент, что ярко проявилось в процессе легитимации первой русской императрицы и ее преемниц (97, с. 227).
Следует заметить, что русским монархиням XVIII в. посвящено немало работ. С точки зрения гендерного анализа представляет интерес статья Джона Александера об образах императриц-амазонок в русской культуре (16). Наиболее подробно освещена в западной историографии жизнь и деятельность Екатерины Великой, в особенности ее писательские труды и покровительство, которое она оказывала женщинам (40; 104). А самой популярной фигурой женской истории XVIII в. является Е.Р. Дашкова, что обусловлено не только ее исторической ролью и количеством имеющихся источников, но и той активной работой, которую ведет А. Воронцов-Дашков, недавно выпустивший ее биографию на английском языке (143).
В целом современная западная историография дает весьма откорректированную картину придворной жизни XVIII в., которая раньше часто изображалась в карикатурном виде, в атмосфере фривольности и скандала. Не отрицая присущего «галантному веку» фаворитизма, гендерные историки стараются показать «механизмы персонифицированной политики», в которой личное, частное поднято на уровень государственного. И здесь просматриваются аналогии с московским периодом, когда между публичной и частной сферами не было китайской стены, когда политика в буквальном смысле являлась продолжением семейных обязанностей и фигура царицы представляла собой органическую часть политической системы.
Женщины и экономика дореформенной России
Западные исследователи, занимавшиеся в 1970-1980-е годы изучением социальной истории российских женщин, убедительно показали важнейшую роль крестьянок и работниц в развитии экономики страны. В 90-е годы, когда эгалитарные установки социальной истории, писавшейся «снизу», перестали занимать господствующее положение в науке, русисты обратили внимание и на представительниц привилегированных слоев. Глубокое изучение истории имущественных отношений в России показало, что экономическая роль женщины, которая ранее считалась важной только для крестьянок (их изначально рассматривали в качестве трудовой единицы семьи), была существенна и для благородного сословия, сохраняя свое значение на протяжении всего императорского периода.
Наиболее полное исследование имущественного статуса русских дворянок в 1700–1860 гг. было проведено Мишель Маррезе (3; 98). Вслед за другими авторами она указала на парадоксальную ситуацию, сложившуюся в русском гражданском праве: социальный статус замужней женщины, во всем подчиненной мужу, не совпадал с ее имущественным статусом, поскольку в 1753 г. в соответствии с указом Сената дворянки в России получили право свободно распоряжаться своим недвижимым имуществом. Самое удивительное, пишет М. Маррезе, что кроме князя М.М. Щербатова, который в своем сочинении «О повреждении нравов в России» заклеймил этот сенатский указ как потворствующий женскому непокорству, никто из современников не откликнулся на столь эпохальное событие. А между тем контраст с Западной Европой, особенно после принятия Кодекса Наполеона, был разительным – ведь там замужние женщины вплоть до второй половины XIX в. не могли распоряжаться своей собственностью. Под влиянием дискуссий 1860-х годов о женском вопросе эту проблему глубоко исследовали русские историки и правоведы, которые высоко оценивали правовое положение женщины в России, отмечая странное противоречие между архаичными политическими и экономическими институтами и сравнительной эмансипированностью русских дворянок (3, с. 68–69). При этом консерваторы видели в имущественных правах женщин свидетельство исконного превосходства России над Западом, а западники – символ имеющегося в стране потенциала для прогрессивных изменений (3, с. 318).
М. Маррезе, отметив давнюю традицию обособления собственности мужа и жены, показала, что на протяжении всего XVIII в. происходило постепенное вызревание индивидуализации имущественных прав, начатое петровским указом 1714 г., который наряду с отменой раздельного наследования устранил различие между родовым и приобретенным имуществом (3, с. 18). В 1715 г. Петр I закрепил за дворянками право составлять купчие и закладные от своего собственного имени, а в 1731 г. дворянские дочери и вдовы получили полное право собственности на свою, хоть и небольшую, долю наследства. Все это проложило дорогу сенатскому указу 1753 г., который дал право женщинам отчуждать свои земли без согласия мужей. Указ этот, пишет автор, возник не по прихоти государыни Елизаветы Петровны, а был порожден новыми взглядами на отношение женщин к собственности, которые постепенно складывались в дворянстве в первой половине XVIII в. и закреплялись судебной практикой. Так началось расхождение между путями развития женских имущественных прав в России и на Западе (3, с. 75, 82–83).
Эти выводы были сделаны на основе анализа большого массива судебных и нотариальных документов (записей «крепостных книг», росписей приданого, завещаний, соглашений о раздельном проживании и др.). Другим важнейшим результатом проведенного исследования стало выявление данных о доле женской земельной собственности в экономике России и о деловой активности женщин. Выяснилось, что уровень женского землевладения неуклонно повышался, составив к концу XVIII в. примерно треть всех имений. К середине XIX в. женщины составляли настолько заметную часть собственников поместий и городской недвижимости, что это бросилось в глаза барону Гакстгаузену. По подсчетам М. Маррезе, в разных губерниях их было от 33 до 40%. Высока была и активность женщин на рынке недвижимости. Все это демонстрирует важную роль женщины в семейной экономике и хозяйственной жизни страны в целом. А если учесть, что жена часто управляла имением мужа (традиция эта сложилась еще во времена обязательной дворянской службы, когда мужья годами находились в отъезде), то картина получается соответствующая. Даже после Манифеста о вольности дворянства 1762 г. далеко не все мужчины вернулись в свои поместья, предпочитая оставить управление имениями в руках своих жен.
В книге представлен живой материал переписки и мемуаров, рисующий яркую картину участия дворянок в ведении хозяйства. Образы юных жен, приводящих в порядок дела мужа и тем спасающих семью от разорения, появляются во многих семейных хрониках (3, с. 248). Русская классическая литература также дала много образов помещиц, начиная со знаменитой госпожи Головлевой. В романе «Отцы и дети» мать Базарова Арина Власьевна, «настоящая русская дворяночка», неутомимо хлопотавшая по хозяйству, заботу о своем имении переложила на мужа, у которого не было никакой собственности. Управляют своим имением эмансипе Кукшина и богатая молодая вдова Одинцова, что, как отмечает автор, не вызывает осуждения (3, с. 233–234). Дело в том, что в дореформенной России, и материал книги это подтверждает, фактически отсутствовали гендерные различия в отношениях собственности. Конечно, имущественные права женщин были несколько более ограничены, но ни в судебных тяжбах, ни в сфере приобретения собственности, ни в хозяйственных вопросах автор не сумела обнаружить какой-либо сегрегации по гендерному признаку.
На Западе, пишет М. Маррезе, правовая культура создала систему имущественных отношений с ярко выраженными гендерными различиями, поскольку мужчины были связаны с недвижимой собственностью, а женщины – с движимым имуществом. Завещания западноевропейских женщин демонстрируют формирование особой «женской» системы ценностей. Но в завещаниях русских дворянок мы не найдем с любовью составленных описаний домашней утвари, передаваемой от матери к дочери. Главное содержание женских завещаний в России – раздел земли и крестьян, чтобы обеспечить детей и близких родственников. Таким образом, в материальной сфере интересы мужчин и женщин были едины, чего нельзя сказать о Западной Европе и США (3, с. 225).
М. Маррезе отмечает, что, несмотря на наличие в семейной жизни русского дворянства отдельных мужской и женской сфер, управление поместьем являлось общим делом, требовавшим участия и мужа и жены. Женщина, как правило, заведовала домашним хозяйством, прислугой, скотным двором, а мужчина распоряжался крепостными крестьянами и полевыми работами. Однако часто женские обязанности оказывались гораздо шире.
Владение земельной собственностью давало женщине серьезные властные полномочия у себя в поместье, и, кроме того, в роли помещицы дворянки оказывались в центре социальной системы, которая включала в себя местные власти, соседних помещиков, крестьян, уездное и губернское общество (3, с. 256). Влияние их было, как правило, неформальным, основанным на личных связях и покровительстве, но не на много меньшим, чем авторитет мужчин, поскольку в России, в отличие от Западной Европы, владение землей не являлось источником политических прав (3, с. 259). На основании проведенного исследования автор делает вывод, что право и собственность играют центральную роль в формировании гендерной идентичности (3, с. 226).
Под иным углом зрения роль женщин в экономике рассматривается в новаторском исследовании Кристин Руэн, посвященном истории модной индустрии в России в 1700–1917 гг. (117). Автор пишет культурную историю российского капитализма, в которой центральное место занимает история потребления (консюмеризма). Перестав рассматривать женщин в качестве пассивных потребителей товаров, отмечает К. Руэн, культурная история пришла к новому пониманию их роли в формировании капиталистического рынка (117, c. VIII).
Культурологический подход позволяет автору пересмотреть традиционные представления о доминировании государства в российской экономике. Этот тезис обычно основывался на изучении сферы производства и тяжелой промышленности. Перенося акцент на легкую промышленность, где преобладало частное предпринимательство, и выдвигая на передний план сферу потребления, которая имела важнейшее значение для складывания капиталистического рынка, К. Руэн получает совершенно иную картину.
Государство действительно дало первоначальный импульс развитию модной индустрии, пишет К. Руан. Указы Петра I о ношении «немецкого платья», о поддержке отечественного производства тканей и о привлечении в Россию мастеров из-за границы способствовали усвоению западных технологий пошива одежды, однако далее в игру вступил рынок со своими законами. Начала расширяться торговля с Европой, причем ввозились не только модная одежда, но и материалы для ее изготовления, чтобы русские мастера могли копировать последние новинки. А во второй половине XVIII в. в столицах появляются первые магазины и модные лавки, организованные иностранцами по западному образцу. Потребность в информации приводит сначала к импорту модных журналов, а в 1830-е годы возникает и своя модная пресса, развивается рекламное дело. Прослеживая историю модной индустрии в России, автор приходит к выводу о том, что в империи копировалась западноевропейская модель. Точно так же, как и в Западной Европе, государство, дав первый толчок, затем поддерживало эту отрасль в основном посредством повышения и снижения пошлин, а ведущую роль в ее развитии играли рыночные отношения.
В исследовании К. Руэн показана неизбежная «феминизация» модной индустрии, выражавшаяся не только в том, что женщины составляли немалую часть владельцев швейных мастерских и рабочей силы, занятой в производстве одежды и тканей. Они принимали активное участие и в издании модных журналов в качестве редакторов, авторов, переводчиц. Характерной особенностью женского предпринимательства в мире моды была тенденция к индивидуализации. Женщины владели небольшими мастерскими и ателье, затем – модельными домами, но почти не занимались производством готовой одежды, которое начало быстро развиваться в середине XIX в. после изобретения швейных машин. В массовом производстве женщины отошли на задний план, они оказались заняты в основном на низкоквалифицированных работах. Сходный феномен наблюдался в пореформенное время и в издательском деле, где технические новинки позволили значительно увеличить тиражи и перейти к коммерциализации прессы. Владелицы русских модных журналов явно не выдерживали конкуренции в новых условиях, уступая поле деятельности мужчинам, обладавшим необходимыми техническими знаниями в области управления и производства.
Кристина Руэн пишет о том, что причины «отступления» женщин на низшие позиции в модной индустрии требуют специального исследования (117, c. 257). Действительно, женское предпринимательство дореволюционной России пока изучено в западной историографии довольно слабо, пальму первенства в этой области явно держат отечественные историки.
Частная жизнь женщины: семья и брак в России XVIII – первой половины XIX в
При изучении частной жизни женщины в императорской России западные историки исходят из тезиса о том, что семья являлась тогда основой идентичности. Социальные роли определялись главным образом статусом и положением семьи, к которой принадлежал индивид, а семейные связи оказывали сильное влияние на его социальное, политическое и экономическое поведение. Поскольку семья вплоть до конца старого режима оставалась по своему характеру институтом патриархальным, власть в ней распределялась в соответствии с полом и возрастом. Главенствующее положение в семье занимал, конечно, отец, что было закреплено юридически, в том числе в фамилиях и отчествах, а женщины выступали в роли дочери, жены и матери. Таков был их социальный статус, и вплоть до конца XIX в. их деятельность ограничивалась семейным кругом (119, с. 58). Однако насколько узок был этот мир домашней жизни? И действительно ли женщина, формально ограниченная в своих правах, юридически и практически подчиненная мужу, была исключительно объектом властных притязаний мужчин? Исследования западных гендерных историков внесли значительные коррективы в представления, господствовавшие в феминизме 1960–1970-х годов.
Довольно большой массив литературы посвящен любви и браку, в особенности интересен анализ свидетельств иностранцев1818
Vowels J. Marriage а la russe // Sexuality and the body in Russian culture. – Stanford, 1993. – P. 53–72.
[Закрыть]. Западные историки с большой осторожностью относятся к этим свидетельствам, считая, что они отличаются крайней предвзятостью и требуют особого аналитического подхода с точки зрения образа Другого. Характерно, что отзывы мужчин и женщин – притом что и те и другие сходились во мнении относительно свободы и даже «распущенности» русских в супружеской жизни – различались между собой радикально. Иностранцы были склонны считать русских дворянок «мужеподобными», грубыми в своем противоестественном стремлении попирать исконные права мужчин. А иностранки полагали, что независимый характер русских женщин проистекает из их имущественных прав и связанной с ними ответственности (3, с. 236; 137, с. 10).
Как уже говорилось, в работах по социальной истории крестьянства, опубликованных в 1980–1990-е годы, продемонстрировано, что положение женщины в семье было не столь удручающим, как считалось ранее. Суть женской власти емко выражает русская пословица «Муж в семье голова, а жена – шея». Тем не менее слишком многое в патриархальной семье зависело от конкретных обстоятельств и характеров ее членов. Далеко не все женщины могли использовать существующие возможности для повышения своего статуса в семье. И чем выше было социальное положение женщины, тем у́же был спектр ее возможностей в этом отношении. На материалах, отложившихся в архиве Духовной консистории за 1721–1840 гг., Р. Биша реконструировала картину семейных конфликтов и попыток их разрешения, характерных для данного периода. По сравнению с изобретательными и решительными крестьянками, которые (несмотря на неграмотность) достигали успеха благодаря смекалке и трудолюбию, дворянки выглядят запуганными и неспособными действовать в своих интересах, отмечает автор (23, с. 228).
Социальные историки провели большую работу по выявлению моделей семьи, бытовавших в России раннего Нового времени. На протяжении всего XVIII в. браки были ранними (брачный возраст наступал для девочек в 12 лет, а для юношей – в 14–15), причем для всех слоев общества, что соответствует восточноевропейской модели. Однако, пишет Н. Коллманн, надежные данные свидетельствуют в пользу широкого распространения нуклеарной, малой семьи, которая к концу XVII в. преобладала в городах среди всех классов и в деревне у бедноты (для крестьянства в целом была характерна большая семья, состоявшая из нескольких поколений). А это уже – западноевропейская модель (90, с. 365–366).
Исследователи отмечают негативное влияние «петровской революции», которая из-за введения обязательной государственной службы для дворянства переложила все бремя ответственности за семью на женщин, разлучая их на годы с мужьями и сыновьями (42, с. 27–28). Долгие отлучки мужа из дома являлись, по мнению ряда авторов, главным фактором нестабильности семьи (23, с. 233), и только после издания Петром III в 1762 г. Манифеста о вольности дворянской положение дел стало меняться в лучшую сторону.
Следует отметить, что церковные установления в отношении супружества, сложившиеся в России к началу XVIII в., казалось бы, должны были обеспечивать устойчивость семьи. Существовали разветвленная система понятий о допустимых и недопустимых браках, сложные процедуры согласования (в случаях, когда в брак вступали представители разных сословий и конфессий), документальная регистрация браков. Существовал и перечень признаваемых церковью причин для развода. Тем не менее двоеженство и двоемужество в этот период процветали, жены убегали от своих мужей, те, в свою очередь, заводили вторые семьи, особенно когда годами отсутствовали «по службе» или были на войне. Причем отсутствовали представители всех сословий – дворяне (особенно до 1762 г.), горожане, крепостные и не крепостные крестьяне. В начале XVIII в. проблема двоебрачия находилась в центре внимания церковных иерархов, которые стремились превратить церковь в могущественный институт и винили во всех нарушениях священников, идущих якобы на поводу у своей паствы (23, c. 227–228).
В западной историографии традиционно считалось, что православная церковь вплоть до XIX в. была неспособна контролировать и регулировать институт брака, поскольку ей не хватало для этого соответствующих инструментов – кодифицированных законов и бюрократических процедур (44, с. 147). В последние годы появились и иные интерпретации этого явления, которые, однако же, по-прежнему ставят во главу угла социальные факторы. Одни авторы, как, например, Д. Кайзер, на архивных материалах доказывают, что церковный контроль над заключением браков был достаточно серьезным уже в раннее Новое время. А Робин Биша в своей статье «Брак, церковь и община в Санкт-Петербурге в XVIII в.» (23) предлагает новую трактовку того, что можно было бы назвать «отсутствием церковного контроля» в брачной сфере. По ее мнению, священники пытались как-то согласовать существовавшее в народе представление о супружестве с церковным определением брака и буквой закона (23, с. 227). Она отмечает, насколько приемлемым для окружающих был факт создания другой семьи при живой жене, и не только среди военных, но среди обычных горожан Санкт-Петербурга. Да и представители церковных и светских властей предпочитали подделать документы, чтобы создать видимость законного брака, а не преследовать супружескую пару по всей строгости, которая явно считалась излишней. И хотя никто не отрицал святость церковных уз, однако требования жизни и стремление к сохранению стабильности оказывались зачастую сильнее (23, с. 239).
Только к 1840-м годам, считает Г. Фриз, было завершено оформление административного механизма и соответствующего делопроизводства, которое позволило церкви во всей полноте регулировать заключение и расторжение браков (44, с. 147). Однако институциональный подход упускает из виду многие аспекты истории семьи, которые можно обнаружить, используя микроисторический и биографический методы.
В своем исследовании, посвященном «провинциальным барышням», Ольга Глаголева на примере истории четырех поколений семейства Буниных фиксирует эволюцию семейной модели на протяжении XVIII – первой половины XIX в. (53). Для первой половины XVIII в., пишет она, характерно отсутствие у представителей провинциального дворянства твердых представлений о семейной верности и «нравственности», как ее стали понимать в 1820-е годы. Мужчины были вольны заводить другие семьи, да и в отношении женщин нравы были не так строги. Считалось почетным, если жена или дочь становилась любовницей высокопоставленных особ. Вполне допустимым было и проживание в одном доме официальной семьи и любовницы мужа с его побочными детьми. Глаголева описывает известную историю В.А. Жуковского, влюбившегося в свою племянницу М.А. Протасову, внучку М.Г. Буниной (которая терпела у себя в доме турчанку Сальху, мать Жуковского). Все четыре ее дочери также либо растили не только своих законных детей, но и внебрачных потомков мужа, либо сами имели внебрачных детей (53, c. 36–37). Причем следует заметить, что Бунины были одним из самых просвещенных семейств в провинциальной России 1760–1790-х годов. В начале XIX в., отмечается в исследовании, такая практика исчезает.
Повышается и возраст дворян, вступающих в первый брак. Сначала это коснулось мужчин, которые все чаще женятся в 25–27, а не в 17–18 лет, и только к концу XVIII в. дворяне перестают выдавать замуж 13-летних девочек. Глаголева приводит примеры получившей широкое распространение после 1762 г. модели брака, когда мужчина 25–30 лет выходил в отставку и женился на 12–13-летней девочке, которая исправно рожала ему детей, а он, в свою очередь, занимался ее воспитанием и образованием. Часто это были несчастные браки, о чем свидетельствуют записки Андрея Болотова и мемуары Анны Лабзиной, которые широко используются в западной историографии (39). Эта модель, однако, сохранилась и в XIX в., хотя и в несколько смягченном варианте. Наиболее известный случай – женитьба Пушкина на 18-летней Натали Гончаровой, вполне соответствовавшая патриархальным нормам, характерным для века Просвещения (1, c. 89).
Изменения в модели брака и семейных отношений, наметившиеся к началу XIX в., фиксируют многие исследователи. Возникают новые ожидания в отношении будущего партнера: помимо требований экономического и личного характера (хозяйственность, доброта) появляется такой критерий, как образованность. Более того, жена теперь в ряде случаев должна не только разделять интеллектуальные интересы мужа, но и быть физически привлекательной. Романтическая любовь и страсть в браке приобретают новое значение сначала для мужчин, а затем и для женщин, пишет Б. Энгель (42, с. 31–32). Считается, что эти изменения происходили благодаря распространению образования и чтения и затронули сначала высшие слои общества, а в 1780-е годы проникли и в среду провинциального дворянства (42, с. 32).
О глубинном характере этих трансформаций свидетельствует исследование И. Паэрт, посвященное так называемой «брачной полемике», развернувшейся в 1760-е годы между старообрядцами-беспоповцами федосеевского и поморского согласий (105).
Изначально и поморцы и федосеевцы придерживались безбрачия, поскольку формально мирянин мог только крестить и исповедовать, но не венчать. Кроме того, считалось, что с наступлением «Царства Антихриста» продолжение рода человеческого преступно. Однако семью как таковую беспоповцы не отрицали, их идеалом был целомудренный брак – отношения, которые существовали между Адамом и Евой до грехопадения, любовь духовная, а не сексуальная, и взаимная поддержка.
Догма безбрачия была оспорена Иваном Алексеевым и его последователями, которые начали утверждать, что сущность таинства брака – не церковный ритуал, а дарование согласия. Московские поморцы развили идеи Алексеева и построили Покровскую часовню, в которой стали проводить венчания. На эту практику ополчились сторонники традиционного безбрачия. Идеологи московской общины федосеевцев, центром которой стало в 1771 г. Преображенское кладбище, выступали за традиционный аскетический идеал безбрачия, основанный на средневековых представлениях о человеческой природе. Теологи этого согласия считали, что грехопадение Адама нарушило план Творца и привело к нескончаемой череде рождений и смертей. Женщина, как подстрекательница грехопадения, становится «средоточием рождения и смерти», с ней ассоциируются такие плотские черты, как похоть и слабость.
Новая концепция брака предлагала более человечный подход к отношениям между мужчинами и женщинами, по-новому определяла категории мужского и женского. Для поморцев создание двух полов – благой замысел Творца, что предполагает последующее соединение их в одно целое через брак – мистический союз, ведущий к рождению детей. Поморские тексты конца XVIII – первой половины XIX в. конструируют тип маскулинности, который соединяет в себе традиционные христианские ценности с культурными образцами эпохи, навеянными героическими идеалами классицизма и восходящими к античности. Учение поморцев, отсылающее к науке и философии, а также к художественным идеалам конца XVIII – начала XIX в., было во многом ответом на вкусы возникающего в России среднего класса, отмечает И. Паэрт (105, c. 14). Оно создало образы добродетельного мужа и благочестивой жены, трудовая этика в нем связывалась с моралью, и под этим углом читались тексты Священного Писания.
Таким образом, культурные ориентиры двух согласий выглядят противоположными: в учении поморцев важную роль играли идеи светской культуры, а федосеевцы обращались к «аутентичной» православной традиции, опираясь на житийную литературу. Они утверждали, что греховный женский пол можно спасти через девственность. Материнство не являлось для них особой добродетелью: они делали акцент на духовном материнстве церкви и отрицали физическое, испорченное грехом. Это вело к новому определению женственности у федосеевцев и к изменению социального статуса женщины. Поскольку безбрачие ценилось высоко, одинокие женщины обладали большой свободой. Поморцы же считали целибат сверхъестественным качеством, «ангельским состоянием», недостижимым для обычного человека.
Практические последствия этих все дальше расходившихся идеологий были, однако же, парадоксальными. Теоретическое неприятие брака у федосеевцев в реальности оборачивалось большей терпимостью к внебрачным отношениям, свободой молодых людей в выборе партнеров. В поморских общинах родители, напротив, жестко контролировали выбор супруга, и браки, несмотря на «просвещенный» характер дискурса, носили характер коммерческого контракта. Женщины в общинах федосеевцев были более самостоятельны в вопросах деторождения и имели больше властных полномочий в общине, в то время как в поморских семьях место женщины было жестко определено: помощница, во всем подчиненная мужу (105, c. 157).
Изучение повседневной жизни приводит историков к выводу, что ни церковные установления, ни нормы права не играли существенной роли в изменениях модели семьи, имевших место во второй половине XVIII в. Они скорее носили характер инструментов сдерживания, но не влияли на суть совершавшихся глубинных трансформаций, которые во многом были связаны с социальными и культурными процессами, происходившими в этот период в Западной Европе. Считается, что там, в частности в Англии, в это время «имел место переход от старой патриархальной семьи к новому “товарищескому браку”, с его более крепкими узами чувства и большей степенью интимности между мужем и женой, родителями и детьми» (1, с. 95). Он был связан с возвышением среднего класса и утверждением идеологии так называемых «разделенных сфер», предполагавшей, что участие женщины в жизни общества должно ограничиваться домом и семьей, а мужчине предоставлялось широкое поле деятельности в публичной сфере. В соответствии с этой логикой, в отношении России такой переход относили ко второй половине XIX в., когда там начал возникать свой средний класс. Однако современные гендерные исследования, использующие культурологический подход, предложили иной угол зрения на эту проблему. Отправной точкой в их обобщениях являются нормы поведения, принятые в обществе, и их эволюция в период 1760–1830-х годов.