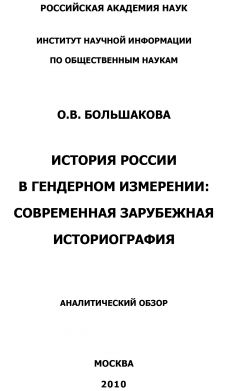Гендер в традиционном обществе
Первый период гендерной истории России, характеризующийся безраздельным господством традиционного общества, по своей протяженности намного превосходит период «трансформации». Более того, для низших слоев он продолжался гораздо дольше, чем для элиты, а патриархальные структуры семьи, как принято считать, оставались фактически незыблемыми вплоть до падения империи.
Изучение гендерной истории допетровской Руси представлено в западной русистике крайне небольшим количеством работ, в основном посвященных женщинам XVI–XVII вв. Среди ведущих исследователей следует назвать Ив Левин, Нэнси Шилдс Коллманн, Валери Кивелсон, Изольду Тире. Главную трудность здесь составляет скудость источниковой базы. Наряду с традиционными для социальной истории источниками – судебными и дворцовыми документами, частноправовыми актами, летописями, новгородскими берестяными грамотами – привлекаются произведения духовной и светской литературы, фольклор, изобразительные материалы, данные этнографов. Все это позволило реконструировать патриархальную систему ценностей допетровской Руси, которая, как считают историки, мало отличалась от западноевропейской. В ее основе лежало понятие о неукоснительном подчинении женщины мужчине, поскольку по самой своей природе она является существом слабым физически и морально. Мужчины должны управлять женщинами для их же блага и для блага общества, а женщины – подчиняться мужчинам, следовать их советам и служить своей семье. Однако, как и в большинстве патриархальных обществ, власть мужчин не была абсолютной. Женщины высокого социального положения могли командовать мужчинами нижестоящими, старые женщины – младшими по возрасту мужчинами, власть свекровей над невестками была поистине безграничной, а вдовы часто были по-настоящему независимыми (42, с. 3).
Характеризуя патриархальную структуру допетровской Руси, западные историки пришли к выводу о том, что она давала женщине и определенные преимущества, в частности хорошо обеспечивала ее защиту и, кроме того, предоставляла ей возможность, пусть ограниченную, принимать достаточно активное участие в жизни общества. В современной историографии явно заметен отход от прежних критических интерпретаций, подчеркивавших угнетенное положение женщины. Еще одной важной чертой сегодняшней ситуации в изучении гендерной истории России следует назвать отказ от прежних представлений о российской «исключительности» с акцентом на отсталости страны и ее отличиях от Европы. Надо сказать, эта черта характерна в целом для всей англоязычной русистики, которая все чаще помещает историю России в общеевропейский контекст.
Плодотворность такого подхода демонстрирует статья Фрэнсиса Батлера (30), в которой сюжет Повести временных лет о мести княгини Ольги древлянам исследуется с точки зрения соответствия «гендерному коду» того времени. Автор реконструирует нормы древнего восточнославянского общества, опираясь в условиях крайней скудости источников на материалы скандинавского, раннегерманского и англосаксонского эпосов. Он полагает такое сравнение вполне правомерным, поскольку нормы гендерного поведения изменялись крайне медленно.
Ф. Батлер препарирует ситуацию, сложившуюся в Киевском княжестве после убийства древлянами князя Игоря, и показывает, что овдовевшая княгиня стояла перед трудным выбором. Прими она предложение древлян – они убили бы ее малолетнего сына Святослава, а жители Киевского княжества попали бы под гнет жестокого и менее развитого племени. И хотя в эпоху раннего Средневековья овдовевшие королевы часто выходили замуж и возводили таким образом на престол нового короля, жертвуя будущим и часто жизнью своих сыновей от первого брака, Ольга избрала иной путь – убийство древлян и их князя. При этом своих целей она достигла исключительно при помощи слов, не беря в руки оружия (в отличие от ряда скандинавских женщин-мстительниц). Ф. Батлер согласен с той высокой моральной оценкой, которую летописец дает Ольге, и отмечает, что она действовала в соответствии с тогдашним женским кодексом поведения. То, что наши современники сочли бы обманом, пишет он, на самом деле являлось единственным способом защитить интересы сына и подданных, и речи княгини Ольги представляли собой «благородное, честное оружие, гораздо более полезное, чем мечи и копья воинов-мужчин» (30, с. 793).
Изучение социальных ценностей, менталитета и предписанных гендерных норм занимает сегодня центральное место в гендерной истории допетровской Руси. Здесь, как отмечает Н. Коллманн, особенно остро ощущается проблема источников, поскольку они почти не дают свидетельств о «живом опыте» и не позволяют оценить соотношение между предписанными нормами и практикой. Источником, который всегда привлекался историками в подтверждение существовавшей в Московии XVI в. жесткой патриархальности, является «Домострой». Впервые полный перевод на английский язык этого литературного памятника, содержащего массу сведений о повседневной жизни и нравах того времени (включая советы о том, как квасить капусту), был опубликован в 1994 г.1414
The «Domostroi». Rules for Russian households in the time of Ivan the Terrible / Transl. and ed. by Pouncy C.J. – Ithaca, 1994.
[Закрыть] В результате в настоящее время после тщательного изучения этого дидактического текста западные специалисты подходят к нему иначе, чем прежде, сопоставляя его с аналогичными памятниками назидательной литературы в Европе и отдавая себе отчет в его одностороннем характере. Они привлекают и другие источники, в первую очередь фольклор и светскую литературу, а также судебные материалы, которые значительно корректируют представленную в «Домострое» и в особенности в свидетельствах путешественников-иностранцев картину «жестокого угнетения» женщин в Московии (90, с. 365).
Одним из важных направлений в гендерной истории традиционного периода является изучение имущественных отношений. Так, исследователи зафиксировали возникновение ограничений женских прав на землю в конце XVI в. после утверждения поместной системы, однако их выводы оказались достаточно противоречивыми. Если И. Левин и Э. Клеймола (а также и Н. Пушкарева – ведущий специалист по женской истории в нашей стране) указывали на ухудшение в связи с этим социального статуса женщин, то Дж. Вайкхардт, Д. Кайзер и С. Леви подчеркивали чрезвычайно активную их роль в управлении своей собственностью. А Валери Кивелсон переместила центр дискуссии в другую плоскость и продемонстрировала, как провинциальное дворянство обходило закон для достижения своих целей – сохранения имущества в семье1515
Kivelson V. Autocracy in the provinces. The Muscovite gentry and political culture in the seventeenth century. – Stanford, 1996; Levin E. Sex and society in the world of the orthodox Slavs, 900–1700. – Ithaca, 1989; Pushkareva N.L. Women in Russian history: From the tenth to the twentieth century / Transl. a. ed. by Levin E. – Armonk, 1997.
[Закрыть]. Следует отметить, что к середине XVII в. государство вновь расширило имущественные права женщин, введя в поместную систему приданое и вдовью долю, и эта тенденция сохранялась и позднее, коснувшись затем и купеческого сословия (90, с. 364).
Судебные материалы позволяют сделать определенные заключения относительно правового положения полов в Московии. Характерно, что женщины и мужчины были в общем и целом равны перед законом, они на равных могли выступать истцами и свидетелями в суде, а также заключать контракты. Специфически женским было такое преступление, как убийство младенца, но по сравнению с западноевропейскими нормами каралось оно в XVI–XVII вв. не очень жестоко. Своеобразно относились на Руси и к колдовству. Его связывали не с одержимостью дьяволом, а только со знахарством и магией, причем большинство обвиняемых в Московии XVI–XVII вв. были мужчины, как правило знахари. Таким образом, на Руси отсутствовало такое характерное для Западной Европы явление, как «охота на ведьм» (90, с. 367).
Особая тема исследований допетровской Руси – духовность и религиозная жизнь, в которой женщины играли немаловажную роль, особенно в том, что касалось формирования местных культов и соблюдения ритуалов. Так, предварительный анализ русских средневековых агиографических источников позволил И. Тире предположить наличие специфической «женской» духовности в Московии, что нашло свое отражение в особых традициях почитания некоторых святых. Автор отмечает, что русские женщины отдавали предпочтение культу Богоматери, поскольку они идентифицировали себя с ее ролью заступницы (129). Большую роль в формировании специфически «женской» святости играла такая особенность православной теологии, как признание важности «добрых дел», а центральное место в характеристике русских женских святых занимало «служение»: своей семье и людям или, если речь шла о членах царской семьи, – своей стране. Милосердие, христианская любовь к ближнему, забота о больных и убогих – преобладающая тема, формирующая стереотип женской святости на Руси, хотя иногда святые мученицы могли приобретать и некоторые маскулинные черты (как, например, Марфа Борецкая, см.: 93). Гендерные стереотипы играли важную роль в развитии женского благочестия в средневековой Руси, и вплоть до середины XVII в., пишет И. Тире, православная церковь проводила политику активного включения женщин-мирянок в религиозные дела, в частности в процесс канонизации святых (129, с. 117).
Религиозный символизм Московской Руси анализируется И. Тире на материалах визуальных источников (в частности, росписей Золотой Царицыной палаты), а переписка царя Алексея Михайловича с женой и сестрами позволила автору сделать ряд интересных заключений о связи православной теологии и политики (129, с. 258). Благочестивая царица была духовной заступницей, посредницей между царем и его подданными, а также между царем и Богом. В качестве духовной помощницы своего супруга она своими благочестивыми деяниями, раздачей милостей гарантировала спасение не только царя, но и всего его царства. Она также осуществляла мирскую власть, не менее важную: в ее руках находились рычаги хозяйственного механизма всего царского дома, она организовывала свадьбы, ее завещание также имело большое значение, поскольку царица распоряжалась немалой собственностью.
Как и в других государствах средневековой Европы, при царском дворе область личного тесно переплеталась с политикой. Царицы получали множество петиций с просьбами разобраться не только в запутанных семейных делах, но и в делах государственных. По мере бюрократизации государства царица стала олицетворять более «мягкий» вариант политической власти, обеспечивающий доступ к трону, пишет Б. Энгель и указывает, что «поскольку социальные ценности частной жизни структурировали высокую политику, влияние на нее женщин элиты было весьма ощутимым» (42, с. 6). Таким образом, окончательно утвердив тот факт, что женщины составляли неотъемлемую часть политического строя Московии, современные западные исследования не только еще раз подчеркнули значение гендерных отношений в политике традиционного общества, но и позволили по-новому взглянуть на концепты публичного, частного и «власть» женщин (90, с. 367).
Историки отмечают, что женщины высших слоев общества обладали значительными властными полномочиями в своей сфере: вели дом, управляли поместьями в отсутствие мужа, организовывали браки (42, с. 7). Их быт коренным образом отличался от условий жизни не только простых крестьянок и мещанок, но и провинциального дворянства. Главной особенностью являлась практика изоляции боярских жен и дочерей, которые почти не покидали свой терем, выезжали в закрытых каретах всего лишь 2–3 раза в год и, кроме того, не должны были появляться в мужском обществе. Причины этого понятны – изоляция охраняла женскую честь как ценный товар на брачном рынке, поскольку семейные связи и браки служили основным инструментом в придворной политике. В данном случае практика изоляции женщин и сегрегации полов оказывалась средством укрепления политической системы (42, с. 5).
И хотя социальная изоляция женщины являлась институтом исключительно элитарным, строгие нормы предписанного поведения, ставившие во главу угла скромность, были обязательны для женщин всех слоев. Это должно было поддерживать развитую систему чести, которая занимала центральное место в иерархии социальных ценностей Московии. Как показала Н. Коллманн на материалах главным образом судебных документов1616
Kollmann N.Sh. By honor bound. State and society in early modern Russia. – Ithaca, 1999.
[Закрыть], в оскорблении чести наиболее заметны гендерные, а не социальные различия. В частности, компенсация за поругание чести жены была в два раза больше, чем за оскорбление ее мужа, а незамужней дочери – в четыре раза больше, чем ее отца. Так что женская честь была вполне ощутимой ценностью, и ее потерю семья воспринимала очень серьезно (90, с. 366).
Сберечь честь семьи и соблюдать ее интересы помогали концепции женской добродетели, которые составляли существенную часть гендерных норм. Важнейшим источником гендерных представлений о том, что есть женщина, являлась православная церковь. Однако оценить, до какой степени эти идеи нашли свое отражение в практике, насколько были приняты и усвоены населением Московской Руси, представляется достаточно сложным делом, и с уверенностью историки говорят лишь о том, что идеалы женственности в этот период строились вокруг семейной и домашней роли женщины. Учение православной церкви предлагало крайне противоречивый образ женщины. С одной стороны, она – «сосуд дьявольский», грешница, соблазнительница, искушение для мужчин, лживая и бессовестная, ненасытная и неукротимая; с другой – благочестивая, жертвенная мать и супруга, скромная и трудолюбивая, которая во всем подчиняется своему мужу (119, с. 18, 22; 42, c. 7). «Хорошая» женщина часто ассоциировалась со святыми, что особенно подчеркивалось в отношении цариц, где связь была почти прямая (42, с. 9).
В условиях традиционного общества, отмечают исследователи, и положительный, и отрицательный образы женщины работали на закрепление ее подчиненного положения в семье и социуме. С одной стороны, усиленный мужской контроль был необходим для обуздания женщины-искусительницы, сеятельницы раздоров и существа нечистого. С другой стороны, образы благочестивой добродетели, скромности, жертвенного служения семье и обездоленным побуждали саму женщину подчиняться мужской власти и интересам семьи (119, с. 18).
Русская традиционная модель маскулинности также основывалась на двух китах христианства и патриархальности. Как пишет Н. Коллманн, идеалом мужественности представлялся святой аскет-отшельник, презирающий плотские удовольствия, и от земных мужчин ожидались соответствующие качества: скромность, смирение, любовь к ближнему, набожность, благонравие и трезвость. Целью жизни настоящего мужчины являлось спасение души. Черты, которые сегодня считаются типично мужскими (напористость, самоуверенность, отвага, физическая удаль, успешность), не только не ассоциировались в Московии с мужчинами, но и не пользовались, судя по религиозным источникам (и «Домострою»), особым уважением. Однако в рамках этой христианской парадигмы смирения и самоотречения сосуществовали не одна, а несколько «маскулинностей», в зависимости от социального и семейного статуса индивида. Существовал идеал милостивого, но строгого патриарха, отца семейства, гостеприимного и щедрого хозяина. В то же время от мужчин, занимавших зависимое положение в силу возраста или социального статуса, требовались уважение и покорность, прилежное выполнение своих обязанностей. Правители и члены политической элиты должны были обладать еще и всеми качествами воина (89, с. 16–17).
С середины XVII в., когда государственная служба становится важным источником самоопределения индивида, намечаются и определенные изменения в модели маскулинности. От мужчин начинают ожидать грамотности и образованности, цивилизованности, вовлеченности в общественную жизнь. Менее очевидными, но не менее далеко идущими были изменения в сферах любви и брака (89, с. 17).
Н. Коллманн не отрицает того факта, что в Московии существовала страстная любовь, однако страсть резко противоречила официальным нормам христианской морали, которая подчиняла эмоциональные и сексуальные радости более прагматическим целям брака, ассоциировавшегося с продолжением рода и социальным контролем. С этой функциональной точки зрения любовь и сексуальность угрожали социальной стабильности. Первые браки устраивались родителями и носили характер экономического или политического союза.
Учение православной церкви рассматривало сексуальность как стихийную силу, которую следует держать в узде. В отличие от средневековой Европы, где рыцарский роман утверждал любовь и эротику (в пределах христианской морали), в Московии не было не только подобных жанров и литературных произведений, сопоставимых с «Тристаном и Изольдой», но и соответствующего набора идей. Даже в браке предпочтение отдавалось идеалу воздержания и непорочности, шла борьба с противоречием между аскетическим идеалом и признанием необходимости продолжения рода, так же как и признанием неизбежности сексуального желания. В то время как на Западе клирики разработали понятие «супружеского долга», от исполнения которого ни одна из сторон не должна была уклоняться, на Руси церковь предписывала супругам вступать в сексуальный контакт только для зачатия и не подвергать друг друга «дьявольским искушениям» половых отношений. «Домострой» также превозносил воздержание, и супружеская любовь подавалась в нем как взаимоуважение, а не страсть или глубокое чувство. Из известных источников ближе всего к признанию чувства любви подходит «Повесть о Петре и Февронии», но в ней подчеркивается в первую очередь благочестие двух любящих бездетных супругов, которые в конце жизни приняли монашеский обет и умерли в один день (89, с. 18–19).
Эмоциональное или эротическое удовлетворение в браке стало в Европе нормой только после сложных трансформаций эпохи раннего Нового времени, пишет Н. Коллманн. Протестантская реформация выдвинула понятие брака, основанного на товариществе и общей вере (companionate marriage), а в эпоху Просвещения и затем романтизма происходит кодификация идеи брака как эмоционального партнерства. В России же долгое время сохранялась вполне библейская модель. Первые признаки изменений в модели брака и в гендерных отношениях возникают в ходе экономических, социальных и особенно культурных трансформаций при жизни поколения, предшествовавшего воцарению Петра Великого, который радикально ускорил эти процессы (89, с. 20–21).
Петровская революция и «длинный» XVIII век
По сравнению с историей пореформенной России век XVIII был изучен в западной русистике достаточно фрагментарно1717
Многое в этом направлении делает британская Группа по изучению XVIII в. – Режим доступа: http://www.sgecr.co.uk
[Закрыть], однако в последние десять лет в этом направлении сделаны большие успехи. Характерно, что немалое место в историографии, посвященной периоду 1700–1825 гг., занимают социальная история женщин и гендерные исследования. Оба эти направления развиваются во взаимном притяжении, обогащаясь методологическими подходами и фактологическими находками. Так, социальная история женщин сегодня интересуется не столько проблемами угнетения и сопротивления, сколько изменением социального статуса женщин, повседневностью и трансформацией идеалов фемининности. Гендерные исследования, по-прежнему адресуясь в первую очередь к изучению предписанных норм и моделей, обогащаются присущим социальной истории интересом к «живому опыту».
Центральное место в гендерной историографии России XVIII в. занимает петровская революция, ее значение и последствия. Как пишет Б. Энгель в своей обобщающей книге «Женщины в России», Петр ускорил процессы изменений, которые уже происходили в Московском царстве в последние десятилетия XVII в., и начал радикальную трансформацию российской политики, культуры и общества, преобразив их в соответствии с европейскими образцами. Для новых политических институтов и преобразованной армии требовались и новые люди – конечно, мужчины, которые вели бы себя, выглядели и даже думали иначе, чем их отцы и деды. Но для этих мужчин нужны были и новые женщины, одетые по европейской моде, умеющие себя вести в мужском обществе, которые воспитывали бы своих сыновей в современном духе. Они также должны были служить государству, но иным образом: их вклад реализовывался в семье, и понятие материнства начало обретать новую значимость (42, с. 11).
Метаморфозы, произошедшие в русском обществе в начале XVIII в., издавна привлекали внимание западных историков. В результате петровских преобразований сменился весь строй жизни, были затронуты самые глубинные пласты социальных отношений, в том числе гендерная идентичность. Для иллюстрации этого тезиса часто сравнивают «Домострой» с известным руководством для юношества «Юности честное зерцало» (1717). Причем если раньше при анализе этих текстов акцент делался на секуляризации и программе по формированию новых граждан, то с введением в научный оборот категории гендера произошло смещение акцентов. Так, Н. Коллманн пишет о том, что культурные трансформации эпохи Петра включали в себя и пересмотр идеалов маскулинности, а также отношения к любви. Мужчина должен был быть физически активным, умелым, смелым в бою, конечно же, религиозным, но не смиренным и покорным. Воинские доблести стали ассоциироваться с античными богами и героями, а не с защитой христианской веры. Кроме того, мужчина должен был быть образованным, усвоить европейский этикет и манеру одеваться, танцевать на ассамблеях с дамами, играть в карты, наконец, быть «кавалером» (89, с. 25).
Великий реформатор личным примером демонстрировал все атрибуты нового образца мужественности, включавшего в себя и эмоциональный компонент. Его любовь ко второй супруге, ставшей в итоге императрицей Екатериной, была публичной и открытой. Петр использовал свои прерогативы монарха, чтобы продемонстрировать новые жизненные цели человека – достижения на земле, а не спасение души, и широко популяризировал свой роман и женитьбу, распространяя многочисленные гравюры и картины, изображающие его счастливый брак (89, с. 27).
Однако в отношении нового идеала фемининности сопоставительный анализ «Домостроя» и последней трети книги «Юности честное зерцало», обращенной к девушкам (главы «Девической чести и добродетели венец», «Девическое целомудрие», «Девическое смирение»), дает совершенно иные результаты. Как пишет Л. Хьюз, выясняется, что в рамках «программы по созданию новых граждан», которую историки обычно приписывают Петру, идеал «новой женственности» оказывается на удивление близок к традиционному. Среди двадцати важнейших добродетелей «благородной дамы» почти половина относятся к религии и религиозности, что значительно корректирует наши представления о секулярном характере эпохи Петра I. Остальные включают в себя такие качества, как благочиние, целомудрие, стыдливость, молчаливость, и только, пожалуй, трудолюбие и бережливость перекликаются с петровскими ценностями «протестантской этики». А приведенный в книге образ «непорядочной» девицы, которая смеется, болтает с молодыми людьми, пьет вино и поет «грубые» песни, заставляет автора предположить, что в начале XVIII в. русские женщины оказались перед лицом противоречивых требований и были вынуждены, как, например, сестра императора Наталья Алексеевна, вырабатывать «двойную идентичность». «Два лица» демонстрировали и жены русских вельмож: за границей они вели себя как светские дамы, а дома, особенно в Москве, выглядели «благочестивыми монахинями» и избегали контактов с иностранцами (70, с. 43).
Постепенность изменений, введенных, как считалось, фактически одномоментно петровской «революцией сверху», подчеркивают многие авторы. Первоначально они затронули лишь столичную верхушку, и это понятно. Даже требование научиться одеваться и вести себя по-европейски не могло реализоваться в одночасье, учитывая к тому же сопротивление женщин, не желавших отказываться от привычной скромной одежды и старого образа жизни. Должно было вырасти новое поколение, усвоившее европейские нормы поведения с детства. Историки отмечают не слишком «революционный» характер преобразований Петра, касающихся положения женщин. Так, не были реализованы предложения о введении женского образования, а законы о браке, принятые в первой четверти XVIII в., сводились главным образом к усилению добровольного начала при заключении супружеского союза, формализации процедуры развода и побуждению женщин выполнять свою репродуктивную функцию. В частности, Духовный регламент 1721 г. запретил пострижение в монахини до 50 лет (42, с. 12–13).
Тем не менее заданный петровскими преобразованиями импульс оказался исключительно сильным, и потому западные исследователи склонны сосредоточиваться на более отдаленных их результатах, при этом оценки степени «трансформации» варьируют. П. Кинан, например, полагает, что успех Петра в «освобождении женщины» был лишь частичным, и в конце XVIII в. все чаще начинают звучать голоса, ностальгически вспоминающие скромных затворниц, «истинно русских» женщин времен царя Алексея Михайловича. Следует заметить, что известный труд князя Щербатова «О повреждении нравов в России», а также инвективы Радищева в его «Путешествии из Петербурга в Москву» оказывают большое влияние на интерпретации историков. Они фиксируют своего рода консервативный откат, который, по мнению Б. Энгель, свидетельствует о том, что «петровская революция» к концу века «совершила полный круг», хотя и достигла безусловных успехов (42, c. 24).
В то же время в западной историографии присутствует явная тенденция рассматривать новые социальные и культурные явления, касающиеся гендерных отношений, в континууме, с выявлением скорее элементов преемственности, а не разрывов. Петровская «революция сверху» в данном случае служит отправным пунктом для изучения тех или иных явлений и черт «галантного века», разворачивающихся на протяжении более чем 100 лет. Так, первоначальные намерения организовать школы для девочек реализовались только при Екатерине II, и даже окончательное утверждение европейского стиля в одежде произошло тогда же.
Тот факт, что в период 1701–1724 гг. было выпущено 17 указов, касающихся ношения европейского платья, свидетельствует о том, как нелегко насаждалась новая мода, пишет П. Кинан. Более того, указы о запрещении носить русскую национальную одежду продолжали выходить и в царствование Елизаветы Петровны (81, с. 131–132). Следует отметить, что усиленное внимание западной историографии к моде имеет под собой серьезные основания. Там давно уже бытует мнение о важной роли одежды, которая используется в качестве индикатора, отражающего социальные, культурные и политические различия между людьми. Как считает П. Кинан, изменения в одежде придворных имели большое значение, во-первых, для восприятия России и ее двора иностранцами, что было необходимо для вхождения империи в сферу европейской цивилизации; во-вторых, для самовосприятия и самоидентификации социальных групп, в частности дворянок, которые теперь полноправно вошли в публичную сферу. Императорский двор стал в этот период центром общественной жизни, и проходившие там праздники требовали соответствующей одежды, которая выступает показателем богатства и статуса (81, с. 125). Указы Елизаветы Петровны о позволении женам купцов посещать представления в придворном театре – «только б одеты были не гнусно» – или о запрещении гулять в Летнем саду «не в фижменных юпках» демонстрируют, что одежда становится важным инструментом социального контроля (81, с. 134).
О том, что модная одежда способствовала выстраиванию социальной иерархии, пишет и Хелена Гощило (57). Однако она, как историк культуры, делает акценты на другом. Ее больше интересует присущее эстетике XVIII в. стремление к театрализации и метафоризации. Язык жестов (манипуляции с табакеркой и веером), язык цветов, обилие кружев и драгоценностей, парики и накладки из волос, мушки, пудра, румяна и косметика, корсеты для женщин и мужчин, переодевание в одежду противоположного пола, – все это служило тому, чтобы произвести на «зрителя» соответствующее впечатление, пишет исследовательница. Женское тело как «витрина», которая демонстрирует аристократический статус, и как квинтэссенция достижений цивилизации – вот то новое, что возникло в эпоху Просвещения и классицизма, когда интеллектуальным идеалом являлось искусственное, не отличимое от настоящего – «организованная видимость». Не случайно тогда же в России возник и феномен потемкинских деревень (57, с. 73–74).
И хотя внешний облик женщины и ее образ жизни действительно радикально переменились в послепетровский период, наиболее заметные признаки нового положения женщин, считают исследователи, обнаружились в сфере политики. В XVIII в. на российском троне поочередно воцарились четыре императрицы. Тот факт, что для элиты женское правление оказалось вполне приемлемым, западные историки признают не только мерилом успеха Петра в его стараниях «вывести женщин из терема», но и результатом искусного создания публичного образа монархини (42, с. 15). Если сам Петр олицетворял новые черты вызывающе маскулинного правителя-воина, то женщины на троне, в особенности Елизавета Петровна и Екатерина II, подчеркивали гражданский и гуманистический аспекты своего правления. Перед своими подданными они представали могущественными, но при этом обезоруживающе кроткими и любящими, и таким образом было возрождено «фемининное измерение правителя», основанное на традициях московского периода.
Как пишет Гэри Маркер, примирить подданных с женщиной на троне, в частности с Екатериной I, удалось путем «сакрализации» правительницы, что выдвигало на передний план традиционные верования. В своей монографии он подробно исследует становление культа святой Екатерины Александрийской в Западной Европе, а затем и в России, где к середине XVII в. она стала покровительницей женщин царствующего дома Романовых. Особенно широкую популярность получил образ святой Екатерины как «невесты Христовой» благодаря трудам Дмитрия Ростовского, и в результате к моменту, когда пришло время окрестить Марту Скавронскую, выбор имени для нее был не случайным. Хотя, как отмечает автор, было нелегко представить любовницу Петра в образе знаменитой святой девственницы, сам материал сказания о великомученице Екатерине давал возможность идентифицировать ее житие с жизнью реальной женщины, учитывая такие ее качества, как мужество, храбрость, острый ум и холодный рассудок. Первые шаги в процессе обоснования прав Екатерины I на трон были предприняты Феофаном Прокоповичем еще при жизни Петра I в «Правде воли монаршей» и вскоре после его смерти в «Краткой повести о смерти Петра Великого». В этих текстах определялись два основных источника царской власти: по воле Бога и по воле монарха. Поскольку к этому времени Екатерина уже была коронована как супруга императора, а также обладала всеми качествами публичной фигуры, ассоциировавшейся со святой Екатериной Александрийской, ближайшему окружению Петра не составило труда организовать дело так, что ей был предложен скипетр, который «Бог и ее супруг» ей уже предоставили, пишет автор (97, с. 177).