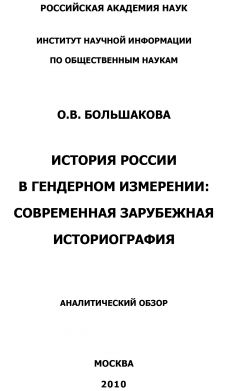Автор показывает разное отношение к дуэли в офицерской среде и среди интеллигенции. В общем и целом такое «доказательство доблести», в армии значительно бюрократизированное (требовалось вести протоколы), в представлении интеллигенции оказывалось делом людей недалеких и грубых, а вовсе не прерогативой рафинированных аристократов.
Тем не менее вырабатывание силы воли, одной из главных характеристик мужественности, единодушно считалось делом крайне важным, поскольку ассоциировалось с формированием новых граждан, которые сумеют преодолеть извечную российскую лень – основную причину отсталости страны. Свое символическое значение закалка не утратила и в советское время, и только после смерти Сталина постепенно на передний план в пропаганде начинают выходить чисто гигиенические задачи укрепления физического здоровья (84, с. 145).
Джошуа Санборн также разделяет мнение о возникновении в России начала ХХ в. «новой маскулинности», носившей военизированные черты. Однако он выдвигает на первый план тезис о том, что в период между революцией 1905 г. и сталинской «революцией сверху» имела место революция гендерная, направленная не на освобождение женщины, а на освобождение юношей от оков патриархальной власти (120, с. 161). Суть ее заключалась в «национализации» маскулинности, когда идеалу мужчины были приданы национальные качества, а главной системной чертой гендерной революции явилось то, что «производство» идеалов мужественности было изъято из рук тех, кто обычно их создавал, – церкви, общины, семьи, отдельных выдающихся личностей. Начиная с Первой мировой войны этот процесс перешел в руки институтов массовой пропаганды, образования и, главное, армии (120, с. 132–133).
Гендер, национальная идентичность и война
Взаимосвязь гендера и национальной идентичности была выявлена историками не так давно. Культурологи обратились к рассмотрению связи гендерного символизма и метафоризации женского и мужского с процессами становления национальной идентичности. Особенно значимым аспектом стало изучение женской иконографии, ее использования при формировании образа нации и того влияния, которое образы матери оказывают на общество и государственную политику по отношению к женщине. Было продемонстрировано, что изображение нации в виде женщины, основанное на национальных мифах и ритуалах, культивировалось в различных обществах с конца XVIII в. для того, чтобы представить государство в качестве законного продолжателя давней традиции.
Многие исследователи отмечали, что общей метафорой для национальных дискурсов является метафора нации как «семьи», глубоко связанная с идеализируемым прошлым (см., например: 46, с. 7). Гендерные роли в этой семье четко распределены, и хотя мать выступает в качестве центральной фигуры, ее власть может осуществляться лишь внутри патриархатного порядка. Однако подобная интерпретация нуждается в проверке, пишет Линда Эдмондсон (13), подчеркивая, что связь образа матери и нации не универсальна, поскольку в роли национального символа могли выступать изображения и молодой девушки (Финская дева), и мужчины (Вильгельм Телль), и диких животных (русский медведь). Кроме того, одна и та же нация могла быть представлена различными изображениями, что характерно и для России.
Л. Эдмондсон обратилась к широко распространенному мифу о «России-матушке» и наметила пути исследований проблемы ген-дера и репрезентации национальной идентичности в европейском сравнительном контексте, причем не для того, чтобы лишний раз подчеркнуть отличия, но скорее для того, чтобы обнаружить близость и выявить взаимосвязи. Она отмечает, что понятия «русская идея», «русская душа» на протяжении многих лет привлекали к себе интерес и внимание иностранцев, которые были склонны интерпретировать Россию как преимущественно «женскую нацию» и подчеркивать исконно существовавший там культ матери. Антиномия маскулинности/фемининности была важной составляющей концепта «русской идеи», при этом Россия неизменно изображалась как женщина: негативно (слабой, пассивной, иррациональной) или позитивно (духовной, питающей своих детей, сильной нравственно) (13, с. 422).
Эта традиция, берущая свое начало в трудах русских мыслителей и писателей XIX – начала ХХ в. и продолженная затем в эмигрантской историографии, к сожалению, не преодолена и до сих пор (см.: 15). И хотя в ряде работ оспаривается склонность русских писателей «феминизировать» символы традиционной России (см., например: 136, с. 103), целый ряд зарубежных исследований о бытовании гендерных конструкций в русской культуре, обществе и языке склонен «репродуцировать существующие мифы» (13, с. 417). В них подчеркивается, что противопоставление неба и земли, света и тьмы, соответствующих мужскому и женскому началу, ведет свое происхождение от древних космогоний. В средневековой Руси, пишут редакторы-составители сборника «Гендер и национальная идентичность в ХХ в.», это противопоставление было усилено широко распространенным поклонением «матери сырой земле». Как и другие национальные идентичности, «русскость» исторически основывалась на понятиях маскулинности и фемининности, и на рубеже веков тема мужского/женского дуализма играла центральную роль в национальной мифологии. Она получила достаточно глубокую разработку в противопоставлении государства, олицетворявшего мужское начало, непредсказуемой и темной «России-матушке». Так, в формулировке В.В. Розанова, государство ассоциируется с конкретными историческими событиями, с законом, империей, великими деятелями. Нация же, напротив, находится вне исторического времени, происхождение ее таинственно, и характеризуется она аморфными, священными, стихийными животворящими силами, которые соединяются в образе «родины-матери» (46, с. 3–4). Сходные построения осуществляются зарубежными исследователями и в отношении семантических пар «Русь, родина/ Россия, отечество», в которых очень сильна гендерная составляющая (136, с. 107).
Л. Эдмондсон ставит под вопрос политическую и идеологическую ценность мифа о России-матушке (в прошлом и настоящем), который сыграл большую роль в формировании и укреплении мнения о русской культурной «особости» и о «судьбе» России. Представление об «особости» России покоится на двух положениях, далеко не очевидных в свете последних исследований, – «о том, что русская культура гомогенна и что ее отличия от европейских культур более серьезны и значимы, чем различия между этими последними» (13, с. 419–420). Историко-культурологические, антропологические и социологические работы последних лет фактически развенчивают постулат о какой-то «особой» русской культуре, в которой сосуществовали «высокое» и «низкое», образованные классы и крестьянство, вера и обряды православной церкви и народные языческие верования. Во-первых, нечто подобное существовало и в культурах других наций. А во-вторых, не следует относиться как к данности к оппозиции «Россия – Запад/Европа», предполагающей, что европейские общества являют собой единство, характеризуемое такими традициями и качествами, которые отсутствуют только в России. Эта оппозиция, впервые сформулированная в дебатах славянофилов и западников, не только основана на не выдерживающем критики предположении о культурном единообразии Запада, но и преувеличивает культурную целостность самой России (13, с. 420). Не отрицая, что Европа (или миф о ней) была тем эталоном, с которым русские писатели и мыслители соотносили судьбу и уровень «цивилизованности» своей страны, Л. Эдмондсон предлагает более активно использовать сравнительный подход. Он должен дополнить наши представления об «особости» России-матушки как национального символа, но в то же время показать, что единичный символ не может быть достаточным основанием для формирования представлений о том культурном многообразии, которое существует в рамках нации, заключает она (13, с. 431).
При всем значении исследования иконографии и национальной символики, важнейшей проблемой для современной зарубежной историографии является изучение того, как гендерные концепты нации воздействовали на процессы национально-государственного строительства и, конечно, как они влияли на реальную жизнь простых людей (46, с. 9). Известно, что перераспределение гендерных ролей происходит особенно активно в период становления нации, в годы резких политических перемен и переворотов. Исследователи Западной Европы сходятся во мнении, что возникший там в конце XVIII в. под влиянием войн и революций новый стереотип маскулинности включил в себя такие черты, как героизм, дисциплина и способность пожертвовать своей жизнью во имя высокой цели (127, с. 79). Русисты также обратились к изучению радикальных изменений, которые происходили в кризисную для России эпоху в концепциях патриотизма, гражданства, гендера. В монографии Дж. Санборна (120) рассматривается национально-государственное строительство в период 1905–1925 гг., характеризующийся активной милитаризацией общества, тектоническими сдвигами в конфигурации социальных, национальных и гендерных идентичностей. В своих построениях автор исходит из тезиса о том, что поскольку нации действуют на основе принципов воображаемого родства, изучение политики и риторики в отношении семьи не менее важно, чем внимание к этничности. В России, пишет он, наиболее могущественным из институтов, использовавших для мобилизации населения и единения нации метафоры родства, была армия. Именно армия в условиях всеобщей воинской повинности, а затем тотальной войны играла в первой трети ХХ в. ведущую роль в сплочении нации на новых основах, присущих эпохе модерности. Она являлась в этот период физическим воплощением нации и символическим братством солдат-граждан (120, с. 5).
Начиная с 1914 г., который Санборн считает поворотным пунктом во всей политической истории России, государство в своих мобилизационных усилиях стало практиковать массовую политику, что в итоге «убило царский режим, а затем Временное правительство». И только большевики нашли гениальное решение проблемы, как согласовать массовую мобилизацию и центробежные тенденции, пишет автор. Лозунг «Защитим социалистическое отечество» позволил связать интересы территории и класса и объединил народы в борьбе против «врагов». Однако общность территории (земля как образ нации) являлась не единственным концептом, используемым для «позитивного» национально-государственного строительства. Главным в политической риторике большевиков стала метафора семьи как прототипа нации, взятая ими у предшественников (на протяжении всего ХХ в. она входила в репертуар военных). И страна, и армия, и любое воинское подразделение уподоблялись семье, что должно было порождать чувство лояльности, ощущение близости и единства, – причем, считает Санборн, эта политика была осознанной (120, с. 103).
В указе 1912 г. она приняла форму материальной поддержки солдатских семей. Этот закон, согласно которому в военное время семья фронтовика получает от государства паек, отмечает Дж. Санборн, обозначил серьезный сдвиг в отношениях между государством и гражданином, показав, что теперь граждане вправе ожидать от государства выполнения определенных обязательств. В годы Первой мировой войны была разработана и система наказаний солдатских семей – в частности, лишение их пайка – за дезертирство и добровольную сдачу в плен их отцов и сыновей. Это означало, что государственная помощь семьям не являлась компенсацией за временную потерю кормильца, а была вознаграждением за выполнение солдатом своего воинского долга (120, с. 105–107).
Большевики продолжили и развили эту политическую линию, в самые тяжелые для себя моменты повышая пайки семьям фронтовиков. Однако их неспособность выполнить свои обещания чуть не стоила им революции, пишет автор. Дезертирство приняло угрожающие размеры, и только введение жестоких наказаний семьям и родственникам дезертиров, включая конфискацию имущества и штрафы, с передачей затем этих средств семьям «честных» солдат, позволила справиться с тяжелой проблемой и в итоге – выиграть Гражданскую войну (120, с. 109). Подобная политика, продолжавшаяся и после окончания Гражданской войны, делала службу в армии привлекательной и престижной.
Семейные ценности, таким образом, были заложены в систему отношений между гражданином, армией и государством, причем семья становилась ее главной осью. Однако в начале ХХ в. на смену патриархальным семейным символам, в первую очередь фигуре «отца», приходит символ братства, значение которого начали особенно остро осознавать в годы Первой мировой войны, когда стало понятно, что победа зависит в первую очередь от простого солдата (120, с. 110–111). В эти годы слово «братство» было у всех на устах, что обозначало, по словам Санборна, начало разрушения традиционных иерархий, основанных на метафоре отцовской власти. Возникшая в военных кругах идея укрепить братские связи между офицерами и солдатами не была реализована при царском режиме, но получила вполне революционный характер, став лозунгом широких масс.
«Братство» неизбежно ассоциировалось в годы революции с «равенством», в армии оно было институализировано в форме солдатских комитетов и товарищеских судов, а также в запрещении носить знаки отличия (за исключением Георгия). И хотя с приходом к власти большевиков институциональные формы менялись, идеалы братства и его символические функции не исчезли, а, напротив, расширились: подчеркивалось значение равенства и солидарности всех членов «рабоче-крестьянской семьи», а затем – и семьи «братских народов». Концепт «братства» был крайне удобен, пишет автор, поскольку в нем всегда можно было найти «место для старших и младших братьев». Образ семьи и братства становился главной «сцепляющей» силой в процессе национально-государственного строительства вплоть до 1930-х годов, когда на первый план начал выходить концепт «дружбы» (120, с. 114).
Основой солидарности в армии, считает Санборн, являлись идеалы маскулинности, которые составляли главное содержание характера солдата-гражданина. По его мнению, именно военными в начале ХХ в. был «запущен процесс нормализации милитаризованной формы маскулинности», которая была глубоко связана с концептом нации (120, с. 6). Новый маскулинный идеал, внедрявшийся в сознание молодежи, удивительно напоминал западноевропейский и служил той же политической цели поддержки нации. Мужчины, принадлежавшие к разным национальностям и классам государства, могли стремиться к единому идеалу мужественности, и в результате гендерная идентичность оказалась связана с членством в политическом сообществе, дискурсивные определения которого «подпирались» дискурсивными конструкциями гендера. Чтобы стать гражданином, нужно было стать мужчиной, пишет Санборн (120, с. 163–164).
Производство и пропаганда новых идеалов мужественности проводились во многом руками профессиональных военных и фокусировались на двух аспектах: тело и этика (120, с. 133). Физической и допризывной подготовкой молодежи активно занимались организации бойскаутов, а при большевиках – пионеры и Всевобуч, куда стали привлекать и девушек. При советской власти заинтересованность государства в здоровых гражданах превратилась в одержимость, а требуемые качества «здоровья, силы, ловкости и выносливости» стали чем-то вроде катехизиса для «спартанцев ХХ века», замечает Санборн (120, с. 139).
В первой трети ХХ в. именно армия служила школой для выработки новых понятий о важности физкультуры и спорта. Формула «в здоровом теле – здоровый дух» понималась военными начала ХХ в. несколько иначе, чем во времена античности: подразумевалось, что физическое здоровье является предпосылкой здоровья нравственного. Определяющей характеристикой становится сила, причем в уже упоминавшейся дихотомии «мозги/мускулы» («brains / brawns») «мускулы» выдвигаются на первый план, а «мозги» уступают место силе духа. Список основных моральных качеств солдата-гражданина включал в себя традиционные честь, дисциплинированность, чувство долга, самопожертвование, храбрость, а также черты, присущие «новому мужчине», родившемуся в огне войн и революций начала ХХ в.: активность, независимость, инициативность. «Сочетание силы и дисциплинированности, инициативы и сдержанности являлись отличительными признаками солдата-гражданина, который мог с легкостью перемещаться от рабочего станка на фронт и обратно», – пишет Санборн (120, с. 206). Его выводы подтверждает Мелисса Стокдейл в своем исследовании революционных трансформаций 1914–1918 гг. Она подчеркивает, что служба своей стране помогала превратить солдат в граждан и в то же время делала их мужчинами. С тех пор, пишет она, мужественность и патриотизм стали неразрывно связанными понятиями (127, с. 81).
Военно-патриотический вариант «новой маскулинности», тесно связанный с идеей нации, претерпевал неизбежные изменения в течение ХХ в., в особенности под влиянием марксистско-ленинской идеологии, однако сохранил преемственную связь с дореволюционной эпохой. Карен Петроне рассмотрела концепт «солдата-героя» на материалах трех военных столкновений России с Японией (Русско-японская война, Гражданская война, конфликт на озере Хасан), что позволило ей проследить, как этот концепт укреплял национальное единство, не умаляя этнического многообразия страны. Как пишет автор, «военно-героическая маскулинность» часто сводит к минимуму социальные и этнические различия между гражданами страны. Однако в царской России доблесть ассоциировалась с «рыцарством», с благородным происхождением, и потому поражение в войне с Японией часто относили за счет бессилия выродившегося русского дворянства и силы самурайских традиций. В годы Гражданской войны признавались военные качества японцев, но их победы объяснялись крайней жестокостью. Десять лет спустя в СССР японцам либо вообще отказывали в принадлежности к роду человеческому (феномен «дегуманизации» врага), либо феминизировали их (приписывая истеричность и фанатизм). Для классового подхода эпохи сталинизма было характерно, что в дискурсе о военных конфликтах с японцами присутствовали исключительно самураи – капиталисты и фашисты, угнетатели японских рабочих и крестьян (107, с. 181–182).
Мифологизация героев войны была характерна и для царской, и для Советской России, однако претерпела существенные изменения. Герои Русско-японской и Гражданской войн изображались часто лирически, как живые люди, с присущими всем человеческими слабостями. В конце 1930-х годов советские герои боев на озере Хасан мифологизируются, приобретая черты гипермаскулинности «нового советского человека». Особую силу придают «новому человеку» принадлежность к коллективу, товарищеская поддержка – важнейшая характеристика советского мужчины в 1930-е годы (107, с. 188–189).
Лежащий в основе концепта «нового мужчины» принцип исключения женщин много говорил о его характеристиках. Не случайно в монографии Дж. Санборна особенности военной маскулинности рассматриваются на материале отношения современников к участию женщин в войне. Новый идеал мужественности, пишет он, был противоположен женскому, так же как и воинская этика (исключение составляло самопожертвование). Различие проводилось в первую очередь между активностью мужчин и пассивностью женщин. Пассивность и сходство с образом непорочной Девы Марии были главными составляющими национальной добродетели, которую должны были демонстрировать сестры милосердия, эти символы женщины на фронте (120, с. 162–163).
Конечно, реальность разительно отличалась от идеалов, и сестры милосердия (равно как и ходячее мнение о них) далеко не всегда соответствовали тому, что требовало от них государство и общество в лице, главным образом, средств массовой пропаганды. Тем не менее тот факт, что Первая мировая война – первая тотальная война в истории человечества – нарушила устоявшиеся нормы и стала толчком к их пересмотру, единодушно признается исследователями. Война, пишет М. Стокдейл, предоставила возможность обрести полное гражданство тем, кто его не имел. Это касалось и женщин, которые выполняли патриотический долг, жертвуя собой для родины не хуже мужчин (127, с. 82). Однако женщины обретали членство в политическом сообществе на иных условиях. Как пишет Саборн, у них был выбор между двумя нелегкими путями. Первый заключался в маскулинизации, и его выбирали те, кто шел на фронт; второй следовал традиционным нормам, подразумевая вхождение в политическое сообщество на основе самопожертвования и выполнения своего долга – рожать и воспитывать солдат. Этот путь не означал равенства, женщины в этом случае служили фоном для деятельности мужчин (120, с. 163–164).
Участие женщин в сражениях Первой мировой войны исследовала Лори Стофф (128). Летом и осенью 1917 г. в России впервые в мире были созданы отдельные женские воинские подразделения. Это был абсолютно новый способ использования женщин в войне, который нарушал все традиционные гендерные нормы, пишет автор. Такое смогло произойти только при наличии определенных условий, которые сложились к этому времени: тяжелое положение на фронтах и необходимость влить новые силы в измученную войной армию, а также наступившие после Февральской революции политическая анархия и развал общества (128, с. 1–2).
Л. Стофф считает, что создание особых женских частей являлось в чистом виде социальным экспериментом, предпринятым главным образом в пропагандистских целях. Женщины должны были своим примером вдохновить мужчин и поднять их моральный дух, а также пристыдить их, если те уклонялись от выполнения своего патриотического долга – защиты родины. Это подтверждается и той готовностью, с которой журналисты, фотографы и кинооператоры распространяли сведения о русских женщинах-солдатах буквально «от Петрограда до Нью-Йорка», и тем, с какой быстротой исчезли женские боевые подразделения после Октябрьской революции (128, с. 3–4).
Принимая на себя мужскую роль защитника, женщины становились прямым вызовом традиционным гендерным концепциям патриотизма и гражданства. Результат, пишет автор, был в лучшем случае двойственным. Далеко не все принимали такие «неженские» роли, и не все разделяли энтузиазм в отношении женского патриотизма. В любом случае, существование женских боевых частей в годы Первой мировой войны было явлением временным, реакцией на острую ситуацию. После окончания кризиса началось «возвращение к нормальности», и на первый план снова выдвинулись традиционные мужские и женские роли (128, с. 3–4).
Вторая мировая война была отмечена широчайшим участием в ней женщин, особенно в СССР. Их вклад в победу общеизвестен, и зарубежные историки уделили этой теме большое внимание. Много работ о женщинах и войне опубликовано и после 2000 г., в частности монография Р. Пеннингтон о военных летчицах (106), однако наиболее серьезное исследование выпустила Анна Крылова (ун-т Дьюка, США) (92). Она исследовала поколение женщин в СССР, которое в предвоенные годы готовило себя к выполнению роли солдата. В монографии выдвигается новая концепция гендерных идентичностей, основанная на исследовании огромного архивного материала, мемуаров и интервью, которая может быть оценена исключительно в контексте гендерной истории периода сталинизма.
В работах более общего плана исследователи констатируют, что в годы войны произошло возрождение русского национального чувства, и гендерный аспект, традиционно присущий понятию нации, вновь выдвинулся на передний план. Это было особенно заметно в визуальной пропаганде, и многие историки приводят в качестве примера знаменитый плакат «Родина-мать зовет!». Отмечается также, что женщины изображались и подавались в пропаганде прежде всего как матери, как помощницы, которые обеспечивают «тыл» и заменяют ушедших на фронт мужей (42, с. 218). Происходит усиление традиционных женских гендерных ролей, возникают и новые символы. Хелена Гощило в своей работе «Вдовство как жанр и профессия а ля рюсс» показывает, как в годы Великой Отечественной войны вдовство выросло до уровня национальной аллегории (58, с. 59). Во второй половине 1940-х годов складывается двойственный образ победы, который редакторы сборника «Гендер и национальная идентичность» характеризуют как «картину мужского успеха и женского самопожертвования» (46, с. 14).