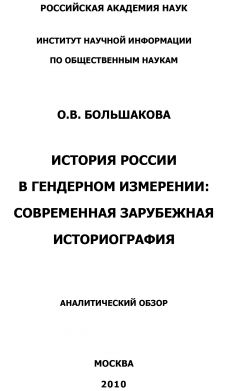Шутки, анекдоты, каламбуры, экспромты, эпиграммы должны были развлечь дам, а загадки, акростихи, анаграммы, ребусы и шарады позволяли упражнять ум. Картинки с изображениями мод, ноты и слова романсов предназначались для того, чтобы помочь блистать в обществе (61, с. 85–86).
Некоторые журналы, как, например, «Московский зритель» кн. Шаликова, становятся, по выражению автора, «салонами в печатном виде», где ведутся беседы между «милыми грациями» и вполне феминизированными галантными мужчинами (61, с. 90). Надо сказать, что далеко не все женщины были удовлетворены «стишками» и «водевильным» уровнем дамских журналов (62, с. 190). Более того, публиковавшиеся у Шаликова в «Аглае» серьезные писательницы, как, например, Анна Бунина, явно поднимались над общим уровнем и претендовали на нелицеприятный критический разбор, на который они не могли рассчитывать в дамском журнале. Надо сказать, что биографии Буниной и ее произведениям посвящено много работ западных историков. Еще одна поэтесса – умершая в юном возрасте Елизавета Кульман – также привлекает внимание западных исследователей. В частности, совсем недавно ее биографию исследовала Диана Грин, отмечая, что критики воспринимали ее эрудицию как неуместную для молодой девушки.
С приходом в литературу женщин-писательниц современники – критики и ученые – стали приписывать их появление литературной и языковой программе карамзинистов. Говорилось, что в поисках модели для литературной жизни карамзинисты обратились к традициям французского салона и стремились установить в качестве русского литературного языка единый «средний» стиль, основывавшийся на разговорной речи высшего общества и дамских вкусах, дав таким образом «слабому полу» власть и престиж ранее неведомые (133, с. 66). И все же следует согласиться с наблюдением Джо Эндрю, что приглашение женщин в литературу прозвучало именно как предложение им роли носителей литературного языка, доброжелательных читательниц, но никак не создателей произведений. Таким образом, роль женщин в общем и целом оставалась традиционной: они давали совет, они были помощницами, Музами для великих людей (18, с. 53).
«Неопытная муза»: женщины и литература в дореформенной России
Литературной деятельности русских женщин посвящена обширная историография. В ней не только восполняются пробелы в истории русской литературы, реконструируются биографии малоизвестных и сегодня почти забытых романисток, поэтесс, переводчиц, определяется их место в литературной традиции, но и переосмысляется тот общеисторический контекст, в котором они творили, пересматривается общепринятая периодизация, уточняются границы частного и публичного. Многое было сделано в 1990-е годы, в том числе подготовлены издания справочного и учебного характера, а также публикации источников1919
См., в частности: Dictionary of Russian women writers / Ed. by Ledkovsky M., Rosenthal Ch., Zirin M. – Westport, 1994; Early modern Russian writers, late seventeenth and eighteenth centuries / Ed. by Levitt M. – Detroit, 1995; Kelly C. A history of Russian women’s writing, 1820–1992. – Oxford, 1994; The memoirs of princess Dashkova / Ed. and transl. by Kyril Fitzlyon. – Durham, 1995; Russia through women's eyes: Autobiographies from Tsarist Russia / Ed. by Clyman T.W., Vowles J. – New Haven, 1996; Russian women writers / Ed. by Tomei C. – 2 vols. – N.Y., 1999.
[Закрыть]. Тогда же вышло много работ, в которых освещаются биографии первых русских писательниц, таких как Анна Бунина, Зинаида Волконская, Каролина Павлова, Елена Ган и др., дается характеристика их произведений2020
Arutiunova B. Lives in letters: Princess Zinaida Volkonskaya and her correspondence. – Columbus, 1994; Greene D. Gender and genre in Karolina Pavlova’s «Double life» // Slavic review. – Wash., 1995. – Vol. 54, N 3. – P. 563–577; Literature, lives, and legality in Catherine’s Russia / Ed. by Cross A.G., Smith G.S. – Cotgrave, 1994; Women writers in Russian literature / Ed. by Clyman T.W., Greene D. – Westport, 1994; Rosslyn W. Anna Bunina, (1774–1829) and the origins of women’s poetry in Russia. – Lewiston, 1997; Hilgenboom H. Biographies of Elizaveta Kul’man and representations of female poetic genius // Models of self: Russian women’s autobiographical texts / Ed. by Liljestrom M. et al. – Helsinki, 2000. – P. 17–32; etc.
[Закрыть].
К феминизму 1970-х годов восходит вопрос о том, составляют ли тексты женщин-писательниц отдельную, особую традицию. Ответ на него кажется предопределенным: в России не существовало разделения между «мужской» и «женской» литературой, однако последняя, хотя пользовалась популярностью и имела широкую читательскую аудиторию, так и не стала тем, что сегодня называется «мейнстрим». Тем не менее исключение этих произведений из истории русской литературы, пишут А. Баркер и Дж. Гейт, дает неполную картину литературной жизни в императорской России (67, с. 2).
Литературная деятельность женщин второй половины XVIII в. изучена на Западе куда основательнее, чем у нас, и исследования этого периода продолжаются. Подробно реконструирована литературная жизнь времен екатерининского царствования, проанализированы не только произведения самой императрицы (см., в частности: 104), но и женщин, принадлежавших к державинскому кружку («парнасских сестер» Елизаветы Херасковой, Екатерины Урусовой, Александры Ржевской, Марьи Сушковой и др.). Так, немецкий исследователь Франк Гопферт подробно реконструировал биографию Е.В. Херасковой (1737–1809), проанализировал ряд ее произведений, описал «первый русский салон», который возник в доме ее мужа фактически сразу после свадьбы в 1760 г. и стал центром литературной жизни Москвы (56). Тогда же в журнале «Полезное увеселение» были опубликованы ее первые стихи. Хераскова принадлежала к числу тех лирических поэтов, которые заложили основы нового направления в русской поэзии, достигшего своего пика двумя десятилетиями позднее, во времена Карамзина, пишет Ф. Гопферт (56, с. 173–174).
Не меньшее внимание уделяют историки русской литературы и культуры изучению жизни и деятельности писательниц, творивших в первой половине XIX в. За последние десять лет было выпущено много интересных работ, фактически возвращающих нам имена писательниц, которые создавали широко читаемую литературу «второго эшелона» и завоевали в то время любовь читательской аудитории (19; 50; 60; 67; 75; 121; 138).
Алессандра Този в статье «Женщины и литература, женщины в литературе: Беллетристки начала XIX в.» (130) исследует малоизвестные тексты, написанные первым поколением русских романисток, определяя их место в контексте современной им литературы и в культуре в целом.
Согласно эстетике сентиментализма, пишет она, женщины являлись воплощением чувствительности, нравственности и умения сопереживать, не говоря уже о скромности, чистоте и тела и духа. И от женщин-писательниц патриархальное общество того времени ожидало не только отражения этих идеалов в художественных произведениях, но и соответствующего поведения (130, с. 39–40).
Автор демонстрирует, что ряд писательниц (М. Поспелова, Е. Пучкова, М. Извекова) вполне отвечали сентиментально-патриархальному идеалу женщины-музы, матери или жены. Вслед за многочисленными эпигонами Карамзина, первое место среди которых занимал князь П.И. Шаликов, они демонстрировали свою приверженность сентиментальным сюжетам и слащавым героиням (130, с. 40–42). Другие, как, например, Н. Головкина, старались достичь определенной степени оригинальности без открытого антагонизма с идеями, господствовавшими в обществе. И только в исключительных случаях женщины стремились разорвать порочный круг и выйти за пределы предписанных идеалов женственного дилетантизма. Таковы были княгиня Зинаида Волконская и поэтесса Анна Бунина, чьи произведения отличались новаторством в отношении жанра, сюжета и стиля. Они намного опережали свое время и стали первым примером независимой женщины-писательницы – типа, получившего распространение в последующие десятилетия (130, с. 56).
Образ женщины-писательницы и его восприятие современниками – тема статьи Джо Эндрю (18). Автор прослеживает эволюцию в отношении общества к писательнице со времен Карамзина, пригласившего женщин «в литературу», до 1840-х годов. Он отмечает, что уже в начале века начинают звучать протестующие голоса. Необходимы ли женщине литература и ученость? Не охладит ли это ее любовь к супругу? Не отвлечет ли от ведения хозяйства? А если муж менее образован, не нарушит ли жена закон во всем ему подчиняться? Это было частью общего консервативного отката 1810-х годов, пишет автор. Биография Анны Буниной служит в данном случае хорошей иллюстрацией. Ее первые шаги в литературе приветствовались, но затем наступила реакция на, как считает Джо Эндрю, «угрозу мужскому превосходству», с одной стороны, и на то, что она явно перешла границы предписанного ей природой женского жребия, – с другой. Бунина стала первым по-настоящему серьезным поэтом и первой женщиной, которая пыталась зарабатывать деньги и жить литературным трудом. Ее стихотворный сборник «Неопытная муза» (1809) был посвящен нелегкой судьбе женщины-писательницы, и тему эту она продолжила в поэме «Падение Фаэтона» (1811) (18, c. 56).
В статье отмечается, что литераторы-мужчины часто покровительствовали отдельным писательницам, хотя (как, например, Пушкин) могли отзываться о них в целом крайне уничижительно, как о «синих чулках». Они трактовали писательниц в первую очередь как женщин, а не коллег. А сами женщины тоже оставались в сомнениях: пристало ли им писать, а точнее, публиковаться? Хорошим тоном становится постоянное извинение за свое писательство (18, с. 57).
Однако уже в 1830-е годы намечается новая тенденция, выраженная в хвалебной статье Ивана Киреевского о писательницах, которые стали заметным явлением русской жизни. Правда, еще одним не менее заметным явлением стала опубликованная в 1837 г. в «Библиотеке для чтения» повесть Н.Н. Веревкина «Женщина-писательница», которую Джо Эндрю называет пасквилем. Многие исследователи ссылаются на нее, приводя уничижительные эпитеты автора, называющего писательницу уродом и ошибкой природы, несовместимой с женской физиологией.
Автор прослеживает эволюцию в отношении к этому предмету Белинского. «Неистовый Виссарион» сначала крайне критически отзывался о писательницах, объясняя, почему женщина не может быть великим поэтом, но затем смягчился и в 1845 г. в обширной рецензии на произведения Елены Ган говорит о ней как о хорошем настоящем писателе (18, с. 62–65). Сама Е. Ган много писала о тяжелой судьбе писательницы в России, о трагедии одаренных женщин, особенно в провинции, и была права в том, что, несмотря на прорыв, произошедший к 1840-м годам, «суд общества» часто оказывался нелицеприятным, пишет Дж. Эндрю (18, с. 69).
Показательной для современной историографии является работа Дианы Грин (59), в которой анализируется полемика в печати между Александрой Зражевской (1805–1867) и Прасковьей Бакуниной (1810–1880?) относительно места женщины-автора в русской литературе. В 1842 г. писательница, переводчица и литературный критик А.В. Зражевская опубликовала в петербургском ежемесячном журнале «Маяк», сотрудницей которого она состояла, два письма под общим заголовком «Зверинец». Первое было адресовано ее крестной матери, писательнице и мемуаристке Варваре Ивановне Бакуниной (1773–1840), и датировано 1836 г. В нем описывался писательский путь автора и те трудности, которые на нем возникали. Зражевская вспоминает, как крестная мать вдохновила ее на занятия литературным трудом, в то время как родители были категорически против этого. Старался отговорить ее от вступления на непосильный для женщины «трудный путь» литератора и В.А. Жуковский. Тем не менее Зражевская много училась, писала романы, опубликовала переводы произведений Бальзака, Дельфины Ге и других популярных в то время в России французских писателей (59, с. 3).
Второе письмо с подзаголовком «Краткий курс литературной зоологии» датировано 1841 г. и адресовано дочери В.И. Бакуниной Прасковье – поэту и другу. В нем развивается тема, которой заканчивается первое письмо: антагонизм критиков по отношению к произведениям женщин. Это сатира на «дикий мир русской литературы, населенный голодными зверями и насекомыми»; центральное место в письме занимает победоносная полемика с критиками-женоненавистниками. Зражевская протестует против того, чтобы из женщин делали пустоголовых манекенов, предназначенных исключительно для будуара и бала. Она предлагает посмотреть на крестьянок, которые трудятся наравне с мужчинами, и утверждает, что если бы женщины получили доступ к образованию и экономическую самостоятельность, среди них непременно появились бы «Ньютоны, Декарты и Паскали» (59, с. 3–4, 41–42).
По мнению Д. Грин, этот текст явился первым примером «феминистской» литературной критики в России, предвестником дебатов 1860-х годов, когда «женский вопрос» во весь рост встал на повестке дня. Характеризуя интеллектуальный климат 1830– 1840-х годов, автор отмечает, что, в отличие от века Просвещения и сентиментализма, наступившая эпоха романтизма и реализма с его маскулинными ценностями активно отвергала участие женщин в литературе. Более того, яркие и сильные женщины, выделявшиеся чем-либо на общем фоне, часто воспринимались в тот период как угроза патриархальной иерархии, что было обусловлено господствовавшими в Европе и России консервативными настроениями. И хотя романы мадам де Сталь, Жорж Санд и других французских и английских писательниц постепенно завоевывали популярность в русском обществе, многие критики относились к ним резко отрицательно. Помимо того что занятия литературой и вообще любым, необязательно интеллектуальным трудом считались «неженственными», распространяется мнение о неприличии для женщины таких занятий. Так, В.Г. Белинский в 1835 г. в своей рецензии на переводной роман французской беллетристки Б. Монборн писал о том, что «эмансипированная женщина» (а к этой категории он отнес и писательниц) – всем известный эвфемизм для обозначения женщины легкого поведения (59, с. 11).
Одним из важнейших факторов, способствовавших усилению негативного отношения к женщинам-писательницам, явилась профессионализация литературы. Этот процесс, начавшийся в Англии в конце XVIII в. и докатившийся до России в 1820–1830-е годы, вызвал глубокую трансформацию всей системы отношений в литературном мире. Его центр переместился из высшего общества и аристократических салонов в «плебейский» мир коммерции. С возникновением множества журналов и развитием книготорговли прежнюю систему, в которой центральное место занимали покровительство меценатов и «интимные кружки» в салонах, постепенно заменял рынок литературного труда (59, с. 8–9).
В условиях, когда труд писателя стал оплачиваться, доступ в литературу начинают охранять многочисленные «стражи»: цензоры, издатели, редакторы, критики, книготорговцы, от которых женщины, по определению не обладавшие всей полнотой прав, оказывались в сильной зависимости, пишет Д. Грин. В действие вступил экономический фактор – конкуренция, борьба за получение литературного заработка, который часто становится единственным источником существования. Следует заметить, что вклад женщин в нарождающуюся «массовую» литературу был довольно велик. В этой ситуации неудивительно, что мужчины не были склонны поощрять занятия женщин писательством, тем более что понятия «гений» и «женщина» считались несовместимыми (59, с. 10, 12).
Как отмечает Д. Грин, к 1830-м годам окончательно исчезает присущее галантному веку «милосердие критиков» по отношению к произведениям женщин. Особенно это касалось аристократок. Если, как писал Н.Н. Веревкин в своем рассказе «Женщина-писательница» (1837), он еще может понять «несчастную мать» в ее попытках литературным трудом прокормить семью, то писания дамы из высшего общества, которая стремится «блистать» и лишь «тешит свое самолюбие», он отвергает с порога (59, с. 10–11).
В неблагоприятном литературном климате XIX в. особенно не приветствовались занятия женщин критикой. Бытовало мнение, что требуемые для этого аналитические способности несовместимы с женской природой и являются исключительной прерогативой мужчин. В этом отношении, пишет автор, Зражевская представляет собой исключительный случай, учитывая тот факт, что она к тому же подписывалась своим именем, а не брала мужской псевдоним, как это было принято (59, с. 12–13).
Если рассматривать взгляды Зражевской как литературного критика с точки зрения феминизма XXI в., пишет Д. Грин, то ближе всего они к так называемому «культурному феминизму», который считает, что женщины не только отличаются от мужчин, но во многих отношениях лучше них. Зражевская выработала свои эстетические принципы, аналоги которых обнаруживаются в женской литературной критике в Европе первой половины XIX в. Как переводчица Бальзака, чьи популярность и влияние в России в те годы достигли своей высшей точки, Зражевская была хорошо осведомлена о выстроенной в его реалистических романах картине «мужецентричного» общества, которую мы так часто путаем с реальностью, замечает Д. Грин. Ее эстетическая система не приемлет изображаемого реалистами «уродства» и отдает предпочтение «красоте», которую женщины призваны вернуть в мир (59, с. 14–16).
Стихотворный ответ П.М. Бакуниной, вскоре опубликованный в славянофильском «Москвитянине», демонстрирует резкое неприятие не только высказанных Зражевской взглядов, но и предложенной ею публичности литературной дискуссии между двумя женщинами. По мнению Бакуниной, Бог не предназначил женщине быть гением. Наиболее отчетливо ее позиция отражена в следующих строках: «Записным поэтом / Не должно женщине и быть, / Лишь с посетительским билетом / Должна в печатный мир входить! / Гостям привет и снисхожденье…» Она отказывается бросать вызов литературному истеблишменту, предпочитая скромно оставаться в тени. Как пишет автор, «публичное самоуничижение» Бакуниной, возможно, принесло свои плоды: ее стихи и поэмы получали вполне доброжелательные отклики. Однако характерно, что наиболее оригинальные и интересные ее вещи так и не были опубликованы, а в начале 1860-х годов она окончательно порывает с литературой (59, с. 18).
Исследователи отмечают, что вторая треть XIX в. стала важным периодом в развитии в России женской литературы. Так, Дж. Гейт выделяет два поколения писательниц, которые пришли в литературу в 1830-е (Елена Ган, Марья Жукова, Евдокия Ростопчина и др.) и в 1850-е годы (сестры Хвощинские, Панаева, Соханская, Марко Вовчок, Евгения Тур и др.). Выясняется, что уже в 1830-е годы, в самый разгар романтического «культа маскулинности», в ней решительно ставится вопрос о месте женщины в обществе и культуре, что предвосхищало споры эпохи Великих реформ (51, с. 97).
Эпоха романтизма: торжество маскулинности
Николаевское царствование, которое историки вслед за Герценом давно заклеймили как один из самых «мрачных» и «безысходных» периодов в истории России, для историков культуры и гендера означает нечто совсем иное. Для них это эпоха романтизма и национализма, эпоха торжества «ценностей домашней жизни», наконец, вызревания новых интеллектуальных течений и последующих реформ. Как пишет Дж. Рэндолф, в царствование Николая I помимо полицейских мер и ужесточения цензуры была разработана и позитивная идеология, наиболее известным компонентом которой являлась теория официальной народности. Кроме того, в центр системы ценностей династии была поставлена семья: императорская фамилия предстает теперь в качестве «воплощения нации», а Николай I – «любящего отца империи». Дж. Рэндолф расценивает это как «попытку кооптировать ценности частной жизни в контекст идеологии империи». И наконец, был разработан план образовательных реформ, предполагавший «превращать чувствительных юношей… в лояльных и эффективных подданных», соответствующих «административному идеалу» (110, с. 141–142). Многое удалось провести в жизнь: в николаевских университетах было выращено поколение выдающихся чиновников и в результате создана бюрократия современного типа, которая впоследствии подготовила и провела в жизнь Великие реформы.
Как показывают недавние исследования, система семейных ценностей николаевской России оказывала большое влияние на государственную политику. В книге И. Паэрт непростые взаимоотношения государства и старообрядцев в 1815–1854 гг. (глава «Левиафан и его дети») исследуются с применением гендерного анализа. Автор показывает, что в своих попытках достичь социального и культурного единообразия николаевское самодержавие позиционировало себя в качестве «pater familias», выстраивая вертикальные связи между государством и подданными (105, с. 202).
Имперская политика по освоению окраин также имела гендерное измерение, что демонстрируется в статье Э. Шредер о сибирской ссылке 1822–1860 гг. (122). Стремясь внести больший порядок и «цивилизацию» в заселение Сибири, власти попытались исправить гендерный дисбаланс, сложившийся к этому времени в регионе, путем поощрения браков между отбывающими наказание ссыльными. Женщины, даже ссыльные, вполне способны быть хорошими женами, матерями и хозяйками и принести таким образом пользу обществу, считали николаевские чиновники (122, с. 255). Предполагалось, что они станут «инструментом стабилизации» и помогут цивилизовать «непокорных» мужчин. В результате заключения такого рода браков возникнет большое количество домохозяйств, которые займутся аграрным освоением территории и будут способствовать распространению в Сибири «русского образа жизни».
Характеризуя 1830–1840-е годы как эпоху романтизма и господства маскулинных ценностей, гендерные историки естественным образом обратились к изучению мужчин. Однако поскольку изучение маскулинности в западной русистике делает только свои первые шаги, прежде чем рассматривать конкретно-исторические работы, имеет смысл подробнее остановиться на тех подходах, которые используются исследователями и которые нашли свое отражение в содержательном сборнике «Русские маскулинности в истории и культуре» (118).
Нормативные суждения о природе взрослого мужчины и его поведении в обществе являются «фундаментальными, прочными и замечательно стабильными составляющими самосознания индивида», – пишет во введении Б. Клеменц. Гендерная идентичность, присущая представителю того или иного класса, расы, национальности, эпохи, сексуальной ориентации, религии, создает основы самоуважения. Одновременно представления о маскулинности играют важную роль в установлении и укреплении иерархических систем. Подчеркивая, что важнейшей составляющей европейской системы ценностей было превосходство мужского над женским, данное от природы, Б. Клеменц отмечает наличие разных идеалов мужественности для разных слоев общества. В то же время всегда существовали и универсальные представления, не зависящие от общественного положения, пишет американская исследовательница. Они включают в себя такие характеристики, как честность, физическая сила, защита слабых и уважение к старшим, забота о семье. Чем крупнее и сложнее общество, тем больше различий наблюдается в основных, универсальных представлениях о мужчине. Общие стандарты маскулинности всегда служили «связующим веществом» для общества, помогали противостоять врагам, силам природы и всем тем явлениям, которые угрожали «жизни группы» (35, с. 3–5).
В историографии были выделены основные модели маскулинности, сложившиеся за тысячелетия европейской истории: греческий гражданин-воин; благочестивый патриарх иудейско-христианской традиции; аристократический идеал рыцаря, в центре которого стояла модель «чести и покровительства»; и, наконец, протестант-буржуа с рационалистическим мировоззрением, добропорядочный отец семейства, честный и смелый предприниматель (35, с. 5–6).
Буржуазная модель мужественности получила свое наиболее полное развитие в Европе XIX в. Центральное место в ней стали занимать ценности либерального индивидуализма, а одним из важнейших критериев стала профессиональная деятельность мужчины, при этом наблюдались модификации в разных регионах. Следует заметить, что идеал маскулинности адресовался не только и не столько к женщинам и детям (хотя их одобрение было существенным доказательством мужественности), сколько к мужчинам. Однако формировался и поддерживался он во взаимодействии с идеалом женственности и был без него немыслим. Достоинства жены – преданность семье, подчинение мужу и умение вести дом – свидетельствовали о способностях ее мужа исполнять роль отца семейства и, соответственно, о его мужественности (35, с. 8).
Выделенные в историографии модели маскулинности нашли свое применение в рассматриваемом сборнике (35), который представляет собой попытку включить Россию в широкий контекст общеевропейской гендерной истории и одновременно выявить общее и особенное как в дефинициях мужского характера и поведения, так и в социальных практиках. Все статьи фиксируют западные заимствования, которые ложились в России на благоприятную почву. Сходными с европейскими были и процессы изменений в понятиях мужественности. Со времени Петра I структура мужественности, основанная на аристократической модели «патрон – клиент», стала уступать место идеалу самостоятельного мужчины, человека действия. К XIX в. образованный мужчина в России во многих отношениях желал вести себя так же, как его буржуазный сверстник в Германии или во Франции, и патриархальная власть в дворянской семье значительно смягчается. Самодисциплина, рационализм, активность – вот те черты, которые представители средних слоев общества (middling classes) хотели привить своим сыновьям. Позднее, на рубеже веков, когда сексуальное поведение стало предметом внимания публики, определенные его модели приобрели статус патологических. Зарождается разделение между гомо– и гетеросексуальностью с акцентом, как и в других европейских странах, на новом определении мужественности (см.: 10; 65). К началу Первой мировой войны в России уже обнаруживается большинство атрибутов явно «современных» типов маскулинности, либо основанных на европейском идеале буржуазной мужественности, либо отталкивающихся от него (118, с. 225).
Однако опыт России едва ли может служить простым подтверждением гендерной истории Европы, что во многом обусловлено сложной социальной структурой империи. Прежде всего, почти все авторы отмечают более активную политику правительства в области социальной инженерии, которая влияла на стереотипы маскулинности. Наблюдаются отличия и в тех моделях-образцах маскулинности, которые насаждались в России сверху. Гендерные историки считают, что «цивилизаторский проект» царского правительства по созданию лояльных подданных (мужчин, что не осознавалось – настолько было очевидным) делал больший акцент на службе «царю и отечеству», в отличие от Европы, где в центре внимания находились индивидуальная самодисциплина и финансовый успех (35, с. 11–12).
Кроме того, господствующее положение дворянства приводило к тому, что старые аристократические нормы мужественности, которые ставили во главу угла службу и ранг, долго сохраняли свое влияние. Еще одна черта, отличающая Россию, – это невероятно интенсивные эмоции в отношениях между друзьями, непонятные европейцу или американцу. Таким образом, социальные модели класса и статуса, роль государства и культура тесной мужской дружбы – ключевые моменты, которые отличали Россию от европейских версий маскулинности (118, с. 225).
Одно из первых исследований по этой проблематике – монография Ребекки Фридман, в которой анализируется конфликт между предписанными и реальными гендерными нормами на примере студенчества Московского, Казанского и Петербургского университетов – чисто мужских государственных институтов – в царствование Николая I. В центре внимания автора – те понятия о мужественности, которые вырабатывались студентами в годы учебы – важнейшее время становления человека и гражданина. В книге показано, что в университетах, где самодержавие сознательно пыталось внедрять официальные ценности, студентам удавалось, почти не нарушая предписанных им правил поведения, создавать свои «социальные пространства», в которых выковывались совершенно иные идеалы мужественности.
Немаловажным моментом является сопоставление с Европой, где XIX век ознаменовался рождением новой нормы маскулинности, продукта становления среднего класса, получившей в историографии название «респектабельная». «Порядочный буржуазный мужчина», пишет Р. Фридман, должен был быть скромным, опрятным, вежливым, умеющим владеть собой, особенно в сексуальном отношении. Его мужественность опиралась также на его статус в домашней сфере, как мужа и отца. Государство к этому времени уже не контролировало поведение своих граждан (45, с. 3).
Поведение русского мужчины, принадлежащего к элите, напротив, активно регулировалось государством, и часто насильственно, начиная с повеления Петра I брить бороды и надеть европейское платье. Однако вплоть до воцарения Николая I самодержавие явно не ставило своей целью полностью контролировать воспитание молодого поколения. Как пишет Р. Фридман, «вооруженный романтическим убеждением, что самодержавие – единственная естественная и законная форма правления для России, император направил свою энергию на формирование лояльных подданных». Николаевский университет стал инструментом правительственной политики по подготовке администраторов, причем личные качества будущих чиновников имели не меньшее значение, чем образование (45, с. 4–5).
В книге подробно описываются официальные требования и инструкции, создававшие модель маскулинного поведения, в которой ведущее место занимали аккуратность, законопослушание и благонравие. Основное внимание автор уделяет конфликтующим гендерным ценностям и нормам, а не идеологическим конфликтам, как это было принято ранее. Она показывает, что даже официальный идеал мужественности был крайне неоднозначен. С одной стороны, сам Николай с его внушительной внешностью и манерами служил эталоном «истинного мужчины» и настоящей мужской красоты. С другой стороны, в официальной и официозной прессе («Библиотека для чтения», «Северная пчела») выстраивались идеалы поведения простых и скромных «русских мужчин и женщин» (45, с. 7–8).
Официальные инструкции для университетов ставили во главу угла послушание и соблюдение приличий, а для студентов главными мужскими качествами являлись личное мужество, благородство, пылкость в дружбе и любви. Противоречия между этими ценностями нередко приводили к конфликтам. В книге рассматриваются те сферы студенческой жизни, в которых выковывалась мужественность: пирушки в трактирах, разнообразные увеселения; участие в студенческих «братствах» – корпоративных организациях, возникших под немецким влиянием; семья; дружба и любовь. В этих «множественных контекстах» молодые люди выступали в разных ролях – благонамеренного студента, благородного члена студенческой корпорации, веселого кутилы, романтического друга и преданного сына и брата (45, с. 12). Эти «множественные маскулинности», причем зачастую так и остававшиеся несогласованными, сосуществовали в одном человеке (45, с. 138–140).
В литературе уже отмечалось, что мужчины первой половины XIX в. исполняли разные, часто противоречащие друг другу роли чиновника, душевладельца, посетителя великосветского салона, главы семейства. Кроме того, в эту эпоху множественных влияний и систем ценностей (когда после 1812 г. утверждалась русская национальная идентичность и при этом активно заимствовались западные идеи) мировоззрение отдельного индивида могло включать в себя элементы романтизма, национализма, сентиментализма, мистицизма, классицизма, русского православия и религиозного обскурантизма. Каждый человек причудливо совмещал в себе несовместимое. Так, многие клеймили французскую культуру и при этом нанимали своим детям французских учителей и обставляли свой дом по-европейски. Кроме того, в эту эпоху жизнь мужчины не была целостной, считает Р. Фридман. Государственная служба и общество были чем-то внешним по отношению к домашнему очагу (а для многих и не имели смысла), и от индивида требовались разные модели поведения в профессиональной и личной жизни2121
Позже, когда государственная служба стала для многих чиновников местом, где реализовались их моральные идеалы, они, наконец, стали цельными личностями. Эти процессы описаны Б. Линкольном и Р. Уортманом на примере молодых чиновников 1840-х годов, которые затем реализовали себя в эпоху Великих реформ.
[Закрыть] (45, c. 139).