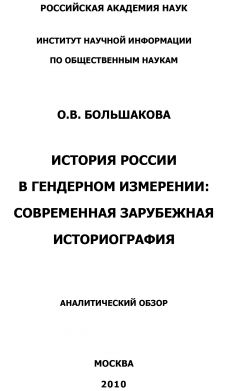«Освобождение женщины» при социализме
Тема освобождения женщины в СССР всегда привлекала внимание зарубежных специалистов, что легко объяснимо. Фактически одномоментно советским женщинам были дарованы те права, которых десятилетиями добивалось феминистское движение на Западе. Изучением того, как это произошло, что реально получили женщины и какие это имело последствия, занимались специалисты из самых разных областей, и историки в том числе. В результате в западной историографии сложился достаточно стройный и связный нарратив, который явно довлеет над специалистами. Сложился он в противостоянии с официальной советской историей «освобождения женщины», последовательно подчеркивавшей достижения и успехи в этой области. Соответственно, в центре внимания западных историков оказались реалии повседневной жизни, далекие от победоносных реляций власти. Исследователи начали выдвигать на передний план те негативные явления, которые всегда замалчивались официальной пропагандой: женскую безработицу, проституцию, бедность, тяготы советского быта, наконец, признаки угнетения женщины как на рабочем месте, так и в семье. Главный вопрос, на который пытались ответить историки советских женщин, заключался в том, почему же освобождение не состоялось.
Специалисты единодушно признают, что первые законы Советской власти, в особенности принятие Семейного кодекса в 1918 г. и институционализация на государственном уровне Женотдела ЦК партии, обозначили поворотный пункт в процессе освобождения российских женщин, уравнения их в правах с мужчинами и их формальной интеграции в общественную жизнь. Однако основное внимание зарубежные русисты всегда уделяли политическим практикам, стремясь обнаружить изменения во внутриполитическом курсе государства по отношению к женщинам.
Социальные историки тщательно изучили семейные кодексы и важнейшие законодательные меры в области семейного права, последовательно принимавшиеся большевиками в 1918, 1926, 1936 и 1944 гг., и выявили в них определенную эволюцию, которая сигнализировала о переменах в отношении режима к женщине и ее роли в обществе. Считается, что стратегии 1920-х годов, во многом вдохновлявшиеся феминизмом, действительно ставили во главу угла освобождение женщины, ее развитие. Однако дух экспериментаторства, характерный для того времени, уступил место консервативной политике 1930-х с ее глубоко традиционным пониманием гендерных ролей. Историки связывают этот сдвиг с бурным началом индустриализации и коллективизации, когда происходит резкое увеличение женской занятости, причем и в таких отраслях промышленности и сельского хозяйства, которые считались традиционно мужскими. Основными методами вовлечения женщин в производство были ценовая политика, общее снижение заработной платы (один работник уже не мог прокормить семью) и, конечно, пропаганда.
Фактически сталинизм продемонстрировал «чисто инструментальный подход» к женскому вопросу: когда государству понадобилась рабочая сила, оно не задумываясь начало привлекать к производительному труду женщин, постепенно урезая их льготы в трудовом законодательстве. Не отрицая тех возможностей для самореализации, образования и общего развития, которые в результате получили советские женщины, западные историки подчеркивают тот факт, что на них было возложено «двойное» бремя производственных и домашних обязанностей. Таким образом, в сталинскую эпоху «освобождение женщины» не состоялось, пишет Мела-ни Илич. Скорее, считает она, произошло расширение сфер эксплуатации женщины (140, с. 5–6).
Характеризуя совершавшийся в 1930-е годы «консервативный поворот», историки отмечают, что в официальном дискурсе параллельно с восхвалением женщин – героинь труда начинают подчеркивать их «естественные» домашние и материнские обязанности. Кроме того, была утрачена и институциональная база демократического феминизма – расформирован Женотдел, в 1936 г. усложняется процедура развода и вводится запрет на аборты. Все это, как считается, способствовало возрождению гендерной иерархии, основанной на патриархальности. В результате в зарубежной историографии был выдвинут тезис о снижении социального статуса женщин во второй половине 1930-х годов (140, с. 1–2).
Этой точки зрения и сейчас придерживаются многие историки, подчеркивая способность сталинского режима адаптировать традиционные гендерные нормы к радикально новым социальным условиям (20; 55; 123). Так, в работах о движении «общественниц», получившем большой резонанс во второй половине 1930-х годов, показывается, что его участницы способствовали возрождению патриархальных гендерных ролей (28). Они призывали женщин строить социализм, выступая в качестве помощниц своих мужей «на домашнем фронте».
Новая культурная история, оперирующая категориями гендера, предлагает свою интерпретацию «консервативного поворота» сталинского режима в отношении женщин и причин провала «эмансипаторских проектов» 1920-х годов. По мнению Х. Гощило, план большевиков был утопическим, поскольку основывался на дуалистическом видении мира, в котором главенствует мужчина, а женщина является его противоположностью и необходимым дополнением. Кроме того, «бумажные права» не работали в реальной жизни, где женщины считались гражданами второго сорта. Наконец, укоренившийся в дискурсе обычай ассоциировать женщин с Нацией и Идеалом и нежелание признавать их обыкновенными живыми людьми также мешали исполнению задуманной и широко разрекламированной программы (46, с. 7).
Еще одним важным фактором, препятствовавшим утверждению реального равенства полов в Советской России, был присущий Просвещению культ маскулинности, который ассоциировался с такими понятиями, как «прогресс», «технологии», «индустрия», «военная мощь», и являлся важнейшей составляющей идеологии большевизма. Квинтэссенцией маскулинности признается Сталин, воплощавший в себе образ «отца народов» и несгибаемого борца-революционера. В этих условиях женщинам, как считается, оставалось либо принимать на себя мужские роли в социуме, либо оставаться в частной сфере и выполнять традиционные ролевые функции матери и домашней хозяйки (46, с. 11–12).
Иное объяснение так называемого «великого отступления» 1930-х годов в области семейной политики и семейных ценностей предлагают работы, использующие концепции «новой политической истории». Как считает Дэвид Хоффманн, новая политика находилась в русле общеевропейских тенденций и представляла собой систему мероприятий, направленных на повышение рождаемости (68).
В современной историографии начинает подвергаться пересмотру и такая популярная среди социальных историков тема, как участие женщин в производстве. Хотя в ряде работ авторы по-прежнему подходят к ее изучению с позиций «эксплуатации и угнетения» (36; 37; 55; 79), наблюдаются и определенные изменения. Мэри Бакли в книге о «героях и героинях сталинских полей» (27) рассматривает гендерный аспект стахановского движения в деревне, обращаясь к опыту представителей обоих полов. Более того, предпринимаются попытки, как в статье Томаса Шранда, перевернуть эту проблему и посмотреть, как массовое участие женщин в производстве повлияло на положение мужчин. Однако автор приходит к совершенно традиционному и ожидаемому выводу: активное вовлечение женщин в производительный труд сопровождалось повышением статуса мужчин в советском обществе. Они утратили свою ответственность в качестве единственного кормильца семьи, сохранив при этом все традиционные «мужские» свободы и привилегии. Повышение статуса мужчин, пишет автор, было связано и с общей милитаризацией общества. Государство не скрывало своих целей – подготовить женщин к работе в промышленности, чтобы они в случае необходимости смогли заменить ушедших на фронт мужей (123, с. 194, 203–204).
Новая культурная история предлагает свои интерпретации соотношения гендерных ролей в сталинском обществе. Исследовавшая историю советской розничной торговли Эми Рэндалл констатирует феминизацию этого сектора экономики, которая привела к изменениям в официальном дискурсе. Широкое привлечение к производительному труду имело своим результатом «интеграцию женщин в советское общество в качестве продуктивных граждан», а их участие в розничной торговле «разрушило монополию на идеал маскулинизированного пролетария» (109, с. 86).
Возникает «культурная героиня советской торговли», и таким образом из символа отсталости женщина становится символом современности. Дискурсивный сдвиг в официальном понимании женского и домашнего изменил и идеал мужчины. В торговле для обоих полов приветствовалось поведение, которое обычно считается женским: аккуратность, вежливость, внимательность, что, как считает автор, вносило свой вклад в постепенную «феминизацию и одомашнивание советского социализма» (109, с. 87–88).
Как отмечают специалисты, во второй половине 1930-х годов было признано, что «женский вопрос» окончательно решен, и женщины в иконографии эпохи сталинизма стали символизировать советские достижения. Демонстрировался решительный разрыв с «темным» прошлым, что особенно заметно на примере изучения так называемых «репрезентаций» (140, с. 1). Так, в книге Ч. Чаттерджи прослеживается история празднования Международного женского дня 8 марта в дореволюционной России и Советском Союзе 1910–1939 гг. (32). Этот сюжет позволил автору рассмотреть такие важные проблемы, как нарративные стратегии советской пропаганды и изменения в конструировании публичной идентичности советской женщины. В работах Линн Атвуд анализируются официальные модели «новой советской женщины», которые нашли отражение на страницах популярных журналов «Работница» и «Крестьянка» 1930-х годов (20; 21), а Сьюзен Рейд обратилась к изучению этой модели в советском искусстве (112). Мелани Илич рассмотрела возникновение символического образа женщины-трактористки, который использовался для того, чтобы указать на экономический прогресс, с одной стороны, и подчеркнуть освобождение женщины и равенство полов – с другой. Воспоминания Паши Ангелиной позволили автору противопоставить «репрезентациям» реалии, которые были далеко не так радужны (72, с. 7).
Исследования репрезентаций, так же как и новых гендерных конфигураций 1930-х годов, продемонстрировали существенные противоречия сталинской гендерной политики (21; 26; 102; 103; 124). Большой прорыв в этом отношении сделан в уже упоминавшейся работе А. Крыловой, которая доказывает, что довоенная официальная культура и институты имели дело с разнообразными, двойственными и часто противоречащими друг другу понятиями о гендере. Анализируя дискуссии по таким опорным вопросам, как равенство женщин, отношения полов и буржуазные предрассудки, Крылова приходит к выводу, что общество остро осознавало гендерные различия и оперировало фактически категориями гендера. Употреблявшийся тогда термин «пол» понимался как культурно-биологический конструкт, и участники дискуссий часто не могли сказать, где кончается культура и начинается биология (92, с. 20–21). По мнению автора, в 1930-е годы отсутствовали как однозначная и последовательная официальная идеология, так и социальная политика в отношении «новой советской женщины». Фундаментальным фактом культуры и институций сталинизма Крылова признает то обстоятельство, что гражданам не предлагалось однозначных инструкций в отношении того, как следует себя вести, т.е. на самом деле не существовало единой модели идеального советского человека, что в результате предоставляло большой простор для вариаций (92, с. 25).
Наиболее ярко особенности политики советского государства выявляются в исследованиях, посвященных теме «освобождения женщины Востока» (78; 103). Дуглас Нортроп на основе российских и узбекских архивов реконструировал историю кампании 1927 г. за снятие паранджи и показал, что в своем стремлении привить достижения пролетарской революции в «отсталой и примитивной» Средней Азии Советская власть выдвигала на первый план семью и положение женщины. Автор рассматривает эту кампанию в контексте полувековой колонизации, которая проводилась царской Россией и имела своим результатом крайне подозрительное отношение мусульман, и крестьян в особенности, к «цивилизующим мерам» государства. В книге показано, как в Узбекистане развернулось сопротивление снятию паранджи, вылившееся в антисоветское движение, которое поддерживали узбеки обоего пола. Во многом благодаря усилиям большевиков паранджа стала «национальным» символом «традиции», которая, как замечает автор, на самом деле не была такой уж древней. Исследование продемонстрировало гибкость и подвижность культурных практик в Средней Азии, а также реальные пределы сталинской власти, даже в 1930-е годы. Паранджа постепенно ушла из быта только в 1960-е годы, однако под влиянием совсем иных условий, пишет Д. Норторп (103, с. 211).
Участие женщин в освоении другой окраины бывшей Российской империи – Дальнего Востока – исследуется в книге Елены Шульман, в которой также демонстрируются пределы власти Москвы на периферии (124). Она изучила историю движения хетагуровок – женщин, откликнувшихся на прозвучавший в 1937 г. призыв Валентины Хетагуровой приехать на Дальний Восток. Движение это, замечает автор, скоро превратилось в настоящую «переселенческую программу», поскольку для участия в нем в 1937–1939 гг. было отобрано примерно 25 тыс. человек. История хетагуровок трагически переплелась с историей репрессий и ГУЛАГа и иллюстрирует роль сталинизма в его «периферийном» варианте в структурировании гендерных идеалов (124, с. 1–2).
В центре внимания автора оказались представительницы советского общества, «восприимчивые к официальным призывам строить социализм и жертвовать собой во имя его идеалов». Это было поколение девушек 1910–1921 гг. рождения, которым Советская власть дала «все», в первую очередь, образование. Они идентифицировали себя с социализмом и, как пишет Е. Шульман, ощущали свою уникальность, считая, что все дороги перед ними открыты. Их порыв ехать на Дальний Восток связывался с ролью первопроходцев, ни в чем не уступающих мужчинам, так что выводы о снижении статуса женщин во второй половине 1930-х годов представляются автору как минимум преувеличенными (124, с. 12). Хетагуровки стали примером новой модели женственности, ассоциировавшейся с завоеваниями социализма и освоением периферии. Признавая, что в этот период произошли сдвиги в статусе и репрезентации женщин, автор тем не менее утверждает, что гендерные роли продолжали оставаться гибкими (124, с. 23).
Героини книги А. Крыловой принадлежат к тому же первому послереволюционному поколению советских девушек. Образованные, решительные, самостоятельные, они начали готовить себя к предстоящей войне еще в середине 1930-х годов (92, с. 10). Большинство из приблизительно 800 тыс. участниц Великой отечественной войны принадлежали к этому «поколению не от мира сего», как некоторые из них характеризовали себя. Они не видели перед собой никаких преград, над ними не довлели традиционные понятия об «исконном» предназначении женщины. 19-летняя студентка мехмата МГУ Женя Руднева (будущая летчица и Герой Советского Союза) собиралась стать ученым-астрономом и одновременно училась стрельбе из пулемета. В своем дневнике она писала, что готова пожертвовать своей мечтой и, если понадобится, идти «бить врага с оружием в руках». Через два года, когда началась война, она окончила штурманскую школу, воевала и погибла в 1944-м – сгорела в самолете, совершив 645 боевых вылетов (92, с. 35–36).
Наибольшее количество комсомолок (более 200 тыс. человек) ушли на фронт в 1942 г., в самое тяжелое время, когда было принято решение о призыве женщин на военную службу. Большинство участниц боевых действий, по словам Крыловой, были «мобилизованы государством, прошли военную подготовку и принадлежали к военной и технической элите советских вооруженных сил» (92, с. 10). Их «пригодность» к выполнению воинского долга не ставилась под сомнение.
Анализируя огромный массив мемуаров и художественной литературы, делопроизводственной документации и законодательных актов, А. Крылова приходит к заключению, что построение социальной и гендерной идентичности «женщины-бойца» основывалось на концепции гендера, в которой отсутствовали привычные для нас противопоставления. Материнская роль, в частности, в данном случае совсем не противоречила роли солдата. Процесс переосмысления и перестройки гендерных идентичностей, который начался до войны, разворачивался в конкретных боевых ситуациях и нашел свое наиболее полное воплощение в мемуарах женщин-ветеранов (92, с. 294).
Монография Крыловой, которая совершенно определенно представляет собой методологический прорыв в области изучения гендерной истории СССР, по-новому формулирует исследовательские задачи и дает иной ответ на старые вопросы об «освобождении женщины». Если говорить об исследованном ею первом послереволюционном поколении советских девушек, можно было бы заключить, что освобождение состоялось. Но исторический контекст внес свои коррективы. В этом отношении особый интерес представляет проведенное Крыловой исследование репрезентаций гендерной идентичности «женщины-бойца» в послевоенные годы, в том числе в художественной литературе. Этот период, почти не изученный в западной историографии, отмечен серьезными трансформациями в гендерном дискурсе и идеологии. Тогда же происходили важные изменения в положении женщины и в модели советской семьи, в частности сформировались те стратегии повседневного выживания, которые, по мнению Греты Букер, позволили людям выстоять в тяжелые 1990-е. Ее монография, посвященная изучению политики СССР в отношении женщин в период послевоенного восстановления экономики (25), является фактически первым подробным исследованием эпохи «позднего сталинизма» и заслуживает особого рассмотрения. В центре внимания исследования, написанного на основе традиционных для социальной истории источников (законодательных актов, делопроизводственной документации, материалов прессы и интервью, взятых у 15 жительниц Москвы в 1990-е годы), – взаимодействие государства и общества.
Как указывается в книге, после окончания Второй мировой войны модель экономической политики СССР, ее цели и средства их достижения не изменились: по-прежнему, как и во времена первых пятилеток, в центре внимания находилось повышение уровня производства главным образом в тяжелой промышленности, а мобилизация населения достаточно эффективно достигалась посредством массовой пропаганды. Однако проводить восстановление разрушенного во время войны народного хозяйства приходилось в условиях крайней скудости материальных и человеческих ресурсов. В Западной Европе последствия войны были не столь опустошительными, и хотя и там до 1947 г. действовала карточная система, но международные программы помощи, а впоследствии известный «план Маршалла» помогли достаточно быстро перевести экономику на мирные рельсы. Роковое решение СССР отказаться от внешней помощи означало, что все бремя выполнения поистине геркулесовой задачи восстановления экономики, в условиях огромных военных потерь, ложится в первую очередь на женщин, пишет Г. Букер (25, с. 5–6).
После окончания войны женщины в СССР составляли более 60% трудоспособного населения, и государство не было намерено сокращать долю их участия в народном хозяйстве, как это происходило, часто насильственно, в Западной Европе. Автор подчеркивает различия между западной и советской идеологией в вопросе о трудовой занятости женщин. На Западе считалось, что главным вкладом женщин в жизнедеятельность общества является выполнение домашних обязанностей, и предполагалось, что после окончания войны они с радостью вернутся домой, уступят свои рабочие места фронтовикам и предоставят мужьям содержать семью. Хотя нехватка рабочей силы, например в Великобритании, вынудила власти разрешить работать женщинам, у которых нет маленьких детей, этот факт замалчивался и не освещался в прессе (25, с. 63). Напротив, в СССР государственная идеология рассматривала женщину как равноправного участника процесса восстановления народного хозяйства, подчеркивала успехи и значение вклада женщин-тружениц и всячески побуждала их к активному участию в общенародном деле. Однако уникальность советской политики в отношении женщин, пишет автор, заключалась также и в том, что одновременно принимались важные законодательные меры к повышению рождаемости, по своему масштабу безусловно превосходящие все аналогичные программы, принимавшиеся на Западе (25, с. 77).
Политика поощрения рождаемости и укрепления семьи в условиях демографической катастрофы была ясно сформулирована в Семейном кодексе, принятом в июле 1944 г. Как и в Кодексе 1936 г., в нем сохранился запрет на аборты, усложнилась процедура развода. Кроме того, расширилась группа населения, получающего государственную помощь. В категорию «многодетных» теперь были включены семьи с тремя, а не с семью, как ранее, детьми. Новым и важным было выделение категории одиноких матерей, которым государство предполагало оказывать всяческую поддержку, начиная с материальной помощи и заканчивая помещением ребенка на неопределенный срок в детское учреждение, откуда мать могла забрать его, когда ей позволят это сделать обстоятельства. По новому закону мужчина нес материальную и юридическую ответственность только за детей, рожденных в официальном браке. Заботу о его внебрачных детях полностью брало на себя государство, поощряя его, таким образом, заводить детей «на стороне». С одной стороны, это позволяло сохранять экономическую стабильность семьи как «ячейки советского общества», с другой – оказывало серьезное влияние на внутрисемейные отношения и в конечном итоге на саму модель советской семьи, пишет автор (25, с. 14–15). Таким образом, государство продемонстрировало намерение перейти к более гибкой модели семьи, что было естественно в послевоенной демографической ситуации, когда количество женщин репродуктивного возраста намного превышало количество мужчин. В итоге стремление государства отдавать предпочтение полной семье отступало перед необходимостью повышения рождаемости (25, с. 43–44).
Тяжелые условия существования оказали серьезное воздействие на взаимоотношения между полами как в семье, так и на рабочем месте. В книге на основе интервью подробно описываются тяготы повседневной жизни женщин в послевоенной Москве, подчеркивается, что на них лежала вся ответственность за ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. С появлением водопровода, центрального отопления, газовых плит «мужские» хозяйственные обязанности в городской семье фактически исчезли. Роль мужчины в семье сводилась к зарабатыванию денег, однако он перестал быть единственным кормильцем. Такое разделение труда поддерживалось государством и принималось самими женщинами, которые считали его естественным (25, с. 18).
Советская пропаганда активно создавала и навязывала обществу образ женщины-работницы, преданного делу партии коммуниста и одновременно заботливой матери, рачительной хозяйки, дом у которой сверкает чистотой. Она не только ударно трудилась на рабочем месте, но также шила, готовила и проводила много времени со своими детьми, а в часы досуга читала классику, ходила в театр, занималась спортом. «Сознательная советская женщина», указывается в книге, явилась предшественницей американской «супермамы» 1970-х, однако на нее возлагалось гораздо больше социальных обязательств. В отличие от США, в СССР заботу о том, чтобы женщина могла «выполнять и перевыполнять» все эти ожидания, декларативно брало на себя государство. Таким образом, пишет Г. Букер, государство заключало с женщинами некое соглашение: оно предоставляет все возможности для самореализации, т.е. дает образование, работу, обеспечивает детскими учреждениями, медицинской помощью, создает трудосберегающие коммунальные службы (прачечные, предприятия общественного питания, кулинарии), а женщина в свою очередь много работает и одновременно растит детей, чем вносит весомый вклад в построение «светлого будущего» (25, с. 49).
Как показано в книге, государство не выполнило и не могло выполнить своих обещаний. Материальная помощь семьям с детьми была незначительной, детских садов и коммунальных служб по-прежнему не хватало. Совершенно понятно, что эти направления не могли быть приоритетными в период восстановления разрушенной экономики страны.
Автор исследует механизмы бюрократической волокиты и коллективной безответственности, которые позволяли забалтывать широковещательные обещания, даваемые государством. Однако если для бюрократии главной стратегией существования в условиях нереалистичных ожиданий государства была имитация деятельности, с женщинами дело обстояло сложнее (25, с. 82). Как пишет автор, сама организация советской повседневности ставила работу в центр жизни женщины: она не только приносила материальные средства для обеспечения семьи, но и способствовала социализации и формированию идентичности, давала определенную стабильность, уверенность и помогала выстоять в тяжелых условиях послевоенной жизни. И в данном случае интересы государства и женщины совпадали (25, с. 191).
Создаваемый государством идеальный образ «безупречной женщины», заключает Г. Букер, оказал несомненное воздействие на общество, однако не совсем так, как это предполагалось. Женщины взяли на вооружение только часть предлагавшегося им «идеологического пакета», отказавшись от его «героической» составляющей. Так и не освободившись от «домашнего рабства», они выработали свою стратегию повседневного выживания, которая не включала в себя ни ударный коммунистический труд, ни многодетность, что свидетельствовало об определенных пределах влияния государства и его идеологии (25, с. 193).
* * *
Отмеченные в исследовании Г. Букер особенности социально-политического и демографического облика послевоенного СССР оказывали глубокое воздействие на весь последующий ход развития страны и сохранились до сегодняшнего дня. Это не только нежелание руководства страны замечать конфликт между реальностью и идеологией, тенденция принимать программы без выделения средств для их выполнения, но и доминирование женщин в частной сфере, и маргинализация роли отца в семье и института отцовства в обществе (25, с. 194–195).
Зарубежная историография только начинает изучать гендерную историю хрущёвской оттепели и периода брежневского застоя. Пока не появилось серьезных монографических исследований, и, насколько можно судить по статьям, опубликованным в сборниках и журналах за последние десять лет, не сформулированы значимые вопросы и интересные гипотезы. В этих публикациях рассматриваются роль женщин в экономике страны в целом и семьи в частности (24; 74; 86), а также история повседневности с новым акцентом на значении частной жизни (139).
Характеризуя период 1956–1964 гг. как время «ограниченных» реформ, историки отмечают возобновление дебатов по «женскому вопросу». Как и в 1930-е годы, оно совпало с потребностью народного хозяйства в притоке рабочих рук. На повестку дня в общественных дискуссиях встал вопрос о «равенстве и различиях» двух полов, о необходимости облегчить домашний труд женщины, чтобы дать ей возможность развиваться (48). Однако несмотря на широкую рекламу достижений социализма, деятельности Комитета советских женщин и других организаций, реальное положение женщины изменилось не слишком сильно. Это, по мнению М. Илич, соответствовало и общему характеру хрущёвских реформ, ограниченных по своему замыслу, исполнению и результатам (74, с. 22).
Оттепель принесла с собой повышенный интерес к частной жизни и внутреннему миру простого человека. Как отмечается в сборнике «Гендер и национальная идентичность в культуре России ХХ в.», центральное место в культуре эпохи оттепели начинает занимать ребенок. В то же время возникает новое понимание маскулинности и, как полагают авторы, наблюдаются первые признаки так называемой «феминизации мужчин», что видно на примере таких литературных произведений и их киноверсий, как «Судьба человека» или «Иваново детство» (46, с. 17).
Тема феминизации мужчин в период развитого социализма и общего кризиса советской маскулинности достаточно популярна в зарубежной литературе, посвященной гендерной проблематике. Авторы отмечают, что к началу эпохи застоя прежде нерушимые границы между полами были уже достаточно расшатаны, и когда национальная идентичность в России испытала сокрушительный удар после распада СССР, не менее ее пострадала и идентичность гендерная. Особо отмечаются кризис маскулинности и отказ от позднесоветских гендерных стереотипов, когда идеалом настоящего мужчины был Владимир Высоцкий, а эталоном женщины – Алла Пугачева. Показателем степени разрушения стереотипов считают новую версию известного плаката «Родина-мать зовет!», где фигурирует пачка стирального порошка «Тайд» с соответствующим рекламным слоганом (46, с. 23).
В постсоветское время общим местом в западном дискурсе о России становится тема «деградации мужчин», которая, по словам Ребекки Кей, часто служит метафорой для изображения общего вырождения страны в виде опустившегося алкоголика (80, с. 1). Понимая, что интерес к этой теме (как и соответствующие интерпретации) вызван в первую очередь внутренними проблемами западных стран, где мужчин считают «неспособными справляться с быстрыми изменениями», Р. Кей занялась полевыми исследованиями. Анализ собранного материала, включавшего в себя многочисленные интервью с жителями Калужской области и Алтайского края, привел ее к более утешительным выводам, которые не соответствуют привычным стереотипам «апатии, пораженчества и безразличия» (80, с. 208).
Р. Кей фиксирует «сильное чувство моральной ответственности, готовность выполнять мужскую обязанность защиты и служения». Удивил ее тот факт, что работа не является той областью, которая больше всего воодушевляет и занимает российских мужчин. Гораздо более важным для них оказывается сфера частной жизни. Исследование показало, что мужчины также страдают от жестких гендерных стереотипов, но в первую очередь в частной сфере, в то время как женщины испытывают неприятности в сфере публичной. Подчеркивая, что советские гендерные стереотипы и представления о гендерных ролях фактически остались неизменными, автор полагает, что только смягчение традиционных социальных норм (одновременно с признанием равенства двух полов) даст возможность свободному развитию и женщин и мужчин (80, с. 210–211).