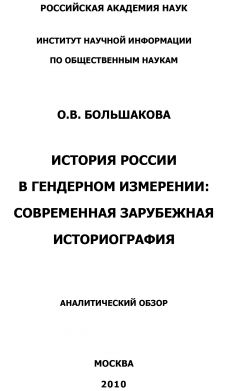Утверждение идеологии «разделенных сфер»
Значение екатерининского царствования для развития в России частной сферы в современном ее понимании подчеркивается западными русистами, занимающимися культурной историей. При этом они, как правило, опираются на современные достижения историографии Западной Европы, которая давно уже проявляет интерес к семейной жизни, считая ее не только фактором поддержания политической стабильности, но и важнейшей составляющей в процессе формирования идентичности и системы ценностей среднего класса. Еще одним важным моментом в системе аргументации историков-культурологов является то, что семейная жизнь русского дворянства никогда не была частной в полном понимании этого слова. И дело не только в ее открытости для «общественного мненья», но и в образе жизни, характерном для гостеприимного дворянства. В доме, где кроме членов обычно многодетной семьи жили многочисленные бедные родственники, воспитанники и приживалы, не переводились гости. Для их развлечения ставились спектакли, устраивались живые картины, игры, фейерверки, прогулки и пикники. Высшим выражением просвещенного гостеприимства стал салон, который в России хотя и не достиг такого влияния и почти официального статуса, как это было во Франции, однако же сыграл большую роль в развитии интеллектуальной жизни, а в конечном итоге – публичной сферы (42, с. 37).
В монографии американского историка Джона Рэндолфа (110) исследуется история одного из дворянских «гнезд» – усадьбы Премухино, принадлежавшей с 1780-х годов семейству Бакуниных. В первой части подробно, на основе архивных материалов, рассказывается об истории семьи Бакуниных и об особом, в чем-то экспериментальном по своему характеру образе жизни в Премухино.
На первый план автор выдвигает идею о том, что семья и частная жизнь играют не меньшую роль в функционировании общественного организма, чем так называемая «публичная сфера». В монографии корректируются бытующие в историографии представления о том, что после принятия Манифеста о вольности дворянской в 1762 г. многие дворяне «демонстративно» удалились в деревню и тем самым отказались от участия в общественной жизни. Автор увязывает это массовое явление с намерениями власти, а именно с «цивилизаторским проектом» Екатерины II, задавшейся целью создать в провинции силами местных помещиков «общество». Причем немаловажное место в программе правительства занимали ценности, ассоциирующиеся с семьей, что позволяет автору говорить о совершенно определенной политике по отношению к частной жизни (110, с. 38). Это подтверждается и явной социальной направленностью, просматривавшейся в организации Смольного института: воспитывать просвещенных дочерей, жен и матерей, которые затем понесут цивилизацию в провинцию. Екатерининские преобразования, по словам автора, придали дворянству статус «свободных граждан, живущих частной жизнью в деревне». Они, как пишет Дж. Рэндолф, создавали новые социальные нормы для дворянства в частной сфере и учили его, как пользоваться своей недавно обретенной свободой в интересах государства (110, с. 32–34).
И хотя в публичной сфере местное дворянство обнаруживало пассивность и даже апатию, в частной жизни, которая составляла не менее важный компонент дворянской вольности, наблюдалась резкая активизация. Во второй половине XVIII в. в Тверской губернии возникает множество помещичьих домов, выстроенных в духе классицизма, в окружении «регулярных» садов и романтических парков с каскадами прудов, гротами и руинами. Тот факт, что помещичьи усадьбы копировали столичные дворцы, свидетельствует не столько об отчуждении многих представителей дворянства от общества, сколько об их стремлении продемонстрировать свою принадлежность к элите и соответствие самым высоким стандартам, пишет автор. При этом широко известный «роскошный и театрализованный образ жизни» в русских усадьбах того времени он трактует как «приватизацию» тех практик, которые ранее были приняты исключительно при дворе (110, с. 38–39).
Как и в Европе, где во второй половине XVIII в. происходил процесс выделения частной и публичной сфер, новые дворянские усадьбы, в изобилии появившиеся в России, становились «инструментами», при помощи которых их благородные обитатели декларировали свое отличие от окружающих. Это явилось важным моментом в становлении дворянской идентичности (110, с. 39).
Автор уделяет особое внимание методам, или «культурным практикам», посредством которых русское дворянство утверждалось в своем высоком положении, и демонстрирует это на примере семьи Бакуниных. Он, в частности, анализирует сохранившуюся в семейном архиве пьесу «Пролог», написанную младшей дочерью, 14-летней Прасковьей для домашнего представления к Новому 1790 году, и квалифицирует эту постановку как «первые попытки семьи стать примером для подражания» – линия, которой придерживались Бакунины на протяжении всех последующих лет. По мнению автора, большую роль в формировании особой преданности дому и домашней жизни в деревне, которую выказывал А.М. Бакунин, сыграл его друг, известный архитектор, изобретатель, ученый, поэт и литератор Н.А. Львов (1751–1803). Именно Львов выработал для себя и своей семьи тот образец «необыкновенной» семейной жизни, полной веселых празднеств и просвещенных утех, который должен был вызывать восхищение окружающих (110, с. 60). В книге подчеркивается, что в представлениях Львова и кружка, к которому он принадлежал (среди его членов были Г.Р. Державин, В.В. Капнист, В.Г. Боровиковский), домашняя жизнь в соответствии с идеалами Просвещения вполне вписывалась в современный им политический и социальный контекст. С одной стороны, в этот период происходила выработка системы ценностей и поведенческих норм русского дворянства, с другой – под влиянием Французской революции во всей Европе критически пересматривались основные идеи Просвещения.
В книге подчеркивается, что в жизни семьи Бакуниных, столь богатой культурными событиями, женщины занимали центральное место. Это было характерно для русских дворянских гнезд – О. Глаголева описывает «женское царство» в семействе Буниных, а для более позднего времени – усадьбу Плещеевых Чернь, которая в 1830-е годы поражала окружающих полнотой жизни. Шарады, танцы, спектакли и игры были бесконечны в этом шумном многонаселенном доме (53, с. 38; 59). Семья Бакуниных прославилась далеко за пределами Тверской губернии, где находилось их поместье. Задумавший в 1790-е годы «семейную идиллию» А.М. Бакунин реализовал ее гораздо позднее – в 1820-е годы, однако сумел воплотить в ней черты, характерные для эпохи сентиментализма. В центре его идиллии стоял отец, который строил гармонические отношения в семье, основанные на началах разума, любви и взаимной терпимости. В воспитании и образовании детей принимали участие и отец и мать, которая была на 20 лет моложе своего супруга и также являлась объектом его воспитательных усилий. «Женское царство» в семье Бакуниных, состоявшее из жены, четырех дочерей и их тетушек, жило своей жизнью и не подвергалось «прямому угнетению» со стороны главы семьи.
Представленный в книге Дж. Рэндолфа материал во многом согласуется с выводами Катрионы Келли, которая считает, что в 1760–1820-х годах не произошло существенных изменений в структуре патриархальной семьи, а скорее имел место сдвиг в понимании ее сущности. Возникает новый тип семейного уклада, в соответствии с которым муж и жена живут «раздельными, но равноправными» жизнями, он по-прежнему базируется на предполагаемом подчинении женщины мужчине, но такие традиционно «женские» обязанности, как воспитание ребенка, приобретают бульшую значимость (1, с. 95).
Особое внимание К. Келли уделяет роли Екатерины II в распространении «цивилизованных» норм поведения. Императрица использовала инструменты, уже введенные в употребление Петром I, – законодательные нормы, регулирующие поведение граждан, улучшение архитектурного облика столицы и губернских городов, дворцовые церемонии. Но важнейшей отличительной чертой цивилизаторского проекта Екатерины II, пишет Келли, являлось внедрение механизмов саморегуляции: воспитание ответственности, гражданственности и патриотизма в подданных. Надо отметить, что в число граждан императрица включала и женщин, о чем свидетельствуют, в частности, меры по развитию женского образования, в том числе разработка обширных программ для учебных заведений, включавших наравне с традиционными «женскими» предметами математику, историю, географию и др. Немалую роль в «приобщении к цивилизации взрослых» сыграла поддержка, которую оказывала императрица театру и литературе, сама сочиняя пьесы, книги, основывая журналы. Особое внимание уделяла Екатерина II переводу и распространению назидательных книг о морали, воспитании, этикете (83, c. 8–10).
Катриона Келли изучила огромный массив дидактической литературы и книг по этикету, циркулировавших в России во второй половине XVIII – первой трети XIX в. и завоевавших большую читательскую аудиторию. Анализ этого материала позволил автору выявить изменения в представлениях о супружестве и материнстве, происходившие в этот период в России под влиянием европейских идей. В книгах подчеркивалось различие между двумя полами и указывалось, что женщина должна играть в «учтивом» обществе цивилизующую роль, облагораживая «варварских» мужчин и всячески способствуя смягчению нравов (83, с. 22). Моральное превосходство женщин лежало в основе новой концепции о материнском воспитании, возлагавшей на них обязанность заботиться об образовании и нравственности дочерей.
Однако новая роль женщины-матери, дававшая ей немалые властные полномочия в семье, сразу же подверглась испытаниям на прочность. Констатируя проникновение в Россию понятия о разделенных сферах в конце XVIII в., Келли отмечает такую интересную особенность интеллектуального заимствования, как «сжатие хронологии». Характерные для раннего Просвещения идеи Фенелона и Ламбер о том, что женщина должна полагаться на собственные силы и в браке быть достаточно самостоятельной, независимой эмоционально от мужа, пришли в Россию с большим запозданием, в 1760-е годы, почти одновременно с другими западными текстами, написанными уже следующим поколением авторов, которые превозносили совершенно иной тип брака, основанного не на рассудке, а на эмоциях. В соответствии с новым идеалом женщина обязана была выполнять долг по отношению к своему супругу, а не по отношению к детям, и угождать ему во всем. Под влиянием нравоучительных романов мадам де Жанлис распространяется мнение о ненужности образования в браке и о вредности ума и таланта для женщины, обреченной на жизнь «монотонную и зависимую» (1, с. 80). Характерно, что в 1763 г. Екатерина II «наложила эмбарго» на роман Руссо «Эмиль», в котором развивается концепция «новой женственности» (часто интерпретируемой как антифеминистская, женоненавистническая) и идеалом брака признается концепция «чистого листа», когда интеллектуально и морально развитый муж «образовывает» свою юную и невежественную жену, «поднимая» ее до себя. Только в 1813 г. роман «Эмиль» был издан в России в полном переводе (83, с. 31).
Соперничество между альтернативными западными моделями семейной жизни обострилось после смерти Екатерины II, когда в России начинает утверждаться идеология разделенных сфер. Сначала Павел I своим законом 1797 г. о престолонаследии не только исключил возможность женского царствования, но и установил новый регламент поведения для своей супруги: главной ее сферой должен был стать дом, а не двор и государство (3, с. 260). Затем и Александр I, а в особенности Николай I, заботясь о том, чтобы авторитет женщины не выходил за определенные рамки, при каждом удобном случае подчеркивали статус императрицы как жены, полностью зависимой от мужа. В императорской фамилии утверждается новый идеал семьи, достигший своего наивысшего расцвета при Николае I. В центре этой модели стояли отец-патриарх и женщина-мать, которая сама воспитывает своих детей. На смену образу «матери народов», который процветал в правление Екатерины II (и Елизаветы Петровны), пришел образ материнства исключительно подчиненного характера, находящегося в тени мужественности и «милитаристской власти» царя (83, с. 16–17, 28–29).
Рассматривая эволюцию идей о женском образовании со времени царствования Екатерины II, К. Келли отмечает, что в начале XIX в. идеология разделенных сфер наложила строгие ограничения: «Мужчины делают законы, а женщины – нравы». Соответственно сузился круг изучаемых в Смольном предметов, там стали готовить добродетельных хозяек, «ангелов дома» (83, с. 62).
Что касается воспитания мальчиков, то оно было семейным до 7 лет, после чего, как считалось, им должны были заниматься учебные заведения. Келли отмечает обилие книг по этикету, адресованных мужчинам, в которых подчеркивалась их социальная роль. К началу XIX в. в этой сфере также наблюдается столкновение ценностей эпохи Просвещения, ставящей во главу угла рационализм, контроль над страстями, и сентиментализма с его культом чувствительности (83, с. 42). Характерно, что уже в 1820-е годы среди русских аристократов, давно усвоивших европейские нормы поведения и не отличимых от лондонских денди или парижских пти-мэтров, возникает традиция высмеивания книг по этикету. Тогда же начинается борьба с «гнетом» женщин в качестве арбитров вкуса. В наступившую эпоху романтизма женщина теряет свою власть в семье и моральный авторитет в обществе.
Понимая, что взаимоотношения предписанных и реальных норм поведения более чем сложны и ни в коем случае не прямолинейны, Келли трактует исследуемые тексты в первую очередь с точки зрения их вклада в формирование идеологии и приходит к выводу, что идеалы все же оказывали несомненное влияние на жизнь людей. Она заключает, что в результате многочисленных взаимовлияний и пересечений произошла «довольно-таки бессистемная эволюция семейных отношений». Так, во взглядах Пушкина, а позднее Л. Толстого просматривается сосуществование представлений о подчиненном положении жены и о ее самостоятельности («Я требую, чтобы ты была свободной») (83, с. 81).
Характерно, что, несмотря на «воинствующий» характер проникавшей в 1790-е годы в Россию идеологии разделенных сфер, имущественные права женщин устояли, отмечает К. Келли (83, с. 83). С этой точки зрения рассматривает гендерные нормы дореформенной России М. Маррезе, указывая, что в мемуарах XIX в. «и мысли нет» о том, что дворянки, которые хозяйничают в своих имениях и заботятся о своих финансовых интересах, нарушают нормы женского поведения и что открытое проявление женских деловых качеств как-то унижает мужчин. И помещиков и помещиц одинаково хвалят за заботу о благосостоянии семьи, за солидное наследство, переданное детям. И тех женщин, которые плохо управляли своими имениями или вовсе не занимались ими, не извиняла принадлежность к «слабому полу» (3, с. 250).
Границы допустимого поведения для благородных дам в деле управления имениями были весьма гибкими, и вплоть до середины XIX в. от них даже ожидали определенной хозяйственной сметки. Однако уже в конце XVIII в. появляются первые признаки изменений в представлениях о том, что подобает настоящей женщине. Как всегда, пишет М. Маррезе, они шли сверху вниз и далеко не сразу достигли «маленькой семейной вселенной» и укоренились в обществе. Источником этих изменений явились, как обычно, западные влияния, и в результате разделение на частное и общественное (публичное) поставило на повестку дня «возвращение женщины к домашнему очагу». На рубеже веков идея о том, что матери должны сами воспитывать своих детей, находит все больше приверженцев среди высшего общества, однако провинцию новые веяния окончательно завоевали только в пореформенную эпоху. Призывы многочисленной дидактической литературы, как правило, пропадали втуне, что подтверждается сопоставлением их с мемуарами. Дворянки все-таки мало занимались своими детьми, и управление поместьем безусловно считалось делом гораздо более важным для поддержания достоинства семьи (3, с. 261). Несмотря на постепенное распространение элементов концепции разделенных сфер (это был крайне неравномерный процесс), долгое время не считалось недостойным для дворянки переложить заботу о детях на нянек, гувернанток и незамужних родственниц. И только с исчезновением в 1861 г. бесплатного труда дворовых им пришлось взять дело в свои руки (3, с. 262).
Русские гендерные традиции долгое время обнаруживали устойчивость перед лицом европейских представлений о том, что подобает женщине, а что нет. И хотя русским дворянкам также внушались скромность, целомудрие, покорность мужьям, а мужчинам полагалось смотреть на своих жен как на хрупкие существа, идеал слабой и зависимой супруги очень сильно расходился с законодательной системой, возлагавшей на женщин ответственность за их собственность. Противоречил он и повседневному опыту дворянок, которые руководили своими поместьями и умело решали правовые и имущественные вопросы при минимальной помощи со стороны родственников-мужчин. Таким образом, правовой статус дворянок ослаблял влияние идеологии разделенных сфер в России: в вопросах собственности западноевропейские идеалы женственности не вытеснили традиционные гендерные соотношения, а сосуществовали с ними (3, с. 265).
Идеал женственности и «феминизация» русской литературы
Особую роль в формировании гендерной идентичности во второй половине XVIII – начале XIX в. в России играл идеал женственности, который наиболее ярко воплотился в художественной литературе того времени. И хотя идеал нельзя воспринимать как отражение действительности и следует отличать его от реального опыта, учитывая при этом, кто его создавал, с какой целью и для каких социальных слоев и групп, тем не менее он оказывал огромное влияние на поведение индивида (119, с. 17). Исследователи отмечают живой интерес к сходствам и различиям мужской и женской индивидуальности, возникший в эпоху Просвещения и с тех пор не иссякавший в русском обществе. В этот период на смену классицизму приходит интеллектуальное течение сентиментализма, с его вниманием к частной жизни, «естественному» человеку и его чувствам. Исследователи отмечают, что рука об руку с оформлением новой дворянской идентичности в изменившихся социальных условиях идет перестройка идентичности гендерной, в первую очередь мужской. Возникший в Петровскую эпоху идеал героической мужественности сменяется новым, не героическим и не ориентированным на государство идеалом «чувствительного человека» (66, с. 55). Женщина, которая выполняет «цивилизующую» функцию, выступает «зеркалом» мужской идентичности. Она – тот «Другой», отталкиваясь от характерных черт которого мужчина может «выстроить» свою личность и осознать себя. Большой вклад в изучение этих проблем в западной науке вносят литературоведы и историки литературы, принадлежащие к направлению «нового историзма», которое уделяет немалое внимание социальному контексту (см.: 2).
В 1990-е годы Джудит Ваулз выдвинула тезис о «феминизации» русской литературы конца XVIII в., которая, будучи ориентирована на женскую читательскую аудиторию, культивировала «легкие жанры», отказалась от «высокого стиля» и выбрала главной своей темой любовь, «очищенную» от материального и плотского. И хотя женщины рассматривались тогда исключительно как законодательницы мод и арбитры вкуса, а вовсе не как потенциальные литераторы, феномен феминизации литературы способствовал тому, что женщины приобрели престиж и авторитет и сами начали писать (137, с. 15).
В статье Маркуса Левитта анализируется первая в русской литературе поэма, написанная женщиной, – «Полион, или Просветившийся нелюдим» – княгиней Е.С. Урусовой, опубликованная в 1774 г. без подписи автора. Тем не менее, указывается в статье, авторство не являлось секретом, и поэтесса была достаточно хорошо известна в литературных кругах (Державин очень тепло отзывался о ней как о «славной стихотворице») (94, с. 586).
В центре внимания исследования – скрытый диалог Е.С. Урусовой с «возможно, самой известной в эпоху Просвещения атакой на роль женщины в обществе – “Письмом к д’Аламберу о театре” Ж.-Ж. Руссо (1758)» (94, с. 588). Это произведение вызвало шквал споров среди современников, ознаменовав глубокий раскол в движении французского Просвещения и разрыв Руссо с энциклопедистами. В «Письме» Руссо, особенно резко критикуя пьесу Мольера «Мизантроп», обрушивался на современный ему театр и все его недостатки приписывал зависимости от общества, в котором господствуют женщины. Вольтер, напротив, считал, что основные достоинства французских пьес проистекают из того, что во Франции царит «прекрасный пол», благодаря чему в обществе процветают «галантность и веселость». По мнению современных западных исследователей, модель общества, основанная на «соединении двух полов, где центральную роль играли женщины» (female-centered mixed-gendered sociability), в конечном итоге феминизировала не только французскую культуру, но и всю цивилизацию XVIII в. (94, с. 590–591).
Отмечая, что поэма княгини Урусовой позволяет сделать некоторые заключения о вовлеченности русского общества в европейские дебаты о месте гендера в культуре Просвещения, автор указывает, что содержащуюся в ней критику не следует рассматривать как «феминистский» ответ «антифеминизму» Руссо, что было бы анахронизмом. В XVIII в. еще не существовало конфликта двух противоборствующих моделей общества (муже– и женоцентричной), и водораздел между взглядами Руссо и Вольтера пролегал в несколько иной области. В своей поэме Урусова присоединяется к вольтеровскому пониманию всех преимуществ дружественного «сообщества мужчин и женщин». Демонстрируя, как любовь Наиды спасает мизантропа Полиона и выводит его из добровольного заточения в глуши, она подчеркивает, что мужчины нуждаются в женщинах, их дружбе и любви, чтобы стать «поистине просвещенными» (94, с. 592).
Весь строй аргументации в пользу дружбы и общения в поэме подразумевает активное участие женщин в жизни общества и в литературной деятельности. М. Левитт пишет об оптимистической и, возможно, наивной вере Урусовой в Просвещение, которая, однако, являлась отражением общего оптимизма русской литературы относительно его универсальной силы. На русской литературной традиции основывалась и критика в поэме «Полион» мизантропии Руссо во имя вольтеровского равноправия полов в «Республике литературы» (Respublica literaria – интеллектуальные сообщества, возникавшие в Европе в конце XVII – начале XVIII в., обычно переводится как «литературный мир»). Такие писатели, как Сумароков, Херасков и Богданович, не только приветствовали занятия женщин писательством, но и нередко выступали в качестве их наставников и покровителей (94, с. 600).
Как указывается в статье, человеческое общение трактуется в поэме в рамках необходимого и взаимодополняемого равенства полов, а «бремя женоненавистничества» приписывается исключительно мизантропам, которые выглядят в данном случае врагами Просвещения. В то же время «Полиону» присущи абстрактное морализирование, непрописанность персонажей, в том числе и главных героев. Представленный в поэме буколический образ «счастливой общительности» включает в себя широкий спектр развлечений – игры, танцы и песни среди цветов и лугов, беседы и пиры, охоту, празднества, – но в нем нет ничего, имеющего отношение к практической жизни и деятельности. Все это демонстрирует, с одной стороны, ограниченные возможности жанра пасторально-дидактической поэзии, с другой – недостаточно развитое состояние реального общества, к которому она апеллирует (94, с. 601).
В статье М. Левитта упоминается важная проблема возникновения нового дискурса о полах, который утвердился в Европе в середине XVIII в. главным образом благодаря Руссо и оказал влияние на последующие эпохи. Именно тогда зародилось понятие о «новой» женственности, якобы «естественной», данной самой природой, что вполне отвечало универсалистским тенденциям дискурса эпохи Просвещения в целом (14, с. 61–63). Руссоистское представление о «женской природе» было созвучно и традиционным, в том числе религиозным воззрениям на женщину и ее роль в обществе, оно наложило отпечаток на всю русскую классическую литературу XIX в. Как отмечает Верена Эрих-Хефели, эта модель была впитана нами с молоком матери, и именно против нее борется феминистское движение с самого своего зарождения. Немецкая исследовательница наглядно доказывает в своей работе (14), что в основе идеальных женских качеств лежат такие психические структуры (ставшие сегодня для нас проблематичными), как кротость, несамостоятельность, послушание. Она показывает, что Руссо закладывает в образ Софи те черты, которые спустя 150 лет Фрейд будет обнаруживать в психике своих пациенток, квалифицируя их как специфические особенности женского: пассивность, женский мазохизм, дефицит сверх-Я, «темный континент» женской сексуальности (14, с. 64).
В России распространение идей Руссо шло, как мы видим, неравномерно, и в конце XVIII – начале XIX в. там сосуществовали две гендерные концепции, что отмечают К. Хейдер и А. Розенхольм. Первая, эгалитарная, базировалась на риторике Просвещения и позднее была воспринята реалистами середины XIX в. Вторая, иерархическая, подчеркивала различия между полами и коренилась в системе понятий сентиментализма и романтизма, а затем, на рубеже XIX–ХХ вв., преобразилась в образ «Вечной женственности». Маскулинность в системе понятий Нового времени ассоциировалась с миром культуры и цивилизации, человека и всего, что сделано его руками, а фемининность – с природой. Соответствующими были свойства женского: природа создает жизнь, питает и защищает и одновременно может убить; она опасна, дика и неконтролируема. Отсюда и двойственность в оценках женщины, которая может нести и добро и зло (66, с. 67). Кроме того, мужчина обычно ассоциировался с миром науки и письма, женщина – с устной речью и «болтовней» (94, с. 599).
Женские качества, предпочитавшиеся сентиментализмом – эмоциональность, нежность и непосредственность, – были присвоены сентиментальным героем нового направления в литературе. Фемининность становится существенной частью идентичности автора-мужчины. С мужской точки зрения женщина – величайшая ценность, потому что она похожа на него, разделяет его литературные вкусы и способна выслушать и оценить его поэтические опыты. С ее способностями к восприятию она дарует каждому приятное чувство целостности. Возникают новые отношения между мужчинами и женщинами, которые сентименталисты называли «любовной дружбой». Женщинам с их гармоническим сочетанием гибкого ума, эмоциональной отзывчивости и физической привлекательности (грации) предлагалась роль читательницы, причем идеальной (66, с. 54, 57, 59).
При всей своей противоречивости феминизация литературы в конечном счете была «мужским предприятием». Как бы ни интересовались мужчины эпохи сентиментализма своими «милыми» и «нежными» подругами и женами, они в той же мере интересовались своей собственной мужской целостностью, так что и в XVIII в., как затем в середине XIX в., «женский вопрос» был по сути своей вопросом «мужским», пишут К. Хейдер и А. Розенхольм (66, c. 56).
Входившее в число важных интеллектуальных задач сентиментализма формирование идеальной читательницы стало возможным благодаря распространению грамотности среди женщин дворянского сословия. С середины XVIII в. до середины XIX в., отмечают исследователи, просвещение и литература оказывали все более сильное влияние на понятия и интересы молодых барышень, на их повседневную жизнь (53, c. 72).
Г. Хаммарберг рассматривает активизацию участия женщин в литературной жизни России на рубеже веков (61; 62). Она анализирует содержание первых женских журналов («Модное ежемесячное издание» Н.И. Новикова, «Московский Меркурий», «Московский зритель», «Аглая», «Журнал для милых») и демонстрирует, как происходило конструирование воображаемой читательницы, как эти журналы помогали создать реальную женскую читательскую аудиторию и как это поощряло занятия женщин литературой.
В центре культурных дебатов в России 1790–1800-х годов, пишет автор, стояла проблема литературного языка, которая оформилась в противостояние сторонников Карамзина и Шишкова. Многие сторонники Карамзина вполне отвечали определению «писатель для дам», к светским дамам адресовался и сам Карамзин в издаваемых им журналах, где процветал язык легкой беседы, без ученого педантства. В начале XIX в. чтение входит в моду, получают все более широкое распространение дамские альбомы. Автор считает первые дамские журналы фактически печатной версией альбома, предназначенного исключительно для развлечения. Исходя из тезиса о том, что и издатель и читатель представляют собой «культурные конструкты», Г. Хаммарберг, однако же, указывает, что, создавая воображаемую читательницу и ориентируясь на нее, женские журналы способствовали созданию читательниц реальных (61, c. 83–84).
Исследовательница рисует портрет этой воображаемой читательницы, приводит примеры текстов, которые она любила, описывает мужчин, которые создали ее (а также показывает, какими они желали себя видеть в ее глазах). Так, на 82 страницах первого номера «Модного ежемесячного издания» Новикова опубликованы 10 коротких текстов, которые дама может читать, пока ее причесывает парикмахер. В нем нет длинных торжественных од, исторических повествований, научных статей и критики, что свидетельствует об отсутствии интереса к «мужским» темам. Идиллии, эклоги, ироиды и песни описывают невинную любовь, супружескую любовь, любовь-дружбу и выражают смутную тоску по золотому веку. Господство идиллических и элегических тонов и малых жанров возвещает о наступлении эпохи сентиментализма.
Сконструированная читательница Новикова отдавала предпочтение мелодраматическим сюжетам о любви, с тайными побегами, заключением в монастырь, переодеванием, таинственными совпадениями. Дидактическое содержание должно было предостеречь ее от эротических искушений, учило ее сохранять невинность, выбирать мужа и быть матерью. Ей предлагаются мифологические или экзотические обстоятельства (модный тогда «Восток», индейцы, испанские авантюристы, шотландские девы), и все это согласуется с известным изречением Карамзина «и крестьянки любить умеют». Поскольку воображаемая читательница скромная, невинная, религиозная, чувствительная и робкая, большинство «страстных» женщин в текстах либо героини мифологии, либо иностранки. Красной нитью через все сюжеты проходит идея о том, что слабые женщины нуждаются в мужском руководстве.