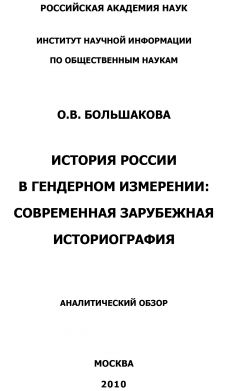Студентам, сталкивавшимся с разнонаправленными ожиданиями Министерства просвещения, университетской администрации, товарищей, родителей и возлюбленных, приходилось (неосознанно) как-то согласовывать их между собой. Каждый раз они выбирали ту модель маскулинного поведения, которая была уместна в данных обстоятельствах. Как отмечает автор, в мире русского студента «ожидания и вторжения государства были лишь одним из факторов, который следовало учитывать, – иногда принимать, иногда отвергать» (45, с. 11). Дружеские попойки не мешали студентам быть преданными царю и отечеству. Однако в этом нет ничего удивительного, поскольку идентичность в целом, а гендерная в особенности, всегда включает в себя фильтрование множественных систем ценностей. Таким образом, становление мужчины представляло собой акт по сбалансированию и компенсации многочисленных обязательств, которые накладывались официальной, социальной и домашней жизнью.
Р. Фридман приходит к заключению, что в идеологии официального российского варианта «респектабельной маскулинности» звучали отголоски буржуазного идеала, однако механизмы для его культивации были исключительно самодержавными. В отличие от буржуазных граждан, которые контролируют себя сами, русские студенты должны были стать лояльными подданными, контролируемыми извне (45, c. 137). Однако, как показал предпринятый автором микроисторический анализ, чиновники далеко не безупречно выполняли свои обязанности в этом отношении, так что официальные предписания и повседневная практика часто расходились между собой. Инспектора не всегда могли сдерживать студентов, а иногда и поощряли их буйное поведение. Да и сам министр просвещения Уваров порой смотрел сквозь пальцы на те проступки студентов, которые соответствовали неофициальным представлениям о мужественности, и поощрял корпоративные ритуалы. Университетская система наказаний с ее правилами дать второй и третий шанс оступившемуся также при ближайшем рассмотрении оказывается достаточно гибкой. Студенты, в свою очередь, даже в годы «мрачного семилетия» жили насыщенной многогранной жизнью, и самодержавие никак не могло тут добиться своих целей сполна. Все это, считает Р. Фридман, ставит под сомнение известный постулат о растущей поляризации между «вездесущим репрессивным государством» и обществом (45, с. 142).
Русский радикализм и «женский вопрос»: 1840–1860-е годы
Немецкий идеализм, предложенный министром просвещения С.С. Уваровым в качестве краеугольного камня для образования молодого поколения, заключал в себе возможность совершенно иной интерпретации. Как отмечается в книге Дж. Рэндолфа, уже упоминавшейся выше, знаменитые русские радикалы Герцен, Огарев, Станкевич и члены его кружка воплотили в жизнь собственный вариант прочтения немецкой философии. Важнейшее место в ней занимали темы любви и отношений с женщиной, которые считались неотъемлемой частью трудного процесса становления автономной личности. Именно идеалисты 1840-х годов впервые поднимают пресловутый «женский вопрос», пытаются критически переосмыслить систему патриархальной власти, основанную на «угнетении женщины», и по-новому решить проблему отношения полов. Родоначальники русского философского идеализма явились в данном случае предтечей «нигилистов», во многом предопределив темы горячих общественных дискуссий 1860-х годов по «женскому вопросу».
Дж. Рэндолф в своем исследовании русского философского идеализма обращается к женским персонажам, сыгравшим ключевую роль в нравственном становлении Михаила Бакунина и его друзей. На основе переписки сестер Бакуниных он проследил процесс взросления этих «провинциальных барышень», значительно отличавшихся от своих современниц. Хотя в соответствии с патриархальными понятиями того времени от женщин ожидали выполнения морального долга перед семьей, сестры Бакунины, пишет автор, не спешили становиться женами и хранительницами очага. В начале 1830-х годов они были увлечены вопросами духовного развития и самосовершенствования. Подвергая себя неустанному самоанализу, девушки стремились к моральной независимости и боролись за то, чтобы самим стать творцами своей жизни, которая, однако, ни в чем не должна была противоречить христианской добродетели. Все это, по словам автора, создало в усадьбе Бакуниных Премухино интеллектуальное пространство, где можно было всерьез практиковать идеалистическую философию (110, с. 150).
Духовные поиски сестер Бакуниных привлекли к ним интерес студентов-идеалистов, с которыми они познакомились в Москве, и в 1835 г. среди членов кружка Н.В. Станкевича распространились слухи о населенном «божественными созданиями» благословенном Премухино. И когда Станкевич получил приглашение в этот «храм счастья», он принял его с восторгом, надеясь на развитие романтических отношений с Л. Бакуниной, которая действительно впоследствии стала его невестой (110, с. 172–173).
Необыкновенную погруженность в любовь молодого Станкевича историки обычно объясняли тем фактом, что в «суровой действительности» николаевской России даровитый юноша не мог найти соответствующего приложения своим силам. Дж. Рэндолф корректирует эти представления, так же как и тенденцию подчеркивать оппозиционность идеалистов 1840-х годов. Как отмечается в книге, сам Станкевич в трактате «Моя метафизика» писал о том, что любовь – это не поиски идеала, а метод самообразования и способ выработки зрелого мировоззрения. Характерно, что в начале романа с Л. Бакуниной он начал вести дневник, поскольку его чувства «могут оказаться поучительны для других» (110, с. 192). Кроме того, ни переписка Станкевича, ни сами факты его жизни не свидетельствуют о его какой-то особой антипатии к системе ценностей николаевского царствования. Напротив, многие идеалы, вокруг которых он стремился выстраивать свою личную моральную систему, были официально одобряемы, в том числе вера в то, что вдохновлять мужчину должны семейная жизнь и женская добродетель. Отраженные в переписке Станкевича перипетии его романтических отношений с Л. Бакуниной рассматриваются в книге как «роман воспитания». Для Станкевича «особенная» семья Бакуниных олицетворяла идеалы женственности, которые легли в основу его работы по формированию своего мировоззрения и «построению себя» как зрелой, самостоятельной личности, способной в будущем к активной социальной деятельности (110, с. 180–181).
Не менее важным для судеб русского идеализма, отмечает Дж. Рэндолф, оказалось то, что на почве интереса к немецкой философии у Станкевича завязывается дружба с Михаилом Бакуниным, только что вышедшим из Артиллерийского училища. Как известно, пример Станкевича вдохновил многих самых талантливых его товарищей по университету к занятиям немецким идеализмом (Белинский, Боткин, Грановский, Тургенев), но самым большим энтузиастом стал Михаил. Он проповедовал немецкую философию всем, включая дам, и в особенности своим сестрам (философствование вообще было неотъемлемой чертой семейного быта в Премухино).
Центральное место в книге занимает коллизия, связанная с неудачным браком Варвары Бакуниной. В знаменитом «освобождении Вареньки» – заговоре, составленном Михаилом при активном участии его друзей с целью отправить сестру за границу, – он выступил в роли Спасителя и «проповедника правды» в духе Фихте. Таким образом аргументы и споры об идеализме были привнесены им в семейную жизнь Бакуниных, которая оказалась в центре внимания всех его товарищей летом 1836 г. На основе учения Фихте, а в особенности Гегеля с его концепцией личности, которая переживает мучительный опыт на пути к своей зрелости, была выстроена модель «освобождения Варвары». Существенное место в ней занимают этические вопросы, связанные с неравенством женщины в обществе. При этом выстраивается схема, в которой не учитывается различие полов; она, по мысли М. Бакунина, должна быть одинакова и для мужчин и для женщин. Однако в письмах самой Варвары звучат ее сомнения в том, подходит ли эта схема для женщины.
Критика «премухинской идиллии» впервые в полный голос прозвучала со стороны Белинского, посетившего «Аркадию» осенью 1836 г. Тем не менее все, что он увидел и почувствовал в Премухино, стало неотъемлемой частью его собственной «истории развития». Визит, на который все друзья Белинского возлагали большие надежды, в итоге обернулся полной катастрофой. Белинский отчаянно пытался приспособиться к легендарной жизни Бакуниных, однако его «неотесанность» приводила все к новым и новым провалам. Через два года в связи со смертью от чахотки Любови Бакуниной впечатления от неудачного визита в Премухино стали темой обширной переписки Белинского с Михаилом Бакуниным. Отталкиваясь от полученного опыта, он разрабатывает свою концепцию «реальной действительности». Критикуя и высмеивая привычку обитателей Премухино философствовать по поводу вопросов частной жизни, Белинский впервые выводит в своих письмах отрицательный образ «идеальной девушки». Он начинает создавать портрет «больной русской женственности» – тема, которой критик посвятил много внимания в последующие годы.
Хронологически продолжает исследование Дж. Рэндолфа статья Виктории Фриде (43), в которой подробно анализируется история конфликта первой жены Николая Огарева Марии с его друзьями, в основе которого лежали глубокие идеологические причины. Эта коллизия заставила Герцена и Белинского пересмотреть свои взгляды на права женщины и в конечном итоге – на право индивида «жить полной жизнью» (43, с. 162).
Мария Львовна Огарева, в девичестве Рославлева (1810-е– 1853), была настоящим «аутсайдером», пишет В. Фриде. Она хотела любить и быть любимой, а вместо этого стала одной из самых порицаемых женщин в истории России, известной главным образом тем, что сделала несчастным Огарева. Она нарушила нормы поведения не только аристократического круга, к которому принадлежала, но и друзей ее мужа – западников. Впрочем, замечает автор, и те и другие ставили во главу угла идеалы самоограничения и самопожертвования. Ее романтические наклонности совершенно не соответствовали требованиям приличий, а увлечение французскими романами, в особенности Жорж Санд и Бальзаком, не встретило поддержки у друзей Огарева, за которого она вышла замуж в 1836 г. Тем не менее именно в соответствии с идеями Жорж Санд молодожены начали строить свою жизнь. Особую роль здесь сыграл роман «Жак», главный герой которого кончает жизнь самоубийством, чтобы дать своей жене возможность найти счастье с другим, более достойным ее человеком, которого она к тому же любит. Было договорено, что жена не будет «глиной» в руках своего мужа, а ее желания для него – священны (43, с. 164–165).
Эта концепция сильно отличалась от взглядов на любовь и отношения между полами, которые были приняты в среде западников и занимали важное место в системе их взглядов. Автор отмечает их «моральное и сексуальное пуританство», которое резко контрастировало с нравами пушкинской эпохи. Западники считали, что отношения между мужчиной и женщиной должны основываться на единстве духа, а не физическом влечении. Мужчина, пошедший на поводу у влечения, считался «падшим». Исключительно серьезно трактовали они и бытовавшую тогда в дворянской среде норму, согласно которой женщина служит нравственным эталоном. Они возводили женщину на пьедестал, называя «ангелом-хранителем», «путеводной лучезарной звездой» для мужчины на всех этапах его жизни, которая не дает его душе очерстветь и остынуть. При этом к ней предъявлялись серьезные требования не только морального плана: она должна была хорошо говорить и писать по-русски и на основных европейских языках, разделять идеи своего мужа, читать и понимать сочинения его любимых авторов, но ни в коем случае не писать сама (43, с. 166). Главное, женщина должна была выполнять функцию помощника в тяжелой мужской работе саморазвития, в создании идеальной личности.
Таким образом, идеальная женщина западников была совсем непохожа на героиню Жорж Санд, занятую своими собственными чувствами и стремлением к независимости. Скорее ему соответствовала тогда жена Герцена, которую тот называл «своим творением», а она, в свою очередь, с увлечением принимала на себя эту роль (43, с. 168). Огарева же предполагала, что благодаря замужеству вступает в круг людей, где сможет жить наполненной эмоциональной жизнью. Она совершенно не собиралась изменять себя в угоду кому-либо и позволить друзьям мужа «играть с ней в Пигмалиона», пишет автор (43, с. 171).
Поведение Огаревой, не желавшей стеснять себя в своих увлечениях, пусть сначала и невинных, вызвало бурю негодования у друзей ее мужа, недовольных тем, что он не может «переделать ее натуру». Они считали неконтролируемое поведение индивида в принципе «опасным». Поворот в их умах начал совершаться в 1840 г., когда Белинский, основываясь на опыте несчастной любви Огарева, первым признал право женщины на независимое чувство и обратился к прежде резко им отвергаемым идеям Жорж Санд. Следует заметить, что западные исследователи часто подчеркивают важную роль личного опыта в возникновении интереса к женскому вопросу (см., в частности: 9, с. 65).
Герцен также вскоре начал пересматривать свои взгляды на задачи морального совершенствования индивида, проявляя бульшую терпимость к внутренним качествам личности и эмоциям. Вскоре многие западники заинтересовались романами Жорж Санд и ее идеями, способствуя их распространению в России. Во второй половине 1840-х годов Белинский с энтузиазмом выступал в защиту ее эмансипированных героинь, что было немыслимо несколькими годами ранее. Характерно, что принадлежавшие к их кружку женщины начали копировать «богемное» поведение Огаревой (и даже занялись литературным трудом).
Прослеживая ту внутреннюю борьбу, которая сопровождала переворот в отношении Герцена и всего кружка западников к женщине и ее роли в семье и обществе, автор отмечает двойственный характер их взглядов на женскую эмансипацию. Тем не менее высказанные ими идеи о свободе женщины в браке и о необходимости «строжайшего пересмотра» общественных оснований, как это сформулировал Белинский в своих откликах на романы Жорж Санд, заложили фундамент для возникновения в 1860-е годы «женского вопроса», вызвавшего острые общественные дискуссии (43, с. 187).
Эта проблематика была основательно изучена на Западе еще в советское время силами социальных историков-феминистов, исследовавших возникновение и развитие «женского сопротивления», включавшего в себя как участие в революционном движении, борьбу за равные права, так и разные виды публичной деятельности женщин. Традицию продолжила монография немецкой исследовательницы Бьянки Пиетров-Эннкер, переведенная на русский язык (4; 108). В ней исчерпывающе освещены литературные дискуссии начала 1860-х годов, перемены в самосознании и появление «новой женщины», возникновение высшего женского образования, вступление женщины в мир квалифицированных профессий, участие их в политической жизни. Однако в последнее время эта тема явно не вызывает большого интереса у западных историков, и ни одну из опубликованных недавно монографий (88; 131 и др.) нельзя назвать «прорывом».
Определенный интерес представляет работа А. Розенхольм, в которой с культурологических позиций реконструируется «проект» по созданию «новой женщины», отразившийся в текстах М.Н. Вернадской (1831–1860), жены экономиста И.В. Вернадского, опубликованных в основном в его журнале «Экономический указатель». В центре ее интересов находились вопросы политической экономии, которые она излагала по-женски живо, на грани между наукой и беллетристикой. Это был особый род журналистики, вызванный к жизни новой эпохой. Многие статьи посвящены женскому вопросу, в частности воспитанию детей. Труды Вернадской, которая сама по себе являлась воплощением типа «эмансипированной» и «образованной» женщины, адресовались молодым дворянкам и могут со всеми основаниями быть интерпретированы как работа по созданию «новой женщины» – того идеала, который через несколько лет после смерти Вернадской был воплощен в героине известного романа Чернышевского (115, с. 74–75).
Автор показывает, что главным содержанием «эгалитарного проекта» 1860-х годов являлось утверждение новых ценностей среднего класса, в основе которых лежала идеология Просвещения с ее акцентом на рационализме и первенстве науки. Подчеркивая, что по своей сути эта идеология представляла собой исключительно маскулинную, «фаллоцентричную» картину мира, финская исследовательница выстраивает «семейную» модель конфликта поколений в России 1860–1870-х годов. Его главные участники – дворянская дочь и разночинец, с которым она связывает свою судьбу. Ее отец и мать занимают в конфликте периферийное, но значимое положение. Юная дворянка, стремясь во всем соответствовать буржуазному идеалу жены и матери, которая является соратницей и помощницей мужа, воспитательницей своих детей и в конечном счете – моральным руководителем и «капитаном» семейного корабля, во всем «перестраивает» себя. Она, как пишет автор, использует «язык своего тела» для демонстрации разрыва с аристократическими идеалами пустоголовой светской барышни: короткая стрижка, «простая» и «скромная» одежда, подчеркнутая асексуальность, – все это должно демонстрировать победу разума, рассудка, рациональности, порядка над эмоциями и желаниями, олицетворяющими «хаос» природы (115, с. 86–88).
И все же, находясь в плену концепции Лотмана и Успенского о дуальных моделях русской культуры, автор не может выйти за рамки представлений, выработанных в 1970-х годах, достаточно жестких и лишенных историзма. В результате она неизбежно попадает в заколдованный круг выводов об «амбивалентности» идеала новой женщины, которая служит для мужчины «знаком», «символом» и в конечном итоге – «материалом» для построения его новой идентичности. Между тем эволюционный подход социальных историков позволяет увидеть те изменения, которые происходили в идеале фемининности и в конечном счете – в положении женщины в России, не замыкаясь в круговороте вневременных культурологических моделей.
Б. Энгель в своей обобщающей книге «Женщины в России» (42) более четко формулирует проблему выдвинутого эпохой реформ «вызова элитарному гендерному порядку». Подчинение женщины семье и мужчине, пишет она, стало предметом острой критики, и прогрессивное общественное мнение призывало женщин принять участие в возрождении общества. В результате впервые женщины получили доступ к высшему образованию, для них открылись возможности заниматься профессиональной деятельностью, в первую очередь в качестве учителей и медицинских работников, и таким образом тысячи образованных женщин обрели экономическую независимость и бульшую свободу в распоряжении своей жизнью. Сотни из них присоединились к радикальным движениям, стремившимся к переустройству социального и политического строя страны (42, с. 111).
К началу 1890-х годов, как отмечает Б. Энгель, созрела почва для выхода «женского вопроса» на новый уровень. Она связывает этот момент с публикацией дневника Марии Башкирцевой, который оказал колоссальное влияние на формирование женской идентичности целого поколения и подготовил переворот fin de siиcle (42, с. 117).
Однако, при всей огромности произошедших изменений, какие-то важные и глубинные вещи оставались неизменными, пишет Б. Энгель. Прежде всего, в своей борьбе против патриархальных ограничений женщины выдвигали на первый план альтруизм и самопожертвование – точно так же, как в свое время жены декабристов. Идеалы чистоты и святости, выполнения христианского долга были перенесены ими на служение «народу». Например, учительницы отказались от женской сексуальной роли во имя педагогической миссии, однако считали, что таким образом они все же исполняют свои религиозные и семейные роли, только не в рамках семьи, а в обществе. Так что идеалы, лежавшие в основе деятельности большинства «нигилисток», удивительно напоминали идеалы их вполне законопослушных сестер.
Исключительно важным, по мнению Б. Энгель, являлось то обстоятельство, что самоотречение и альтруизм, которые обеспечили женщинам выход на общественную арену из узкого семейного круга, заложили совершенно определенный стандарт поведения. И последующие поколения именно такого поведения стали ожидать от женщины в общественной жизни, да и сами женщины стремились его достичь и даже превзойти (42, с. 84–85).