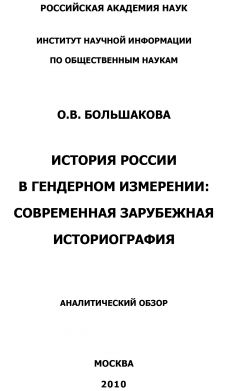Религиозность и духовная жизнь женщины
Тема женского самоотречения и «служения» особенно ярко звучит в исследованиях, посвященных месту и роли религии в жизни русской женщины. Наличие специфически «женской» духовности осознавалось уже в XIX в., когда бытовало мнение, что женщины от природы более религиозны. Это позволяло говорить о женской религиозности как особом феномене, который в зависимости от позиции автора мог характеризоваться позитивно или, напротив, уничижительно как пример отсталости и суеверия. Привнесенная в исторический анализ категория гендера значительно обогатила наше понимание религиозной проблематики и освободила эту проблему от ценностных суждений. Западная историография, отказавшись от прежнего увлечения исследованиями регуляторной и ограничительной функций православной церкви, демонстрирует значение религии как основы идентичности, самовыражения, духовной самореализации и даже власти (авторитета) женщины в императорской России2222
Подробнее об этом см.: Большакова О.В. Религия и церковь в жизни русской женщины, (Х – начало ХХ в.) // История России в зарубежной науке: Сборник обзоров и рефератов. – М.: ИНИОН РАН, 2010. – Ч. 2. – С. 90–107.
[Закрыть].
В разделе, посвященном периоду традиционного общества, были рассмотрены гендерные исследования допетровской Руси, в которых отмечаются наличие особой «женской» святости и духовности в Московии, а также предпочтение, отдаваемое женщинами культу Богоматери, св. Параскевы и других женских святых, выступавших образцами поведения для простых смертных. Православные ритуалы долгое время сохраняли свое значение для женщины. Вокруг них выстраивалась ее жизнь, они придавали смысл существованию, давали духовную пищу. И хотя считается, что под влиянием петровской революции и распространения светского образования в высшем обществе возникает определенное равнодушие к религии, в ряде работ подчеркивается ее значение в качестве основы для духовного самосовершенствования женщины. Г. Маркер на примере воспоминаний Анны Лабзиной, Дж. Рэндолф на материалах семьи Бакуниных корректируют прежние представления о преимущественно светском характере русского Просвещения и рассматривают его «женский вариант», в котором религия занимала существенное место (96; 110). В этот период она явно приобретает более личностный характер и становится для многих женщин источником идентичности.
В XIX в. женщины все более активно начинают выражать свою религиозность, как через социальную деятельность, так и в литературе и искусстве (119, с. 232–233). Западная историография изучила фактически единственную в дореформенное время социально приемлемую форму публичной деятельности женщин – благотворительность, которая долгое время носила исключительно частный характер, была сильно религиозно окрашена и существовала в форме христианской помощи бедным. Эта деятельность не выходила за рамки традиционной гендерной идеологии, поскольку считалось, что женщины самой природой предназначены для выполнения таких деликатных задач, как покровительство приютам для сирот и посещение тюрем. Исследователи подчеркивают роль императриц в организации первых официальных благотворительных учреждений, а нашествие Наполеона, пишет В. Росслин, явилось катализатором для возникновения первых частных благотворительных объединений в России, в том числе Женского патриотического общества. Дамы следовали здесь примеру императрицы, которая направила всю свою энергию и таланты в область филантропии (116, с. 89).
Тесно связана с темой благотворительности проблема крестьянского образования, поднимаемая в статье Сьюзен Смит-Питер (126). В ней рассматривается деятельность Московского общества сельского хозяйства (МОСХ) по обучению грамоте крестьянских девочек. В 1845 г. председатель МОСХ Степан Маслов призвал дворянок и священников учить девочек церковно-славянскому языку, чтобы из них выросли благочестивые матери, которые будут затем обучать чтению богослужебных книг и молитве своих детей. Все это должно было способствовать возрождению крестьянской семьи, православия и в конечном счете – укреплению нации. Программа МОСХ, которую поддержали некоторые помещики и в гораздо большей степени – помещицы (главным образом выпускницы Смольного института), а также, конечно, священники, вполне согласовывалась с тезисом славянофилов о важнейшем значении семьи для процветания русского государства и лежала в русле их интереса к «материнскому воспитанию». Эта концепция, отмечает автор, после небольшого перерыва вновь обретает свое значение в России под влиянием идеологии николаевского царствования с ее особым вниманием как к патернализму, так и к материнству (126, с. 391–392).
Славянофильские построения С. Маслова, ставящие во главу угла возвращение к «первоначальной невинности» путем возрождения православия и нравственности в семье, сразу же подверглись суровой критике в журнале «Отечественные записки», а в конце 1850-х годов признавались уже анахронизмом. Действительно, пишет С. Смит-Питер, для времен крепостничества модель общества как естественной любящей семьи была особенно привлекательной (хотя, как выяснилось, образование девочек и не помогло преодолеть свойственные крепостному строю барьеры), но в эпоху Великих реформ такая модель теряет свою актуальность (126, с. 405).
Среди работ, посвященных деятельности женщин на ниве духовности, следует назвать исследования Элины Кахлы об основании в 1910-е годы Марфо-Мариинской обители милосердия и жизни ее создательницы великой княгини Елизаветы Федоровны (1864–1918) (76; 77). В Уставе обители нашел свое воплощение синтез православных и западных взглядов на благотворительность, а также на роль женщины в церкви и религиозной жизни. Финская исследовательница подчеркивает экуменический характер предприятия великой княгини и ее стремление активизировать участие женщин в деятельности церкви.
К началу ХХ в. религиозная жизнь в России, отмечают западные историки, значительно феминизируется. Суть феномена «феминизации», который был характерен и для Западной Европы конца XIX – начала ХХ в., заключалась не только в количественном росте женских монастырей и неформальных религиозных объединений (сестринских общин), но и в повышении роли женщин в церкви и активизации их участия в церковной деятельности на благо общества (см.: 134).
Другая сторона феминизации религии рассмотрена в работах Н. Киценко и К. Воробек, посвященных женщинам из городских и деревенских низов и их роли в формировании модерности. Н. Киценко ставит под вопрос «антимодерный» характер инициированных женщинами культов Блаженной Ксении Петербургской и о. Иоанна Кронштадтского (87). К. Воробек (142), характеризуя особенности наступавшей эпохи модерности, отмечает такие ее черты, как широкое распространение массовых паломничеств, с одной стороны, и обращение церкви к авторитету науки – с другой. Она исследует в своей книге феномен кликушества, которое было окончательно феминизировано в XIX в., когда одержимость бесами начали приписывать исключительно неграмотным крестьянкам. Автор показывает неспособность психиатров вылечить эту типично «женскую», как считалось, болезнь, поскольку их научные методы никак не согласовывались с представлениями крестьянских женщин, ожидавших изгнания бесов священными средствами.
Начало ХХ в. было отмечено серьезными кризисными явлениями в православной церкви, и одной из важных причин, считают исследователи, явилось расширение социальной роли женщин. Вопрос о том, какой следует быть женщине и какое место она должна занимать в семье, обществе и в церкви, активно дебатировался в православной печати с 1860-х годов. Своей кульминации эти дебаты достигли на Всероссийском церковном соборе 1917–1918 гг., который признал необходимость ряда реформ, оказавшихся, правда, более чем запоздалыми. Этот сюжет исследует Уильям Вагнер, уделяя основное внимание религиозному идеалу женщины, который претерпевал существенные изменения на протяжении XIX – начала ХХ в. (135). В 1830–1850-е годы, пишет автор, православный идеал женственности вполне соответствовал тем идеалам, которые выдвигались в светской литературе того времени. Он был подвержен тем же влияниям и тенденциям, в частности усвоил и понятие «материнское воспитание», и «идеологию разделенных сфер», которые сочетались, однако же, с давними православными идеалами – образами женщины – «праведницы» и «искусительницы», подчеркивавшими подчиненное положение женщины в семье и ее главную роль в управлении домашним хозяйством. В результате православный идеал середины XIX в. включал в себя элементы патриархальности, равенства и дополнительности (взаимодополнения) полов.
Считалось, что власть отцов и мужей необходима для поддержания семейных устоев и защиты интересов семьи. Жена выполняет функцию помощницы своего мужа и полностью подчиняется ему, поскольку нуждается в мужском контроле и руководстве по своей природе и по божественному замыслу (в этом пункте часто встречаются ссылки на Еву, которая несет ответственность за грехопадение человека). Однако в других отношениях мужчины и женщины считались равными: они были равны в своей вере (что было важно для церкви), а также несли одинаковую ответственность за себя лично и свою семью, их вклад в семейные и общественные дела считался одинаково достойным (135, с. 122–123).
Часто говорилось о том, что мужчины и женщины не являются равными или неравными, они – разные и предназначены для разных целей: женщина – для жизни в семейном кругу, а мужчина – не только для семьи, но и для общества. Интересно, пишет автор, что православие пропагандировало те же женские качества, которые пропагандировались в это время в Европе и Соединенных Штатах: скромность, смирение, самоотверженность, самоотречение, терпение и терпимость, тактичность, нежность, сочувствие, трудолюбие, практичность, ловкость и сноровку, чутье (интуицию) и благочестие (135, с. 124). Но для православия все это означало несколько иное: взаимодополняемость двух полов, например, служила усилению подчиненного статуса женщины и заточению ее в домашней сфере.
Описанный Вагнером идеал женственности в целом сохранялся в православии до конца старого режима, хотя и испытывал серьезные воздействия извне. С одной стороны, он по-новому обосновывался в консервативной мысли, а с другой – оспаривался теми, кого автор называет церковными «либералами» и «реформаторами» (135, с. 124).
В эпоху перемен и морального разложения все большее значение для консерваторов начинает приобретать буквальный, вневременной смысл Священного Писания и других религиозных текстов. Идеал домашней жизни в этот период становится важнейшим компонентом стратегии консервативных православных авторов в их действиях по укреплению устоев и влияния церкви. Женщины в их представлении должны служить главной опорой в поддержании нравственности.
Либеральный вариант православного идеала женщины медленно изменялся с эпохи Великих реформ и полностью определился в начале ХХ в. Он отличался от консервативного в двух ключевых моментах. Во-первых, больший акцент делался на равенстве мужчин и женщин, а также на развитии женщины как самостоятельной личности, что было созвучно тенденциям конца века с его повышенным вниманием к самоценности индивида. Во-вторых, поддерживалось расширение участия женщин в жизни общества. С этих позиций брак начали рассматривать как добровольное и дружеское партнерство, в котором оба супруга помогают друг другу духовно и нравственно развиваться. Брак становится необходимым условием для самореализации и мужчин и женщин. То есть отвергались патриархальные концепции супружеских отношений и власти в семье, которые мешали свободному развитию обоих супругов. Чтобы снизить влияние священных текстов, использовавшихся консерваторами в полемике, либералы либо помещали их в исторический контекст, тем самым релятивизируя их, либо находили другие интерпретации, которые ослабляли их директивную силу (135, с. 126).
В отношении социальной роли женщин православные либералы применяли ту же стратегию, что и феминисты в Европе и США, используя господствующие идеалы женственности для расширения границ социально приемлемого поведения. Утверждалось, что женщины с их нежным сердцем и терпением вполне могут заботиться о больных, учить детей и т.д. Со временем список занятий, признаваемых подходящими, ширился. Профессии учительницы, сиделки, фельдшера, акушерки, врача, миссионера и даже писателя стали считаться вполне совместимыми с природой женщины и ее домашним призванием.
Для либеральных авторов, считает Вагнер, расширение социальной роли женщины служило их главной цели – адаптации церкви к новым изменяющимся условиям (135, с. 127–128). Возникавшие в полемике между православными авторами постепенное изменение и усложнение идеала женственности привели к тому, что на Всероссийском церковном соборе 1917–1918 гг. была признана необходимость либерализации законов о разводе и более широкого включения женщины в приходскую жизнь, во многом почти на равных правах с мужчинами (135, с. 139).
Трансформация моделей маскулинности и кризис начала ХХ в
В соответствии с ведущими тенденциями в современной англо-американской историографии, которая отошла от написания «больших нарративов» национальных историй и все свое внимание сосредоточила на формировании феномена модерности, гендерные историки также обратились к изучению мощных трансформаций, происходивших на рубеже веков в России. Характерные для периода становления государства современного типа кризисные явления, касающиеся в первую очередь нового понимания человеческой личности и индивидуализма, затронули и гендерные идентичности. В связи со стремительной индустриализацией, которая стимулировала мобильность населения и вызвала серьезные сдвиги в прежде достаточно стабильных социальных идентичностях сословного общества, происходят глубокие изменения в понимании гендерных ролей и в моделях женственности и мужественности. Самое главное, пожалуй, заключается в том, что начатые Петром I процессы трансформации достигли наконец и самых низов общества, в котором возникают новое понимание и новые модели женственности и мужественности.
Симптоматично, что наиболее интересные работы западной историографии посвящены проблемам маскулинности и ее кризиса. Тема «феминизации» мужчин и их неспособности адаптироваться к быстрым изменениям постоянно звучит сегодня в общественных дискуссиях, в СМИ англоязычных стран и крайне актуальна (80, с. 2–3).
Для зарубежных русистов точкой отсчета в изучении российского варианта маскулинности является крестьянская система ценностей и практик. В статье Кристины Воробек (141) стереотип деревенской мужественности исследуется вполне в антропологическом ключе. Указывая, что крестьяне имели разработанную ген-дерную модель, закрепленную в ритуалах и обычаях, автор подробно рассматривает этапы становления мужчины в крестьянском обществе начиная с детства, когда отец приобщал мальчика к работе и помогал ему дистанцироваться от матери, которая и сама своими похвалами («атаман», «разбойник») поощряла «мужское» поведение сына. Следующей важнейшей ступенью социализации была юность с ее «пьянками и гулянками» которые, однако же, К. Воробек считает необходимейшими инструментами формирования мужественности.
Ухаживание носило в русской деревне коллективный характер в форме «посиделок», танцев, гуляний, где молодым парням исподволь внушались ценности общинной морали. Составной частью юношеских развлечений были кулачные бои – там выковывались мужественность, удаль, закладывались основы товарищества. Приобщение к выпивке являлось входным билетом во взрослый мир, способом социализации со своими строго определенными ритуалами. Символическое значение выпивки при заключении сделок или брачных соглашений дополнялось такой ее социальной функцией, как общение во время семейных праздников и в питейных заведениях. Мужчины собирались в трактирах и сельских шинках, чтобы узнать новости, обменяться мнениями, наконец, чтобы «людей посмотреть и себя показать». Это был особый мужской мир, где солидарность поддерживалась речевыми практиками сквернословия и куда не допускались женщины. Репутация здесь играла центральную роль, хотя ее критерии отнюдь не совпадали с теми, которые были приняты в образованном обществе. Особой доблестью считалось умение пить не пьянея, количество выпитого было мерилом мужественности. Пьяные драки, часто вспыхивавшие во время этих застолий в общественных местах, как правило, имели своей причиной оскорбление мужского достоинства, пишет К. Воробек (141, с. 81–82, 87–88).
На образованных людей грубость и насилие, бытовавшие в крестьянской среде, производили отталкивающее впечатление, однако в основе такого поведения часто лежала «этика чести». Как объясняет автор, в русской деревне в условиях крайней ограниченности материальных ресурсов репутация становилась наиболее важным показателем социального статуса. Наивысшего статуса в крестьянской общине достигал глава семейства; его авторитет основывался на возрасте, опыте, усердии в работе, компетенции в управлении своим хозяйством и умении руководить своими домочадцами. Самым неуважаемым был тот, кем руководит жена (141, с. 78–79).
В центре крестьянской модели маскулинности, подводит итог К. Воробек, находились физическая сила, уважение к тяжелому труду, почтение к старшим, дружба и взаимовыручка, мужская честь и, наконец, выпивка как способ общения и утверждения своей репутации. Все это воспитывалось с детства и передавалось из поколения в поколение. Анализируя поведение крестьян во время столкновения общины с внешним миром, К. Воробек подчеркивает ту солидарность, которая была выработана мужчинами в юности, их уверенность в том, что на соседей можно положиться. Она отмечает часто применяющуюся стратегию – высылать вперед женщин и детей. Если им удавалось договориться с властями, на том дело и заканчивалось. Но если власти причиняли женщинам какой-либо вред, на защиту оскорбленных вставали мужчины, считая в этом случае применение физического насилия – основного мужского способа действий – полностью оправданным. Власти вряд ли понимали, что презираемые ими «темные мужики» отстаивали свою честь и достоинство, а также репутацию всей общины (141, с. 90).
Представленная К. Воробек модель крестьянской мужественности дополняется в статье британского историка Стивена Смита, где подчеркивается, в частности, что главной основой мужской власти в общине было право крестьянина на землю, которую он пахал (125, с. 94). Эта модель оказалась вполне адаптируемой к жизни в городе, куда в пореформенный период двинулись на заработки массы крестьян. Автор прослеживает, как она видоизменялась и приводилась в соответствие с условиями жизни крестьян, получивших теперь новую идентичность городских рабочих. Он фиксирует живучесть «традиционной» модели маскулинности, в которой статус мужчины определялся физической силой, удалью и отвагой в драке, способностью пить не пьянея, успехом у женщин и другими подобными доблестями. Однако, как показано в статье, эти элементы в новых условиях были переконфигурированы, часть из них вышла на передний план, другие утратили свое первостепенное значение.
Характерный для деревенской модели маскулинности акцент на физической силе получил дополнительное подкрепление в среде неквалифицированных рабочих. В нерабочее время сила и выносливость также оказались важнейшим компонентом мужественности, который реализовывался в городских драках «стенка на стенку» или в компаниях, где соревновались, кто кого перепьет (125, с. 96). В то же время это преклонение перед физической силой приобрело и более рафинированные формы в виде занятий спортом – борьбой, боксом, поднятием тяжестей. Кумиром стал эстонский борец Сергей Лурих, сочетавший идеальное развитие мускулов с физической ловкостью и красотой. Однако постепенно рабочие начинают отдавать предпочтение таким видам спорта, которые требовали не столько физической силы, сколько ловкости, например футболу. И хотя до революции эта игра была занятием элитарным, появились первые команды рабочих на Путиловском и Обуховском заводах (125, с. 97).
Пьянство – элемент «традиционного» стиля маскулинности – в городе начинает менять свою конфигурацию. К 1890-м годам оно становится в Петербурге своего рода эпидемией. Помимо кабаков, чайных, трактиров и пивных, заполнявшихся рабочим людом, особенно в дни получки, пьянство процветало и на работе. Автор отмечает «маскулинизацию» рабочего места, которая происходила при посредстве коллективного потребления алкоголя по разным поводам (в частности, обмывание прихода новичков, на это даже отпускались «привальные»). Совместная выпивка в общественных местах и на работе организовывала мужское сообщество, исключавшее присутствие женщин. Мужественными был и язык (мат), и темы для разговоров (сексуальные победы, попойки, драки), и шутки, и песни. Мастеров сквернословия уважали как настоящих мужчин (125, с. 98).
Когда после 1905 г. в качестве дешевой рабочей силы начали активно привлекать женщин, это было воспринято мужчинами как вызов не только их экономическому положению, но и чувству мужского превосходства. В новых условиях капиталистического мира, где мужчины, оторванные от семьи, от земли и родной деревни, чувствовали свое бессилие, им приходилось компенсировать безвластие на рабочем месте путем создания новой культуры, заполненной маскулинностью и основанной на исключении женщин (125, с. 99).
Гендерная идентичность квалифицированных и так называемых «сознательных» рабочих демонстрирует более серьезные перемены. Для них важным показателем принадлежности к мужскому полу становятся не физическая сила, а профессиональное мастерство, быстрота и ловкость в работе, в принятии решений. Братство мастеровых отмежевывалось от неквалифицированных рабочих, от их пьянства, агрессии, женоненавистничества, грубости. А в среде сознательных рабочих (малая часть квалифицированных) выковывается новый тип современной маскулинности, в центре которого находилось понятие «культурность». Для них особое значение приобретают ценности, характерные для буржуазного идеала мужчины: самоконтроль, самосовершенствование, преобладание разума над чувством, независимость, более уважительное отношение к женщине и иногда – приверженность к браку, основанному на чувстве (125, с. 100–101).
Важнейшей составляющей новой модели маскулинности в рабочей среде было отрицание патриархальной власти, что особенно ярко проявилось во время революции 1905 г., когда многие рабочие выступили против телесных наказаний и отказались терпеть побои. Традиционной патриархальности сознательные рабочие противопоставили идеал братства, который отвергал мужскую статусную иерархию, основанную на демонстрации физической силы. В политических целях идиома братства использовалась для обозначения классовой солидарности, но чаще всего речь шла именно о семье (125, с. 102).
Для молодых и неженатых мужчин огромное социальное значение имело воздействие на традиционные понятия маскулинности городской массовой культуры. Возникает новая, «нарциссическая» модель, которая привязывает мужской статус к рафинированности, следованию моде и сознательно создаваемой сексуальной привлекательности. Появляются «фабричные денди», освобожденные от пут патриархального контроля, искушенные в вопросах романтической любви поклонники бульварных романов и непременные посетители кинематографа (125, с. 107–109).
Влияние культуры потребления (консюмеризма) на формирование социальных идентичностей в России конца XIX – начала ХХ в. только начинает признаваться историками. На примере развития модной индустрии эту тему рассмотрела К. Руэн (117), указав на невероятное могущество мечты о лучшей жизни, которая в итоге привела массы и женщин, и мужчин, стремившихся под влиянием моды ощущать себя членами современного (космополитического) европейского сообщества, к поддержке свержения старого строя. А С. Смит пишет о том, что происходившие в конце императорского периода трансформации социальной идентичности, включавшие в себя как рост индивидуализма, так и изменение в гендерных нормах, внесли весомый вклад в дестабилизацию патриархальной власти, которая лежала в сердцевине кризиса старого режима. Эти изменения продолжались и после революции, хотя и не привлекали внимания большевиков, считавших источником и причиной всех явлений экономические силы (125, с. 109).
Некоторые историки выдвигают на первый план проблему кризиса маскулинности, который отчетливо начал проявляться на рубеже веков. Его главной особенностью являлась амбивалентность новых моделей «настоящего мужчины», получивших в этот период широкое распространение благодаря развитию массовой печати, прессы, фотографии и кинематографа. Луиза Макрейнольдс в небольшой, но крайне содержательной статье, посвященной мужскому полу, который был «не единственным» в России эпохи fin de siиcle, связывает возникновение кризиса маскулинности не столько с развитием феминизма и появлением «женщины нового типа», сколько с «вызовами» модерности (100).
Считается, пишет автор, что мужчины узнают, как стать мужественными, перерабатывая существующие в обществе стереотипы. Ускоренная индустриализация с ее духом капиталистического индивидуализма поставила гендерные стереотипы самодержавной России под вопрос. Отмечая, что в XIX в. источником гендерных норм являлись два сословия – дворянство и крестьянство, Макрейнольдс пишет об особенностях русской модели маскулинности. По ее мнению, в России произошла «инверсия классической дихотомии», делившей мужчин на тех, кто наделен «мозгами», и тех, кто обладает «мускулами» («brains/brawns»). Русские интеллигенты – борцы с самодержавием, начиная с Белинского («ролевой модели» для 1840-х годов), не были атлетами, но многие из них не дрогнув шли на эшафот и каторгу, и в результате интеллект в России стал важным признаком мужественности. «Мускулы», напротив, ассоциировались с крестьянством, однако этот тип мужественности был популярен главным образом у славянофильствующих романтиков и явно не разделялся большинством. Таким образом, в русской культуре сформировался особый тип маскулинности, который идеализировал «неэффективных интеллектуалов». В результате «провал» («failure») в противоположность «успеху» – типичной характеристике мужественности – становится в России приемлемым, а иногда и нормативным для маскулинного поведения (100, с. 133–135).
И все же выработанные в течение XIX в. гендерные стереотипы уже не находили отклика у горожанина начала XX в. Модерность требовала иных моделей поведения, которые подразумевали способность легко справляться с быстрыми изменениями, и в России возникают новые типы образцовой мужественности, генетически связанные с уже существующими стереотипами. Важную роль в распространении образов «нового мужчины», пишет Макрейнольдс, в условиях наступившей коммерциализации досуга играли массовая печать, фотография и в особенности кинематограф, который вовлекал зрителя в действие и на эмоциональном уровне заставлял его идентифицировать себя с героями картин. Немаловажное значение автор приписывает и многочисленным журналам для мужчин, пропагандировавшим физическую красоту спортсменов, новейшие моды и средства от облысения. В них задавался «нарциссический» идеал мужественности (100, с. 135–136).
Л. Макрейнольдс анализирует две фотографии, представляющие, на ее взгляд, два типа мужчины, модного в начале ХХ в. Это открытка, на которой позирует звезда немого кинематографа Иван Мозжухин, и фото неизвестного, сделанное «на память». На нем изображен представитель среднего класса, одетый по моде своего времени, стройный, исполненный сдержанного достоинства молодой господин, всей своей позой и видом напоминающий манекен в витрине пассажа, демонстрирующий улице последний крик моды. При всей своей субтильности он, пишет Макрейнольдс, никак не походит на «бессловесного подданного самодержавия».
Знаменитый актер Иван Мозжухин также не предлагает нам образец атлетического мужчины. Его явно феминизированный образ отсылает нас к героям немого кино, где Мозжухин проливал на экране «свои знаменитые слезы». Чаще всего это были слезы раскаяния в том, что его герой был вынужден применить насилие по отношению к любимой им женщине. Л. Макрейнольдс обращает наше внимание на различия между функцией мужчины в западном немом кинематографе, где тот выступал защитником и спасителем слабой женщины, олицетворяя «источник национальной силы», и в русском, с его неврастеническим героем, убивающим предмет своей страсти. Причем в русских кинокартинах женщины чаще всего выступают «катализатором мужского насилия», именно на них в конечном счете перекладывается вина за совершенное преступление. И если западный кинематограф, отводя женщине второстепенную роль, усиливал таким образом «либеральную патриархию», то в России наблюдалось «присвоение» слабыми мужчинами женских качеств (эмоциональности), что «подрывало взаимное усиление гендерных ролей, которое могло бы внести свой вклад в сохранение социальной стабильности в столь нестабильные годы» (100, с. 136).
Иной угол зрения на трансформации модели мужественности в России эпохи модерности предложен Катрионой Келли, которая обращается к изучению предыстории советской идеи закаливания (84). Она обнаруживает вполне сложившуюся к началу ХХ в. культуру тренировки тела и духа, борьбы с ленью, «обломовщиной». Многочисленные руководства и брошюры, предлагавшие гимнастику по системе Мюллера, закаливание водными процедурами и пр., неизменно подчеркивали необходимость физических упражнений для настоящего мужчины и их прямую связь с вырабатыванием силы воли и самоконтроля – качеств также по преимуществу мужских. Требовать от женщины самоконтроля считалось не просто жестоким – это противоречило самой ее природе и предназначению. Автор фиксирует резкое различение двух сфер, публичной и домашней, в которых живут и действуют мужчины и женщины. Вмешательство «не в свою» сферу считалось недопустимым (84, с. 134).
Культ воспитания воли, считает К. Келли, указывал на преображение, на полную трансформацию в восприятии мужской чести, что явилось завершающей стадией перехода от «феодальной» социальной идентичности, основанной на рождении, крови и статусе семьи, к индивидуалистической «буржуазной», которая начала утверждаться в эпоху Просвещения. С другой стороны, это течение в культуре России начала ХХ в. свидетельствовало о рождении «новой маскулинности», подчеркивавшей воинские доблести. В этом контексте автор рассматривает изменение статуса дуэли, которая с 1894 г. становится в армии обязательным средством защиты репутации, в том числе по решению офицерских «судов чести». В начале ХХ в. дуэль в России, в отличие от Германии, приобретает ощутимый привкус демократичности (84, с. 138).