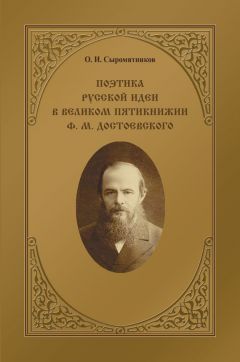
Автор книги: Олег Сыромятников
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Очевидно, что невозможно в этой ситуации отвечать за молчащего Мышкина, а между тем это считают своим долгом некоторые современные исследователи. Их ответы вращаются вокруг мысли о том, что под «красотой» следует понимать красоту образа и подвига Христа. Безусловно, что именно так понимает «спасающую красоту» любой православный человек, например, Достоевский. Но говорить о том, что её так же понимает и князь Мышкин, нет никаких оснований.
Князь выражает свои убеждения лишь после идейного синтеза, в самом конце романа, в седьмой главе четвёртой части, в сцене собрания у Лизаветы Прокофьевны. Он эмоционально заявляет о положительном отличии православия от европейских христианских конфессий. Заметим, что до этой сцены в романе нет ни одного упоминания о славянофильских воззрениях Мышкина или указания на то, откуда они могли возникнуть у него. В итоге вопрос о том, что он собирался проповедовать в России, так и остаётся открытым. Первоначально задуманная прямая проповедь так и не состоялась, но Мышкин проповедует «женевские идеи» самим собой – своим отражением мира, словами и поступками.
Напомним, что с рождения он страдал какими-то нервными припадками, со временем сделавшим из него «совсем почти идиота» [8; 25]. Следует прибавить и частые телесные наказания, которыми его пытались «лечить» в детстве: «Всё розги и розги больному ребёнку…» [8; 447]. Дожив таким образом до двадцати двух лет, Мышкин был увезён в Швейцарию, где его лечили «холодною водой» и «гимнастикой» [8; 25]. И хотя, по его же собственным словам, так и не вылечили [8; 6], всё же произошло некое сверхъестественное чудо. Несмотря на то, что Мышкин учился «так, кой-чему только <…>. Меня по болезни не находили возможным систематически учить» [8; 9], он не только получил множество разнообразных знаний, но в кратчайшее время социализировался настолько, что смог общаться с людьми (и взрослыми и детьми) за границей, практически не зная языка. Затем поехал один, без сопровождения, с крайне ограниченной суммой денег (которую надо было уметь рассчитать на весь путь) в Россию; и здесь он без особых затруднений взаимодействовал с самыми разными людьми без малейших языковых и смысловых проблем. Более того, он даже демонстрировал способность некоего априорного знания, создавая по внешности людей их подробнейшие психологические портреты, предсказывая судьбу и пр.
Из сюжета следует, что истину, которую Мышкин собирался проповедовать в России, он привёз из-за границы. Однако его рассказ о жизни в Швейцарии не содержит ни одного религиозного (не говоря уже о христианском) откровения такой истины. Все переживания Мышкина от встречи с реальностью, которые он испытал после того, как к нему вернулось сознание, имели характер не религиозно-христианский, а пантеистически-сенсуалистский. А так как об источнике своей «идеи» он ничего не сообщает, то допустимо предположить, что этим источником является он сам. Другими словами, она была имманентна его природе, коренилась где-то в глубине его души. Затем эта идея посредством внешнего толчка (крик «осла на городском рынке» [8; 48]) высвободилась из глубин подсознания: «С тем вместе вдруг в моей голове как бы всё прояснело» [8; 48]. Мир стал прост и понятен, а сам Мышкин – счастлив от непосредственного, прямого восприятия действительности. Он ощутил абсолютную внутреннюю свободу и осознал ненужность каких-либо внешних (социальных или религиозных) законов и потому легко нарушал их, живя в швейцарской деревушке. Более того, на основании своего априорного знания он попытался установить там новый порядок, разрушив исторически существовавшие традиции. И потому, что это ему отчасти удалось, можно судить о том, что нечто подобное Мышкин намеревался совершить и в России.
Полагаем, что наибольшую проблему для понимания образа Мышкина создал, не желая того, сам автор. Сохранившиеся подготовительные материалы к роману содержат три записи, давно уловившие внимание исследователей: «КНЯЗЬ ХРИСТОС», «КНЯЗЬ ХРИСТОС» и «Кн. Христос» [9; 246, 249, 253]. Все записи сделаны 9–10 апреля 1868 года, то есть на полпути к окончанию романа.
Примем без доказательства то, что их размещение в ПСС соответствует фактической последовательности их появления.
Первая запись вписана на полях страницы, содержащей мысли, касающиеся темы любовного треугольника: «Мышкин – Настасья Филипповна – Рогожин» и участия в нём Лебедева и Гани [9; 246]. Никаких иных христологических, богословских или евангельских упоминаний на этой странице нет. Периферийность записи указывает на её случайность по отношению к основному тексту, но само её появление, разумеется, неслучайно. На следующий день в самом низу листа, содержащего краткий диалог Мышкина и Лебедева, возникает вторая запись [9; 249]. Всё остальное пространство страницы занято, согласно примечанию публикаторов, «пробами пера. Среди них: Petrus, Восстание острова Крита, Смиренный игумен Зосима, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Евангелие Иоанна Богослова» [9; 249]. Достоевский перебирает в памяти имена великих христианских богословов и отцов Православной церкви, двигаясь от одного имени к другому, от идеи к идее, пока не останавливается на последнем имени – имени Иоанна Богослова.
Текст Евангелия от Иоанна не столько описывает исторические события, связанные с личностью Христа, сколько раскрывает внутренние, идейно-духовные основы Его учения. Именно на это направлены и усилия упомянутых богословов. Обращение Достоевского к христологическому учению Церкви свидетельствует о стремлении писателя к глубокому проникновению в тайну бого-человеческой личности Спасителя, образ которого с детских лет находился перед его внутренним взором. Как и всякий христианин, Достоевский старается ответить на вопрос о том, что и как должен делать человек, чтобы быть достойным называться сыном Божиим, как этого был достоин Христос. Он сравнивает первоначальный замысел («Изобразить положительно прекрасного человека») с результатом его воплощения и графически, на бумаге сводит образ своего персонажа с образом Христа, словно отвечая самому себе на вопрос: насколько человек по имени «Лев Николаевич Мышкин» соответствует Ему. Итог этого сравнения неутешительный, хотя и закономерный. Об этом свидетельствует графика третьей записи: «Кн. Христос» [9; 253]. Если две предыдущие записи выполнены полностью заглавными буквами, то сейчас заглавные буквы лишь начинают слова. При этом первое слово сокращено до двух первых букв, что свидетельствует об утрате к нему интереса и внимания пишущего, потому что для него степень соответствия образа Мышкина Христу не является загадкой – герой подобен Ему не больше, чем все остальные люди.
Характер рабочих записей не говорит о том, что автор оценивает подобный результат как творческую неудачу. Скорее, он говорит об обратном – Достоевский писал роман не о Христе, а о человеке, идущим Его путём, то есть о христианине. Именно так писатель определял идею будущего романа еще в 1867 г.: «Роман. Христианин» [9; 115]. Множеством черт писатель указывает на земную, человеческую природу Мышкина. Так, Князь говорит о себе, что иногда бывает «не добрым» [8; 49], тогда как православие учит, что одним из атрибутивных свойств Бога является «всеблагость», то есть Бог является добром всегда, везде и во всём. Его природа неизменна и неизменяема, и ничто не может сделать Бога недобрым. Христос пришёл в мир, чтобы научить людей тому, как спастись от смерти и стать счастливым, и поэтому апостолы называют его «учителем». Мышкин же отказывается быть для людей учителем [8; 257], то есть принимать на себя ответственность за их жизнь, а хочет лишь «поучать» их. Когда Христос пришёл в мир, люди сразу узнали в нем Спасителя, оставили свои дома, близких и пошли за Ним. Мышкина никто не только не считает способным спасти кого-либо, но напротив, «ему самому ещё няньку надо» [8; 144]. И он действительно не может никого спасти, так как не может никого любить, а лишь поддаётся энергии чужой страсти, словно притягиваясь к её источнику.
Его любовь подобна лунному свету – она лишь отражает собой чужой свет и поэтому коротка и слаба. Это ярко показывают слова Князя о его чувстве к Настасье Филипповне: «О, я любил её; о, очень любил… но потом… <…> потом она <…> угадала, что мне только жаль её, а что я… уже не люблю её» [8; 362]. Любовь князя иссякла за короткое время, между тем, говорит апостол, настоящая «любовь никогда не перестанет…» (1 Кор. 13:8). Высшим критерием любви Евангелие называет самопожертвование[121]121
Ср.: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
[Закрыть], а Князь не способен на него: «Я не могу так пожертвовать собой, хоть я и хотел один раз… может быть, и теперь хочу» [8; 363]. Между тем Настасья Филипповна нуждается именно в спасительной, возрождающей любви, а Мышкин не знает, чем ей помочь [8; 361], но зато знает «наверно, что она <…> погибнет…» с ним [8; 363]. Таково же и его чувство к Аглае, о чём Князь случайно проговорился, сказав, что «в самом деле очень любил (а не любит! – О. С.) её» [8; 361] и т. д.
Наконец, Достоевский помещает деталь, которая, казалось бы, должна сразу разрушить все фантазии о христоподобности Мышкина, – он курит и не может отказаться от этой привычки: «Я привык, а вот уже три часа не курил…» [8; 17]. При этом если в начале романа он курит трубку, то в конце переходит на дорогие сигары [8; 488]. И наконец, сочетание «Князь Христос» на фоне евангельского повествования выглядит оксюмороном, потому что Евангелие «князем мира сего» называет сатану (Ин. 12:31, 14:30, 16:11).
Иногда для доказательства христоподобности Мышкина приводят сцены защиты им Вари Иволгиной [8;99] и Настасьи Филипповны [8; 291], а также сцену усмирения жаждущей скандала толпы [8; 494]. Но если оставить предвзятость, то первые два поступка вполне могут быть объяснены обыкновенным «мужским» поведением. По причине тонкой душевной организации князь оказался более чуток к происходящему и поступил психологически правильно в ситуации назревавшего скандала. Однако тонкость душевной организации (т. е. способность чувствовать и сочувствовать) может сочетаться как с силой, так и со слабостью её обладателя. Именно об этом говорят записи в подготовительных материалах к роману. Достоевский записывает в тетради: «ИДИОТ ВИДИТ ВСЕ БЕДСТВИЯ. БЕССИЛИЕ ПОМОЧЬ» [9; 241]. И на следующей странице: «NB. Князь только прикоснулся к их жизни. Но то, что бы он мог сделать и предпринять, то всё умерло с ним. <…> Но где только он ни прикоснулся – везде он оставил неисследимую черту. И потому бесконечность историй в романе <…> рядом с течением главного сюжета. (NB.NB.NB! Главный-то сюжет и надо обделать, создать)» [9; 242].
В конце марта 1868 года начинается идейный синтез: «СИНТЕЗ РОМАНА. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ» [9; 239]. Писателю наконец удаётся найти главную черту личности Мышкина: «Он! невинен!» [9; 239]. Однако основная задача так и остается нерешённой: «Главная задача: характер Идиота. Его развить. Вот мысль романа. Как отражается Россия. <…> Для этого нужна фабула романа. <…> Он восстановляет Н<астасью> Ф<илипповну> и действует влиянием на Рогожина. Доводит Аглаю до человечности… <…>. Сильное действие на Рогожина и на перевоспитание его» [9; 252]. Как известно из окончательного текста, ни одна из этих линий не осуществилась. Наконец, 15 апреля Достоевский записывает новую черту в характере Князя: «Главное то, что всем нужен» [9; 257].
Заметим, что на всём протяжении работы над романом автор обозначает своего героя словом «идиот». Вероятно, в силу определённой симпатичности образа Мышкина кажется невозможным подразумевать здесь именно то значение, которое во времена Достоевского было основным: «Малоумный, несмысленный от рождения, тупой, убогий, юродивый»[122]122
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – СПб: ТОО «Диамант». 1996. – Т. 2. – С. 8.
[Закрыть]. Между тем и сам Мышкин называет себя «почти идиотом» именно в этом смысле [8; 75], и автор, уже работая над последней частью романа, когда ему всё было ясно «как в стекло» [28, 2; 321], записывает в рабочей тетради, определяя идею своего героя: «В Князе – идиотизм!» [9; 280].
Эта идея возникла задолго до окончательного воплощения внешности и характера Мышкина, претерпевших значительные изменения. Первоначально это был совсем другой человек, чем в окончательном тексте романа: «И, наконец, идиот. Прослыл идиотом от Матери, ненавидевшей его» [9; 141]; «Страсти у Идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, из гордости хочет совладать с собой и победить себя. В унижениях находит наслаждение. Кто не знает его – смеётся над ним, кто знает – начинает бояться» [9; 241]. Он даже совершает преступление – насилует главную героиню, после чего «говорит, смотрит и чувствует как властелин» [9; 143]. Затем эволюция образа движется в русле христианской традиции: «NB. Главный характер Идиота. Самовладение от гордости (а не от нравственности) и бешеное саморазрешение всего. Но саморазрешение ещё мечта, а покамест ещё только судорожные попытки. Таким образом он бы мог дойти до чудовищности, но любовь спасает его. Он проникается глубочайшим состраданием и прощает ошибки. <…> Взамен получает высокое нравственное чувство в развитии и делает подвиг» [9; 146]. Однако затем писатель возвращается к первоначальной идее: «Идиот влюблён в Геро. Эта любовь – и любовь и высочайшее удовлетворение гордости, тщеславия.
Это последняя степень Я, это царство его» [9; 150]. Тема гордости как доминирующей черты Идиота, ведущей его к гибели, разрабатывалась и позже [9; 156–157, 180, 182 и т. д.]. И наконец, 27 октября 1867 г. Достоевский записывает: «NB. NB. Главная мысль романа: Столько силы, столько страсти в современном поколении, и ни во что не веруют. Беспредельный идеализм с беспредельным сенсуализмом. <…> Надо было с детства более красоты, более прекрасных ощущений, более окружающей любви, более воспитания. А теперь: жажда красоты и идеала и в то же время 40 % неверие в него, или вера, но нет любви к нему. «И беси веруют и трепещут»» [9; 166, 167].
В новой редакции романа почти всегда вместо «Идиота» – «Князь». И характер героя значительно отличается от первоначального. В начале марта 1868 г. Достоевский записывает: «Главная черта в характере Князя: забитость, испуганность, приниженность, смирение. Полное убеждение про себя, что он ИДИОТ. <…> NB) Взгляд его на мир: он всё прощает, видит везде причины, не видит греха непростительного и всё извиняет. <…> Он же считает себя ниже и хуже всех. Мысли окружающих видит насквозь. Вполне видит и убеждён, что его считают за идиота» [9; 218]. В это же время Достоевский начинает разрабатывать идею трансформации мировоззрения Мышкина после погружения его в российскую действительность: «Действие России на Князя. Насколько и чём он изменился»; «Россия действовала на него постепенно. Прозрения его» [9; 237, 242]. Следствием этого становится то, что Мышкин «до страсти начинает любить русский народ» [9; 219].
В начале марта 1868 г. Достоевский окончательно определяет роль Мышкина: «Идиот не считает себя способным на высокое, но и тоскует по высокой деятельности. Спасением же Н<астасьи> Ф<илипповны> и хождением за ней он не то что утешает себя по высокой деятельности, а действует по чувству непосредственной христианской любви» [9; 220]. На эти слова следует обратить особое внимание. Ни один человек не родится сразу с любовью, а тем более с христианской – то есть с готовностью отдать всё своё и себя самого ради жизни других людей. В человеке лишь заложена возможность такой любви (как и других свойств образа Божия), а обрести её во всей полноте он может только путём исполнения заповеди Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Это совершенство достигается неустанным подвигом, то есть понуждением себя к исполнению воли Бога, явленной в Его Откровении. Мышкин же сразу, без усилия, непосредственно поступает правильно, демонстрируя некое априорное совершенство. По существу, он представляет собой то самое первоначальное, чистое и невинное существо, которое Ж.-Ж. Руссо выдавал за «естественного» человека.
Пониманию этой мысли Достоевского способствуют слова князя о картине в доме Рогожина: «От такой картины у иного ещё вера может пропасть!» [8; 182]. Он говорит именно об ином, а не о себе самом, потому что у него веры нет. Достоевский записывает в тетради: «Христианин и в то же время не верит. Двойственность глубокой натуры» [9; 185]. Как и в «Преступлении и наказании», вопрос о вере является онтологической осью романа. Согласно первоначальному замыслу, его должен был задать Лебедев: «Лебедев вдруг спрашивает: «Князь, как вы думаете, а есть ли Бог?»» [9; 224]. Но впоследствии Достоевский передаёт этот вопрос от Лебедева Рогожину: «А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога иль нет? <…> Многие ведь ноне не веруют. А что, правда (ты за границей-то жил) <…>, что у нас, по России, больше, чем во всех землях, таких, что в Бога не веруют?» [8; 182]. Мышкин уклоняется от прямого ответа и отвечает на вопрос Рогожина четырьмя притчами.
Первая рассказывает о встрече Князя с человеком, считавшим себя атеистом и пытавшимся выразить свои убеждения, но получалось как-то так, что говорил «он вовсе как будто не про то» – не о том, почему он верит, что Бога нет, а о чём-то совсем ином [8; 182].
Вторая притча повествует о том, как один крестьянин зарезал своего спящего товарища, чтобы завладеть его часами. Был он при этом трезв и в сознании, «но ему до того понравились эти часы и до того соблазнили его, что он наконец не выдержал…» [8; 183]. Уже занеся над жертвой нож, он «возвёл глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькою молитвой: «Господи, прости ради Христа!»», зарезал товарища [8; 183]. Здесь поражает изуверство, то есть сохранение внешнего благочестия при полном разрушении внутренней духовной основы личности. Ясно слышен новозаветный акцент: «Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:13–15). Эта притча является ключом к пониманию многих коллизий в творчестве Достоевского, потому что кратко, но полно и точно показывает весь процесс грехопадения человека.
Третья притча рассказывает о том, как Мышкин случайно встретил пьяного солдата, продававшего свой нательный крест: «Я вынул двугривенный и отдал ему, а крест тут же на себя надел» [8; 183]. Через некоторое время именно этим крестом он и обменяется с Рогожиным.
Четвёртая притча изображает встречу Князя с молодой бабой, державшей на руках ребёнка. Когда ребенок улыбнулся ей, она «так набожно-набожно вдруг перекрестилась» [8; 183]. На вопрос Князя она ответила, что как мать радуется первой улыбке своего ребёнка, «точно так же бывает и у Бога радость всякий раз, когда Он с неба завидит, что грешник пред Ним от всего своего сердца на молитву становится» [8; 184]. Князь считает, что в этих словах «вся сущность христианства разом выразилась, то есть всё понятие о Боге как о нашем родном отце и о радости Бога на человека, как отца на свое родное дитя – главнейшая мысль Христова!» [8; 184].
Этими притчами Князь хочет показать Рогожину, что «сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить. Но главное то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь <…>. Это одно из самых первых моих убеждений, которые я из нашей России выношу» [8; 184].
Вернемся к началу сцены. Полагаем, что Мышкин не случайно так почувствовал картину Гольбейна – она очень близка его внутреннему духовному строю. Он знает христианство как религиозно-философское учение, но проповедует не его, а собственное представление о нём, созданное на основе идей Э. Ренана, которые он изучал в Швейцарии вместе со своим доктором [9; 183]. Онтологическим ядром этих идей является представление о том, что Христос был не Бог, а человек, достигший наивысшего нравственного совершенства. Мышкин упоминает имя Христа трижды: первый раз это происходит в самом начале романа в разговоре с камердинером Епанчиных, когда Князь просто ссылается на Евангелие: «Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил» [8; 21]. Два других относятся к самому концу романа, когда Мышкин начинает проповедовать славянофильские идеи в салоне Лизаветы Прокофьевны: «Ведь и социализм – порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтоб утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием! Это тоже свобода чрез насилие, это тоже объединение чрез меч и кровь! «Не смей веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, fraternité ou la mort[123]123
Свобода или смерть (франц.).
[Закрыть], два миллиона голов!» По делам их вы узнаете их – это сказано! И не думайте, чтоб это было всё так невинно и бесстрашно для нас; о, нам нужен отпор, и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали!» [8; 451].
В этих словах Мышкин неожиданно предстаёт как «воин Христов», готовый встать в ряды Его апостолов и, если надо, то и на крест взойти. Этот «Мышкин» принципиально отличается от того, какой показан в первой части романа. Произошедшие мировоззренческие изменения очень слабо мотивированы автором, лишь намекнувшим о путешествии князя по «внутренним губерниям» и его философских разговорах с Рогожиным. Вероятнее всего, что идеи, которые князь собирался проповедовать в первой части романа, значительно отличались от тех, которые он выражал во второй. Первоначально Мышкин лишь упоминает христианство в связи с какими-то собственными убеждениями, частично открывшимися в разговоре с Рогожиным, но ни его поступки, ни слова не дают достаточных оснований считать его православным христианином. Князь не нарушает закон Божий, но и не исполняет его, а следует каким-то собственным мотивам, в силу чего иногда выглядит как идиот, иногда – как смешной, а иногда – как хороший сам по себе человек.
Это даёт основание Д. Барсотти утверждать: «Если князь Мышкин и походит на Христа, то не на Христа Евангелия и не на Христа Церкви, а, скорее, на такого, каким Его знал и проповедовал Руссо» – «ни Бога, ни человека»[124]124
Цит. по: Степанян К. А. Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского. – СПб: Крига, 2010. – С. 275.
[Закрыть]. Об этом же говорит и К. А. Степанян: в сознании Достоевского «неизбежно возникала <…> формула одного из самых известных женевцев, писателя и философа, оказавшего огромное влияние на Европу и, даже, может, ещё большее на Россию – Жан-Жака Руссо: <…> «человек природный и истинный», то есть естественный, чья добрая природа не искажена несправедливым социальным устройством, возврат к этой природе должен обеспечить справедливое и счастливое состояние общества… Исследователями уже давно была замечена прямая связь образа Мышкина с этой идеей Руссо. Как справедливо замечает Л. Лотман, «с идеалом Руссо Мышкина объединяли черты «естественного человека»», цельность которого противостоит изломанности искаженных цивилизацией человеческих характеров. <…> Мышкин не случайно является из Швейцарии. Само представление о Швейцарии было для русских читателей как бы неотделимо от мысли о Руссо. Новые знакомые князя замечают в нём влияние женевских идей. Вера в добрую природу человека, в возможность полной искренности <…> воспринимается как результат влияния идей Руссо и его творчества, и все эти ассоциации в романе кратко обозначаются выражением: «По-швейцарски понимаете человека»[125]125
Степанян К. А. Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского… – С. 270–271.
[Закрыть]. Этот упрек Келлера Мышкину сопрягается со словами Достоевского, являющимися ключом к роману[126]126
О возможности существования такого «ключа» говорит и К. А. Степанян. См. указанное сочинение, с .177.
[Закрыть], который писатель протягивает читателю: «Я перевёл французский характер в русские буквы…» [8; 29]. Мышкин говорит не только о французском, но и об английском характере, упоминается и Швейцария, – словом, вся Европа. Следовательно, речь идёт о том, что Достоевский «перевёл» западную идею, европейский взгляд на человека в «форму» русского человека. Поэтому и Мышкин – русский только по происхождению, но его «характер», равно как и его одежда, – западные.
Идею образа Мышкина раскрывает сам Достоевский в письме Н. Н. Страхову: «Неужели фантастичный мой «Идиот» не есть действительность, да ещё самая обыденная! Да именно теперь-то и должны быть такие характеры в наших оторванных от земли слоях общества, – слоях, которые в действительности становятся фантастичными» [29, 1; 19]. Наиболее ярким среди таких «характеров» в русском обществе был в это время Л. Н. Толстой, ещё в 1862 году сказавший: «Чувства правды, красоты и добра независимы от степени развития. Красота, правда и добро суть понятия, выражающие только гармонию отношений в смысле правды, красоты и добра. Ложь есть только несоответственность отношений в смысле истины; абсолютной же правды нет. <…> Человек родится совершенным, – есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твёрдым и истинным. Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии правды, красоты и добра»[127]127
Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22 томах. – М.: Художественная литература, 1978–1985. – Т. 15. – С. 30–31.
[Закрыть]. Достоевский замечает, что «идеи Руссо, носившиеся тогда в воздухе» [22; 117], стали особо модными в России в конце 1860‑х годов. К этому времени он уже был знаком с сочинениями Толстого, а во время работы над «Идиотом» внимательно прочитывал главы эпопеи «Война и мир», публикация которой закончилась в 1869 г. В дальнейшем Достоевский неизменно высоко оценивал художественный талант Толстого и даже посвятил «Анне Карениной» отдельную главу «Дневника писателя» за 1877 год.
Говоря об образе Константина Лёвина, Достоевский обращается к личности его создателя, подчёркивая, что Лев Толстой – «огромный талант, значительный ум и весьма уважаемый интеллигентною Россиею человек, – этот романист изображает в этом идеальном, то есть придуманном, лице частью и собственный взгляд свой на современную нашу русскую действительность, что ясно каждому, прочитавшему его замечательное произведение» [25; 193]. Достоевский оценивает этот взгляд с резко критических позиций, он не приемлет идеи Лёвина, выражающего взгляды самого Толстого. Писатель заканчивает свой анализ риторическим вопросом: «Такие люди, как автор «Анны Карениной», – суть учители общества, наши учители, а мы лишь ученики их. Чему ж они нас учат?» [25; 223]. В конце концов Достоевский находит причину глубокой ошибочности основных идей Толстого: «До чего человек возобожал себя (Лев Толстой)» [27; 43].
Вспомним, что ещё в 1855 году Толстой записал в своём дневнике: «Вчера разговор о божественном и вере навёл меня на великую и громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле»[128]128
Цит. по: Дунаев М. М. Православие и русская литература. В 6 частях. – Изд-е 2‑е, испр. и доп. – М., Храм Св. мученицы Татианы при МГУ, 2002. – Т. 4. – С. 3.
[Закрыть]. Впоследствии мысль о необходимости модернизации православного вероучения будет выражена им в «Критике догматического богословия» (1881), «Исповеди» (1882), в трактате «В чём моя вера?» (1884) и других богословских трудах. Религиозные идеи, составлявшие основу мировоззрения Толстого, воплотились и в его художественном творчестве, что и было замечено Достоевским.
В письме А. Н. Майкову от 18 февраля 1868 г. он сообщал: «Прочёл разбор «Войны и мира». Как бы желал всё прочесть. Половину я читал» [28, 2; 258]. Впечатление от прочитанного особым образом отразилось в работе над романом: «ИДИОТ ВИДИТ ВСЕ БЕДСТВИЯ. БЕССИЛИЕ ПОМОЧЬ. ЦЕПЬ И НАДЕЖДА. СДЕЛАТЬ НЕМНОГО» [9; 241], «ЦЕПЬ, говорит о ЦЕПИ» [9; 269] и «Цепь. <…> Звучать звеном. Сделать немного» [9; 270]. В романе Толстого Пьер уговаривает князя Андрея вступить в масонство: «Вступите в наше братство, дайте нам себя, позвольте руководить собой, и вы сейчас почувствуете себя, как и я почувствовал, частью этой огромной, невидимой цепи (курсив здесь и далее наш. – О. С.), которой начало скрывается в небесах. <…> Разве я не чувствую <…> что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим? <…> Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Я чувствую, что кроме меня, надо мной живут духи и что в этом мире есть правда»[129]129
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22 томах. – М.: Худ. литература, 1978–1985. – Т. 5. – С. 122–123.
[Закрыть].
Масонская философия содержит учение о значимости единичных добрых дел («сделать немного»). При этом декларируемый масонами отказ от вмешательства в социальные и политические процессы только прикрывает многие незаметные для профанного взгляда «муравьиные» дела. Размышляя ро этому поводу, Достоевский записывает в дневнике: «Чудо, тайна. Масоны. <…> Где примирение. <…> Было в вере, но вера утрачена, в чём же, где этот муравейник? Не у масонов ли? Право, мне мерещилось всегда, что у них какая-то тайна, адово разумение, тайна муравья. Но такая тайна равносильна обращению человека в муравья, коли дан разум. Да и человек не захочет муравьиного гнезда. Предположится наукой найденный муравейник. Потребуются лишения, условия, ограничения личности. Для чего я стану её ограничивать. Для хлеба. Не хочу хлеба, и взбунтуется. И ещё долго пройдёт, когда встанет человек» [24; 159–162].
Нет никаких оснований видеть в Мышкине масона – он не мог быть принят в братство вольных каменщиков в силу как своей болезни, так и неопределённого социального статуса; да и вряд ли в его швейцарском захолустье могла быть хоть одна ложа. Однако до идейного синтеза характер его верований и эстетических переживаний во многом близок мистической ветви европейского масонства, к которому принадлежал кумир Толстого – Ж.-Ж. Руссо[130]130
О масонстве Руссо см.: Иванов В. Ф. Русская интеллигенция и масонство. От Петра Первого до наших дней. – 2‑е изд-е. – М., 1998. – С. 68.
[Закрыть]. М. М. Дунаев замечает: «По собственному признанию Толстого, он в пятнадцать лет носил на шее медальон с портретом Руссо – вместо нательного креста. И: боготворил женевского мыслителя»[131]131
Дунаев М. М. Православие и русская литература. В 6 частях. – Изд-е 2‑е, испр. и доп. – М., Храм Св. мученицы Татианы при МГУ, 2002. – Т. 4. – С. 5.
[Закрыть]. Заметим, что Мышкин также не носит нательного креста, иначе он не мог бы надеть на себя крест, купленный у солдата.
Казалось бы, Князю вполне знакомо «религиозное чувство». Размышляя о тех ощущениях, которые ему приходится испытывать во время припадков болезни, он вспоминает о минуте, которая «оказывается в высшей степени гармонией, красотой, даёт неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни» [8; 188]. Говорить о том, что какое-то мгновение жизни подобно «восторженному молитвенному слитию», может лишь тот, кто имеет духовный опыт такого слития. Однако Достоевский указывает на подлинную природу этого состояния и на то, под властью какой силы Мышкин находился в Швейцарии: «Это было <…> в первый год его лечения, даже в первые месяцы. Тогда он ещё был совсем как идиот, даже говорить не умел хорошо, понимать иногда не мог, чего от него требуют. Он раз зашёл в горы, в ясный, солнечный день, и долго ходил с одною мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслию. Пред ним было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому конца-края нет. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что ж это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать. Каждое утро восходит такое же светлое солнце; каждое утро на водопаде радуга; каждый вечер снеговая, самая высокая гора, там вдали, на краю неба, горит пурпуровым пламенем; каждая «маленькая мушка, которая жужжит около него в горячем солнечном луче, во всем этом хоре участница: место знает своё, любит его и счастлива»; каждая-то травка растёт и счастлива! И у всего свой путь, и всё знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос; он мучился глухо и немо; но теперь ему казалось, что он всё это говорил и тогда все эти самые слова…» [8; 351–352].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































