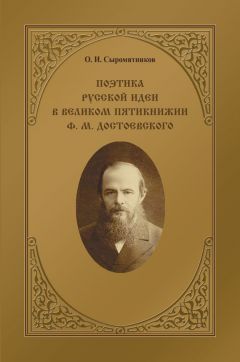
Автор книги: Олег Сыромятников
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Для объяснения природы духовного переживания Мышкина Достоевский использует тот же эпитет, что и в «Преступлении и наказании» при описании духовной атмосферы Петербурга: «Дух немой и глухой» [6; 90]. Как уже отмечалось, этими словами Евангелие обозначает сатану (Мк. 9:25). Это означает, что переживания Мышкина хотя и являются духовными по своей природе, но источник их находится не в Горнем миром, а в мире падших духов. Бессознательно подчиняясь этому миру, Князь приезжает в Россию и здесь снова находит его – в самом центре Петербурга, в доме Рогожина[132]132
Топография Петербурга такова, что Раскольников, глядя на «великолепную панораму» города, от которой веяло «духом немым и глухим», должен был смотреть именно на то место, где находится дом Рогожина.
[Закрыть].
Несмотря на видимое различие судеб и характеров Мышкина и Рогожина, Достоевский постоянно подчёркивает их особую близость друг другу, не указывая её причину. В первой части романа мотив близости иррациональный: «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил». – «Я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились…» [8; 13]. Причина происходящего открывается лишь в сцене в доме Рогожина. Князь приходит, говоря, что хочет видеть Рогожина, но на самом деле он стремится к Настасье Филипповне, к которой испытывает необъяснимое влечение: «Это неестественно, но тут всё неестественно. <…> Разве это любовь? Неужели может быть такая любовь… <…> Нет, тут другое, а не любовь!» [8; 363]. Князь пытается объяснить своё чувство «жалостью» [8; 177], но подобное объяснение не удовлетворяет ни его самого, ни окружающих.
Такое же влечение к Настасье Филипповне испытывает и Рогожин, но объясняет его не «жалостью», а «ненавистью» [8; 177]. Однако и эта «ненависть» столь же необъяснима, как и «жалость» Мышкина.
Иррациональность чувств, испытываемых героями, чрезвычайно усиливается тем, что является для их обладателей источником страдания. Это означает, что они являются не обычными чувствами, а страстями, отличающимися от обычного человеческого чувства тем, что они способны полностью подчинить себе человека, лишить его свободы и заставить нарушить Божий и человеческий закон. Князь и Рогожин сблизились, потому что движутся к одному и тому же источнику страсти, подчиняясь его неодолимой власти. Природа этой власти враждебна человеческому миру и самой жизни, и оба героя это чувствуют. Князь говорит Рогожину о том, чем закончится его сближение с Настасьей Филипповной: «За тобою ей непременная гибель. Тебе тоже погибель…» [8; 173]. А Рогожин говорит о том же князю: «Жалость твоя, пожалуй, ещё пуще моей любви!» [8; 177], и Князь соглашается с ним: «Я знаю наверно, что она со мной погибнет…» [8; 363].
Достоевский показывает, что хотя страсть и заставляет героев страдать, она же является для них источником огромного сладострастного наслаждения. Для его удовлетворения Мышкин готов отдать свою жизнь: «Я отдал бы жизнь свою…» [8; 363], а Рогожин – отнять чужую: «Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь!» [8; 174]. Герои, каждый по-своему, пытаются отдалить неизбежное будущее или вовсе избавиться от него: Мышкин уезжает в путешествие по России, а Рогожин затворяется в своём доме-склепе. Но в конце концов страсть приводит Мышкина к Рогожину, и тот испытывает непреодолимое требование враждебной власти убить старого друга. Мышкин вполне мог стать тем мертвецом «под клеёнкой», которого «увидела» Настасья Филипповна в его доме. Но Рогожин любит Князя как «родного брата» [8; 185] и, желая его спасти, выводит из дома, чтобы уже на лестнице поменяться нательными крестами и стать его духовным братом.
Противясь враждебной власти, Рогожин отпускает Мышкина, давая ему возможность избежать гибели, но Мышкин, так же как и Рогожин, находится в плену страсти и уже не может управлять своей волей: «Чрезвычайное, неотразимое желание, почти соблазн, вдруг оцепенили всю его волю. <…> Мрачное, мучительное любопытство соблазняло его» [8; 189]. Попытка Мышкина спастись – вырваться из-под этой власти и уехать в Павловск – не удалась: «Почти уже садясь в вагон, он вдруг бросил только что взятый билет на пол и вышел обратно из воксала…» [8; 186]. Князь мучительно ощущает над собой власть страшной и тёмной силы. Его состояние в этот момент подобно состоянию Раскольникова, также осознавшего себя во власти неведомой силы и задыхающегося в её тисках: «Было душно, похоже было на отдалённое предвещание грозы» [8; 189].
Подобно Раскольникову, князь блуждает по Петербургу в поисках спасения, и даже пытается удержаться в мире живых, заговорив «было со встретившимся маленьким ребёнком» [8; 189] – символом чистоты и непорочности. Христос говорит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное…» (Мф. 18:3), но для этого князю необходимо освободиться от своей страсти. Однако сделать это самостоятельно, без помощи Божией, он не в силах. Православие учит, что эта помощь может быть дана только тогда, когда человек сам, первый, делает усилие ко спасению: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). И Достоевский указывает на приближение неизбежного: «Гроза, кажется, действительно надвигалась, хотя и медленно…» [8; 189]. Единственным спасением было бы освобождение от притяжения страсти: «Не хотел я ехать сюда! Я хотел всё это здешнее забыть, из сердца прочь вырвать!» [8; 180]. И в какой-то момент Мышкину кажется, что ему это удалось: «Теперь мрак рассеян, демон прогнан, сомнений не существует, в его сердце радость!» [8; 191]. Но это было лишь желаемым самообманом, потому что Князь продолжает двигаться в том же направлении – к своей страсти: «Он так давно не видал её, ему надо её увидеть, и… да, он желал бы теперь встретить Рогожина…» [8; 191].
И как только он сделал шаг назад, «с ним произошла опять, и как бы в одно мгновение, необыкновенная перемена: он опять шёл бледный, слабый, страдающий, взволнованный; колена его дрожали, и смутная, потерянная улыбка бродила на посинелых губах его: «внезапная идея» его вдруг подтвердилась и оправдалась, и – он опять верил своему демону!» [8; 192]. Как и Рогожин, в какой-то момент Мышкин прекратил сопротивление «немому и глухому духу», и сразу «странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более» [8; 193]. Крепко держа свою жертву, он привёл Мышкина под нож Рогожина, который тот поднял механически, как одна деталь машины поднимает другую – безвольно и безотчётно. И для него и для Раскольникова это действие стало лишь следствием ранее совершённого преступления Божьего закона, о котором Евангелие говорит: «В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:13–15). Судьбой своего героя Достоевский показывает ошибочность теории «естественного» человека, всё «совершенство» которого оказывается фикцией при столкновении с реальной, «живой» жизнью.
Сознавая силу художественного дарования Толстого и силу его влияния на общественное сознание, Достоевский стремится показать глубокую ошибочность проповедуемых им идей. Поэтому он наделяет своего героя именем и отчеством автора «Войны и мира», но меняет его графский титул на княжеский. А затем по принципу пародийной редукции подбирает фамилию – «Мышкин». В результате оказывается, что внешнее величие и значимость идей Руссо, проповедуемых Толстым, на деле оказывается мышиной ничтожностью. Намеренность контраста «лев – мышь» слишком очевидна, чтобы быть случайной, ведь Достоевский, при желании, вполне мог бы подобрать своему герою любую другую фамилию.
Напомним, что такой же приём писатель использовал при наречении жениха Авдотьи Раскольниковой, создав оксюморон из удвоенного имени (Пётр Петрович) и фамилии (Лужин). Заметим, что подобное художественное дезавуирование взглядов идейного оппонента не является для Достоевского чем-то исключительным. В своём следующем романе («Бесах») он открыто выступит против идей И. С. Тургенева, предельно узнаваемо спародировав его в образе Кармазинова.
Отношение Достоевского к Толстому всё же было намного мягче, чем к Тургеневу, которого писатель считал предводителем и идейным вдохновителем либеральной интеллигенции. Достоевский пристально следил за творчеством автора «Войны и мира», стараясь угадать направление духовного движения собрата по перу и надеясь, что рано или поздно Толстому удастся прийти к подлинно христианской вере. Полагаем, что эта надежда нашла своё отражение в том, что писатель отправляет Мышкина в глубокие уголки России для знакомства с ней и её народом. Сближение философа, интеллигента, аристократа с народной правдой должно было открыть ему истину и указать цель деятельности. Рабочие тетради писателя отражают развитие этой идеи: подобно самому Достоевскому, Мышкин особо интересовался преступлениями, как наиболее яркими показателями духовного состояния народа, он «много читал и слышал о данных вещах с тех пор, как въехал в Россию, он упорно следил за всем этим» [8; 190]. Причину такого внимания впоследствии объяснит прокурор в «Братьях Карамазовых»: «Множество наших русских, национальных наших уголовных дел свидетельствуют именно о чём-то всеобщем, о какой-то общей беде, прижившейся с нами, и с которой, как со всеобщим злом, уже трудно бороться» [15; 124].
Мышкин общается с трактирными лакеями, слугами, интенсивно изучает Россию, словно следуя завету Гоголя: «Нужно проездиться по России»[133]133
Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями / В кн.: Гоголь Н. В. Нужно любить Россию. О вере и Государстве Российском. – СПб: Русская симфония, 2007. – С. 205.
[Закрыть]. Ему кажется, что он многое начинает понимать, а ««впрочем, <…> трудно в новой земле новых людей разгадывать». В русскую душу, впрочем, он начинал страстно верить. О, много, много вынес он совсем для него нового в эти шесть месяцев, и негаданного, и неслыханного, и неожиданного! Но чужая душа потёмки, и русская душа потёмки; для многих потемки» [8; 190]. Своими впечатлениями он делится с Рогожиным: «Я, брат, тогда под самым сильным впечатлением был всего того, что так и хлынуло на меня на Руси; ничего-то я в ней прежде не понимал, точно бессловесный рос, и как-то фантастически вспоминал о ней в эти пять лет за границей» [8; 183]. Но в силу обстоятельств, о которых шла речь выше (затянувшийся идейный синтез и пр.), возможности развить эти идеи в романе у Достоевского уже не было, и он ограничился лишь репликой Мышкина: «Есть что делать, Парфён! Есть что делать на нашем русском свете, верь мне!» [8; 184].
Ещё раз подчеркнём: сатирический пафос Достоевского направлен не против Руссо или Толстого лично, а против проповедуемых ими идей, соблазнительная прелесть которых была способна развратить и увести с пути спасения многие духовно слабые умы.
Идея образа Парфёна Семёновича Рогожина в первой части романа не выражена. Известно лишь, что им движет страстное, непреодолимое влечение к Настасье Филипповне, которому подчинены все его мысли и поступки. Развитие любовной фабулы переводит сюжет русской идеи, с которого начинается роман, на второй план и делает его внутренним, почти незаметным фоном общего повествования. Это связано, с одной стороны, с тем, что яркость любовной интриги постепенно заслонила собой проблематику русской идеи, а с другой, – с тем, что из-за откладывающегося идейного синтеза сюжет русской идеи не мог найти своего дальнейшего художественного развития. Но полагаем, что есть ещё и третья причина. В какой-то момент Достоевский позволил себе увлечься новой идеей и совокупный образ семьи Епанчиных стал символизировать Россию так, как это делал в начале романа образ одного Рогожина. Тщательное раскрытие в собрании у Епанчиных внутреннего мира трёх сестёр и их матери должно было показать наиболее значимые черты русского национального характера. И лишь после идейного синтеза писатель возвращает образу Рогожина его символическую глубину. Мотив обладания Настасьей Филипповной сохраняется, но усиливается ненавистью, вызванной близостью и одновременно недоступностью объекта вожделения. Заметим, что чувство, испытываемое Рогожиным к Настасье Филипповне, является не любовью, а страстным влечением, со временем ставшим самоцелью – во что бы то ни стало завладеть Настасьей Филипповной.
Князь говорит Рогожину: «Твою любовь от злости не отличишь <…>, а пройдёт она, так, может, ещё пуще беда будет» [8; 177], но и сам Рогожин не считает свое «чувство» любовью: «Да не было бы меня, давно бы уж в воду кинулась; верно говорю. Потому и не кидается, что я, может, ещё страшнее воды» [8; 180]. Это хорошо понимает и Настасья Филипповна: ««У тебя <…>, Парфён Семёныч, сильные страсти, такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь, на каторгу, улетел, если б у тебя тоже ума не было, потому что у тебя большой ум есть» <…>. «Ты всё это баловство теперешнее скоро бы и бросил. А так как ты совсем необразованный человек, то и стал бы деньги копить, и сел бы, как отец, в этом доме с своими скопцами; пожалуй бы, и сам в их веру под конец перешёл, и уж так бы ты свои деньги полюбил, что и не два миллиона, а, пожалуй бы, и десять скопил, да на мешках своих с голоду бы и помер, потому у тебя во всем страсть, всё ты до страсти доводишь»» [8; 178]. Если, замечает Мышкин, «не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в‑точь как твой отец бы стал, да и в весьма скором времени. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги молча и сумрачно наживая. Да много-много, что старые бы книги когда похвалил, да двуперстным сложением заинтересовался, да и то разве к старости…» [8; 178]. Слова Князя почти дословно повторяют предположения Настасьи Филипповны о судьбе Рогожина и делают их более чем правдоподобными. Становится ясно, что образ Рогожина выражает идею консервативного эгоизма, полностью лишающего жизнь возможности какого-либо развития.
Эту мысль Достоевский подтверждает и иллюстрирует особым поэтическим средством – духовной картиной, образованной описанием жилищ героев. Так, в «Преступлении и наказании» он показывает духовное состояние Раскольникова через описание его комнаты [6; 25], давая ей символическое название «гроба» [6; 178]. Эта комната-гроб расширяется в «Идиоте» до размеров дома, раздвигая духовное пространство бытия Рогожина до размеров кладбища. Заметим, что всякий дом по своей природе – это, прежде всего, место, лучшим образом приспособленное для жизни человека. И Настасья Филипповна, помолвленная с Рогожиным, приходит к нему в дом, чтобы увидеть место своей будущей жизни, но видит лишь открытые врата смерти: «Дом мрачный, скучный, и в нём тайна. <…> Всё время, когда я была <…> в доме, мне всё казалось, что где-нибудь, под половицей <…>, может быть, спрятан мёртвый и накрыт клеёнкой…» [8; 380].
Полную адекватность дома духовному сознанию Рогожина автор подчёркивает тем, что Мышкин безошибочно узнаёт его среди прочих зданий Петербурга: «Один дом, вероятно по своей особенной физиономии, ещё издали стал привлекать его внимание, и князь помнил потом, что сказал себе: «Это, наверно, тот самый дом». С необыкновенным любопытством подходил он проверить свою догадку; он чувствовал, что ему почему-то будет особенно неприятно, если он угадал. Дом этот был большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зелёного. <…> И снаружи и внутри как-то негостеприимно и сухо, всё как будто скрывается и таится, а почему так кажется по одной физиономии дома – было бы трудно объяснить. Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну» [8; 170].
Однако внушительный фасад дома скрывает его внутреннюю пустоту, тождественную душевной пустоте его обитателя, – он не приспособлен для жизни, и жизни в нём нет. Более того, Рогожин живёт в своем доме не как хозяин, а как сторож – занимая одну отдалённую комнату и не прикасаясь ни к чему в других. Можно сказать, что он находится в доме, а не живёт в нём, потому что в этом доме нельзя просто жить. Достоевский подчёркивает это словами Мышкина: «Мрак-то какой. Мрачно ты сидишь…» [8; 172]. Рогожин именно «сидит», а не живёт. Жизнь полна движения, изменения, а то, что «сидит», – то неподвижно и неизменно. Именно так не живёт, а сидит в одной из комнат дома мать Рогожина – полумёртваяполуживая привратница на границе жизни и смерти. Она уже полностью принадлежит дому и является его неотъемлемой частью, тогда как её сын может ещё попытаться изменить свою судьбу.
И хотя Рогожин постоянно ощущает свою неразрывную связь с домом: «Я у себя. Где же мне и быть-то?» [8; 172], он знает, что кроме мрака смерти есть и Свет Жизни. Этот путь указывает ему Настасья Филипповна: «Ты бы образил себя хоть бы чем…» [8; 179]. Речь идёт о том, что если Рогожин действительно хочет вырваться из-под власти смерти, он должен восстановить в себе образ Божий. Следуя её совету, Рогожин начинает заниматься самообразованием, читать [8; 172]. Он ищет ответы на самые главные вопросы, открывающие человеку путь к жизни, обращаясь за их решением к Мышкину: «Давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога иль нет?» [8; 182]. Однако, подобно тому, как Рогожин не может дать Настасье Филипповне того, чего не имеет сам – жизни, так и Мышкин не может дать ему веры и тем самым обрекает на гибель.
Духовным сердцем дома Рогожина является картина, о которой Мышкин сказал: «От этой картины у иного ещё вера может пропасть!» [8; 182]. Речь идёт о репродукции с картины Гольбейна-младшего «Мёртвый Христос». Она находится в центре той части дома, где обитает Рогожин, в большом зале, над дверями, ведущими к выходу. Содержание картины Достоевский пересказывает словами Ипполита, который замечает, что на ней изображён не Богочеловек, чающий скорого воскресения, а просто труп человека. И «когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики Его, Его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за Ним и стоявшие у креста, все веровавшие в Него и обожавшие Его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже Тот, Который побеждал и природу при жизни своей, Которому она подчинялась…» [8; 339]. По существу, эта картина могла бы называться «Мёртвая (или убитая) жизнь», потому что Христос и есть жизнь (Ин. 14:6). Но главное заключается в том, что эта картина является квинтэссенцией западной идеи, как ее понимал Достоевский: в таком изображении смерти Спасителя отчётливо видна попытка западного мира упразднить Божественную сущность Христа и превратить Его в обычного (пусть даже и самого лучшего) человека. И само изображение того, как Он погребён, говорит об Его ненужности этому миру.
Картина заставляет дом Рогожина жить странной, неживой жизнью и одновременно запечатывает его пространство изнутри, преграждая путь всем, кто хочет его покинуть. И каждый раз, останавливая человека перед собой, она отнимает у него часть жизни как плату за желание уйти. Это чувствует не только Мышкин, но и сам Рогожин, говоря, что от взгляда на эту картину постепенно пропадает вера [8; 182]. Вера соединяет человека с источником живой жизни – Богом, и картина невольно открывает тайну дома Рогожина – в нём нет места жизни, и потому нет места и живому Христу. Но этот мёртвый дом ещё является и дверью в ад. Расположенный в самом центре Петербурга, на углу Гороховой и Садовой улиц, он является его духовным сердцем, местом обитания того «немого и глухого» духа, которого почти физически ощущал Раскольников, глядя на Петербург.
По сюжету романа Настасья Филипповна Барашкова находится в ситуации фатального выбора: она не может не выбирать между Ганей, Рогожиным или Мышкиным. Никакими естественными причинами эта ситуация не объяснена. Объективное положение героини таково, что она могла бы вполне безбедно и сколь угодно долго жить на средства, полученные от Тоцкого, и не выходить вовсе замуж. Полагаем, что категорическая необходимость выбора является средством указания на символическое значение этого образа. Во второй части романа Настасья Филипповна становится символом России, стоящей на пороге выбора, неизбежность которого обусловлена исторической закономерностью однонаправленности движения времени, и уже только потом – женщиной с трагической судьбой. Заметим, что фатальность выбора соединяется с эсхатологичностью, потому что уже до выбора его любой исход означает неминуемую гибель.
Напомним, что в первой части романа функция символического изображения России перешла от Рогожина к семейству Епанчиных, ставшему собирательным образом России. Иван Фёдорович и Лизавета Прокофьевна олицетворяют её безвозвратно уходящее прошлое. При этом Лизавета Прокофьевна, понимая неизбежность прихода новой жизни, пытается предугадать судьбу своих дочерей, символизирующих молодую Россию. Вместе с тем каждая из сестёр в отдельности выражает какое-то особое свойство этой будущей России, на что указывает значение их имён, тщательно подобранных писателем: Александра – «защитница», Аделаида – «благородная», Аглая – «красота, радость, блеск».
Аглаю отличает особая, чрезвычайно яркая красота, сближающая её с Настасьей Филипповной. Но их красота – разная, что сразу замечает Мышкин: «Вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть. <…> Красоту трудно судить <…>. Красота – загадка. <…> Почти как (курсив наш. – О. С.) Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое!..» [8; 66]. Лицо Настасьи Филипповны оказывается Мышкину необъяснимо ближе, чем лицо Аглаи, он не боится на него смотреть и даже не может оторвать глаз: «Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щёк и горевших глаз; странная красота!» [8; 68]. Аделаида замечает и главную особенность красоты Настасьи Филипповны: «Такая красота – сила <…>, с этакою красотой можно мир перевернуть!» [8; 69].
Но будет ли такой «переворот» благодетельным для мира, и так лежащего во зле (1 Ин. 5:19)? И Мышкин стремится определить этический вектор этой силы: «Добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!» [8; 32]. Так возникает одна из важнейших тем всего великого пятикнижия – тема этического оправдания красоты. Своей максимальной актуализации она достигает в словах Ипполита, обращённых к Мышкину: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасёт «красота»? <…> Какая красота спасёт мир? <…> Вы ревностный христианин? Коля говорит, вы сами себя называете христианином» [8; 317]. Напомним, что этот вопрос возникает уже после идейного синтеза, и Мышкин здесь во многом другой, чем в начале романа.
Соединяя вопрос о красоте с вопросом о вере, Достоевский указывает, что разгадку тайны красоты следует искать в христианстве. Очевидно, что речь не может идти о внешности Христа, и не столько потому, что Предание Церкви не сохранило о ней достаточно достоверных свидетельств. Божественная и человеческая природа соединились в личности Христа во всей своей полноте при бесспорном примате Божества. А так как «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:24), то, когда речь идёт о красоте Христа, речь идёт о красоте духовной.
В своём «символе веры» Достоевский говорит, что для него ничего нет в мире «прекраснее» Христа [28, 1; 176]. Раскрывая эту мысль, он писал: «Прекрасное есть идеал… <…>. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо» [28, 2; 251]. Преподобный Иустин пишет об этом так: «Абсолютная безгрешность олицетворена единственно во Христе, поэтому единственно в Нем олицетворена и абсолютная Красота» (115; 209). Высшим проявлением этой красоты Достоевский считал подвиг Христа: «Достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое я – и отдать это всё самовольно для всех» [20; 192].
Этот подвиг является естественным выражением Божественной сущности Христа: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:16), и «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Оканчивая земной путь, Спаситель сказал ученикам, что попросит Отца Своего послать им Утешителя, Духа Истины (Ин. 14:16). И Дух Святой пришёл на пятидесятый день после Воскресения Христа и остался с учениками, помогая и оберегая их. «Бога не видел никто никогда», – говорит Евангелие (Ин. 1:18), но верующим дано знать об Его постоянном присутствии по красоте окружающего мира. Размышляя об этом, Достоевский записывает: «Дух Святый есть непосредственное понимание красоты, пророческое сознавание гармонии, а стало быть, неуклонное стремление к ней» [11; 154].
В красоте Бог открывается как абсолютное Совершенство, радость понимания которого была доступна человеку лишь до грехопадения. В то время, ещё обладая и образом и подобием Божием, Адам мог общаться со своим Отцом лицом к лицу, и совершенство Бога было доступно и не опасно человеку. Но после своего преступления человек, сохранив образ Божий, лишился Его подобия, что породило мучительную внутреннюю расколотость и стремление преодолеть её.
Единственным способом восстановления первоначальной гармонии человека с самим собой, с миром и с Богом является обожение. Однако не все люди стремились и стремятся к восстановлению естественных отношений с Богом: к первородному греху они добавляют свои собственные, которые тяжким бременем ложатся на весь их род, с каждым поколением всё более умаляя способность человека к богообщению. Поэтому некоторые люди перестают ощущать красоту даже в её простых и очевидных проявлениях и утверждают, что красоты в мире вообще больше нет, что без неё вполне можно прожить, а если она всё-таки зачем-нибудь понадобится, то её вполне можно создать и без Бога. Такую красоту часто использует в своих целях враг Бога и человека, о чём и предупреждал Христос: «Да не обольстит вас никто <…>, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:3–5). Именно об этой красоте говорил и Достоевский словами Дмитрия Карамазова: «Красота – это страшная и ужасная вещь! <…> …И таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» [14; 100]. «Страшная, – продолжает Дмитрий, – потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я <…> очень необразован, но я много об этом думал» [14; 100]. Слово, использованное героем для своей характеристики – «необразован, – лучше всего выражает его духовное состояние. Живой душой он чувствует силу Красоты, но искажённый страстями и грехом образ Божий в нём не способен отличить Божественную красоту от бесовской обольстительной красивости. Достоевский напоминает, что борьба за души человеческие идёт непрерывно, и невозможно человеку, не имеющему ясных и твёрдых ориентиров, утверждённых на неколебимом основании Божией воли, преодолеть все соблазны и трудности, ждущие его на жизненном пути.
Но в этом случае речь должна идти об этическом содержании любой красоты. Не давая прямого ответа на вопрос о природе красоты Настасьи Филипповны, Достоевский выступает её апологетом, говоря, что она «ужасно страдала» [8; 31], а поступки героини по отношению к окружающим не дают повода считать её носителем зла. Напротив, говоря об Аглае Епанчиной, Достоевский уже после идейного синтеза делает два характерных замечания. Лизавета Прокофьевна говорит о дочери: «Девка своевольная, девка фантастическая, девка сумасшедшая! Девка злая, злая, злая! Тысячу лет буду утверждать, что злая! Все они теперь у меня такие…» [8; 266]; «Ну, эта, положим, со злости делала, <…>, потому что девка злая, самовольная, избалованная, но, главное, злая, злая, злая!» [8; 270]. А сама Аглая вспоминает, как в детстве убила из самодельного лука голубя [8; 203]. Это упоминание не может быть случайным. Достоевский был уверен, что события детства и последующие воспоминания о них сохраняются в памяти человека навсегда и во многом определяют его жизнь: «Надо было с детства более красоты, более прекрасных ощущений, более окружающей любви, более воспитания. А теперь: жажда красоты и идеала и в то же время 40 % неверие в него, или вера, но нет любви к нему» [9; 167].
В европейской культуре символическое значение образа голубя традиционно восходит к Евангелию: в событии крещения Христа так явил себя Дух Святой – третья ипостась Божественной Троицы (Лк. 3:22). И в поэтике Достоевского эта символика сохраняется. Так, воспоминание о голубе под куполом храма во многом удержало от грехопадения Подростка [13; 92]. А Алексей Карамазов сравнением с голубями указывает на ангельскую чистоту детей: «Голубчики мои, – дайте я вас так назову – голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на этих хорошеньких сизых птичек…» [15; 195]. Именно поэтому упоминание об убийстве голубя, сознательно (хотя и не вполне осмысленно) совершённом в детстве, имеет символи-ческое значение, указывающее на то, что красота внешности Аглаи не связана с источником добра – Богом.
Достоевский показывает, что причиной зла в душе Аглаи является гордыня: «Я хочу быть смелою и ничего не бояться. <…> Я уж давно хотела уйти. <…> Я хочу в Париже учиться; я весь последний год готовилась и училась и очень много книг прочла, я все запрещенные книги прочла. <…> Я <…> хочу совершенно изменить мое социальное положение» [8; 356, 358]. Итогом этого своеволия стала трагическая и изломанная судьба: «Она, после короткой и необычайной привязанности к одному эмигранту, польскому графу, вышла вдруг за него замуж, против желания своих родителей, если и давших наконец согласие, то потому, что дело угрожало каким-то необыкновенным скандалом. Затем <…> оказалось, что этот граф даже и не граф, а если и эмигрант действительно, то с какою-то тёмною и двусмысленною историей. Пленил он Аглаю необычайным благородством своей истерзавшейся страданиями по отчизне души, и до того пленил, что та, ещё до выхода замуж, стала членом какого-то заграничного комитета по восстановлению Польши и, сверх того, попала в католическую исповедальню какого-то знаменитого патера, овладевшего её умом до исступления. Колоссальное состояние графа, о котором он представлял Лизавете Прокофьевне и князю Щ. почти неопровержимые сведения, оказалось совершенно небывалым. Мало того, в какие-нибудь полгода после брака граф и друг его, знаменитый исповедник, успели совершенно поссорить Аглаю с семейством, так что те её несколько месяцев уже и не видали…» [8; 509].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































