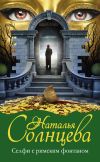Текст книги "Золотая чаша"
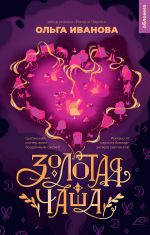
Автор книги: Ольга Иванова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Детский дом
Как ни любила я табор свой, сестер и братьев, а дитя всех дороже. Да и разве плохо: ни костра разводить не надо, ни воду с реки таскать, ни за конями ходить, ни гадать, ни просить… ни холода тебе, ни голода, ни тоски-скуки зимней… Чистота такая – глаз слепит! Ребятишки в чистеньких рубашонках да в платьишках, все разные, и белые, и черные, и поменьше, и постарше. А каждый любит, чтобы приласкали да пожалели.
Комнатушку мне там отделили в сторожке. За стенкой сторож, старичок дядя Кузя, а тут я. Коечка, столик, табуретка. А Петруша со всеми ребятишками в большой спальне.
Днем я мыла, убирала, малышей купала, поварихе помогала на кухне, а вечером детки вокруг меня усядутся, я им книжку Пушкина читаю, свои сказки рассказываю, а то песенки пою… Они перенимают по-цыгански, забава! А как спать улягутся, я к себе. Придет дядя Кузя, чай травяной с ним пьем, он про жизнь свою мне рассказывает, меня расспрашивает… Так дотемна проговорим да разойдемся.
Я все думала: вот окрепнет мой мальчонок, уйдем с ним табор догонять. Но держала меня чистота да сытость. К зиме жалованье мне положили – плохо ли! А главное – сынок уходить не хотел. Только заговорю: в дорогу, мол, пора, он в слезы. Жалела его… Он там двоих ребятишек полюбил, Митю и Русю-татарчонка, крепко подружился. Митя беленький, худенький, но такой шебутной! Глаз да глаз за ним! А Руся – тот чернявый, серьезный, характером не шибко бойкий, а голова светлая – с первого раза стихи запоминал.
Собака косматенькая на дворе жила, Белкой звали. Хвост колечком, голос звонкий! И вот какая: всех знала, и детей, и старших. Всех привечала. А как чужой какой идет – шерсть дыбом, зубы в оскал! А бегала везде только с Петрушей и его дружками, Митей и Русей. Когда ни глянешь – всё они вместе, всё втроем, и собака с ними! Они потом и на фронт втроем ушли… А с фронта уж один вернулся…
Бабушка замолкает, сжимает губы, прикрывает глаза. Слеза скатывается по морщинке на щеке. Я тоже плачу, утыкаясь в ее плечо. Плачу по папиной горькой фронтовой судьбе и по его погибшим товарищам.
Утром перед уроком я подхожу к Клавдии Николаевне, чтобы попытаться пересказать папино объяснение. Но быстро сбиваюсь и повторяю бабушкины слова про черную и белую душу. Она слушает меня серьезно, хотя уголки губ стремятся к улыбке, и едва заметно кивает. Звонок прерывает мою речь, а учительница успевает сказать:
– Я поняла тебя, Оля. Ты права.
По дороге домой я, как обычно, рассказываю брату вчерашнее бабушкино повествование. Он любит бабушку, как и я, но, в отличие от меня, бездельницы, слишком занят, чтобы просиживать вечера на ее кухне: футбол, стрельба, авиамодельный… Лешка умнее меня. Он и учится лучше, и на папиной гитаре играет, и все время придумывает что-то для облегчения нашей жизни. Например, приспособление в виде железячки с крючочками, чтобы ветер не распахивал форточку и не хлопал ею. Или ловкую такую подставочку для книг из велосипедных спиц.
Вот и теперь у него вздергиваются брови, в карих глазах вспыхивают хитрые рыжие искорки, и он торопливо говорит:
– Лёлька, вот что я придумал. Давай ему в день рождения книгу такую же подарим, а? Сказки Пушкина!
Я подпрыгиваю от восторга, признаюсь брату в любви и даже пытаюсь чмокнуть его в щеку. Он возмущенно уворачивается, мы с хохотом толкаемся и возимся на глазах у прохожих, которые почему-то улыбаются, глядя на нас.
Потом я соображаю, что негде взять такую книгу. Да и успеем ли денег накопить? Мама каждый день дает каждому по 10 копеек на школьный завтрак. Но если она обнаружит наши накопления – получим оба. Так уже было, когда мы копили на теннисную ракетку. Книгу вряд ли можно найти в магазинах. А вдруг повезет? Все книжные обойдем! Их у нас в городе всего-то три… В библиотеке наверняка есть, но не подаришь же библиотечную книгу!
Я делюсь Лешкиной идеей с бабушкой, не забыв предупредить о тайне. Она удивленно и радостно спрашивает:
– А найдете ли книгу-то такую? Поищите уж, поищите хорошенько! Я и денежек вам добавлю, милая ты моя!
Мы втроем пьем чай с вареньем, потом Лешка убегает на тренировку, а мы сидим на кушетке, и она тихонько напевает мою любимую песню. Про молодость и красоту.
Я спрашиваю:
– Бабушка, а потом-то что было? Так вы в детдоме и жили?
– Так и жили-поживали. С людьми познакомилась, подружилась. Вот повариха там была, Анна Кузьминична, дяди Кузи дочка. Высокая, статная, да такая громкая! Как загудит: «На обе-е-ед! Быстро все на обе-е-ед!» – ребятишки так и слетаются отовсюду, как воробьи на пшено!
У повара всегда соблазн – кусочек в сумку положить. Она никогда, уж я замечала! Нам положен был обед, а утром и вечером чай. Мы с ней, бывало, чай с малиной пили, она малину сушеную из дому приносила. От сирот ничего не отнимала!
Говорю ей как-то: научи булочки печь! А она мне: с получки купишь муки и сахарку, а я дрожжей и яичек захвачу, мои куры хорошо несутся. Мы с тобой вместе настряпаем и чаю напьемся!
Мука у нее на кухне была, и сахар был, но она никогда ни крошки не брала! Такая уж уродилась…
Директор Николай Степаныч, большой такой, солидный, в очках. С нами не слишком разговорчивый, а с ребятишками добрый. И по макушке погладит, и пуговку на вороте застегнет, и расспросит, что да как… Со старшими, бывало, кораблики мастерил… Я его поначалу боялась. Никто никогда мне «вы» не говорил, и я никому. А он все – «вы» да «вы»…
Как-то бежит ко мне Петруша:
– Мама! Мама! Тебя директор зовет!
Я прибегаю, стала перед дверью кабинета, а войти боюсь. Петруша меня подталкивает:
– Что ты стоишь, мама! Срочно просили!
Тут дверь открылась, директор говорит:
– Входите, Ольга, не стесняйтесь! Я вот о чем хочу вас попросить: вы ведь с Наум Наумычем знакомы? У нас девочка заболела, Катя Баранова. Сходите к нему, пожалуйста. Я вот записочку напишу.
Пишет, а я кабинет разглядываю. На полках книги, книги… Когда столько перечитаешь?! На столе бумаги, газеты, чернильница большая, каменная, а над столом портреты Сталина и еще мужика какого-то – глаза строгие, брови сдвинул, бороденка чудная…
Я осмелела, спрашиваю: это кто, мол? А это, говорит, главный учитель всех учителей, Константин Ушинский.
Взяла я записку, побежала. Путь неблизкий – полгорода пройти надо. Успела булочек захватить, что мы с Анной Кузьминичной стряпали, няньку Марью Макаровну угостить. Вкусные, мягкие!
Обратно уж вместе с Наум Наумычем. Он меня обо всем расспросил, пока шли, а у ворот остановился, взял за руку и сказал:
– Ну вот, видишь, Лёля, как хорошо все получилось! И Петя учится, и ты при деле! Неужели ходить гадать лучше?
– Ой, спасибо за это все, доктор дорогой! А все же скучаю я по родным. Где их теперь искать? Свидимся ли еще?
– Ничего, Лёля, не расстраивайся! Родня твоя еще будет здесь. Если что услышу – сразу к тебе приду, скажу. Или пошлю кого.
Но вот и Петруша подрос, а табор мой так в городе и не появился. Другие таборы были, я людей спрашивала, видели наших, да все стороной они ходили… Видно, за детей боялись, что заберут.
Вроде и привыкла я к новой жизни, а тоска мое сердце грызла… Уже совсем было решила уходить, своих искать. Думаю, вот завтра скажу директору, да и пойду.
Вечером ребятишек укладываю, песенки им пою… Петруша подпевает. Смотрю, директор стоит в дверях, улыбается. Я застеснялась, а он:
– Как же вы хорошо поете, Ольга! И Петя весь в вас, прямо соловушка! Знаете что? Давайте мы его в музыкальную школу определим?
Сердце мое враз растаяло! А Петруша обрадовался, как цветочек расцвел!
Стал сыночек музыке учиться. Так и не ушли мы с ним никуда.
Однажды зимой мы с ребятишками снег у ворот чистили. Подходит директор.
– Зайдите, – говорит, – Ольга!
Я обмерла: чего случилось? А он:
– Вы лошадей хорошо знаете? Нужно нам еще одну лошадь купить, да я ошибиться боюсь. Съездите со мной на базар?
Мне лестно было! Никого не попросил – меня только! Запрягла поутру Чалку, соломы побольше в сани бросила, поехали. Дорога неблизкая, морозец. Лошадка рысит, мы сидим с ним, разговариваем. Он меня о цыганской жизни, о таборе расспрашивает, а я его о семье, о жене, о детках – двое у них было, мальчик постарше, а девчушке пятый годик шел. А жена красивая, загляденье! Воспитательницей при детдоме была. Наташей звали. Коса что твое золото! Бровки стрелочками, глазки как цветы синие, руки белые, плавные, ласковые!
Едем, слышим: машина нас догоняет. Это сейчас машин много, а до войны у нас это редкость была. Я прямо в снег свернула – дорога неширокая, пропускаю. Проехал грузовик, мимо нас не скоро ехал, мы все рассмотрели. Полон кузов мужиков в черных телогрейках, все угрюмые, исхудавшие, бледные. На телогрейках нашиты тряпочки, а на них буквы и цифры. По углам сидят солдаты в тулупах, с ружьями, а рядом с ними, из кузова, собачьи морды высовываются. Один нам что-то крикнул, не разберешь, двое-трое засмеялись, остальные молчат. Вижу, у Николая Степаныча лицо суровое стало, как окаменелое. Спрашиваю:
– Кто это? Арестанты, что ли?
– Да, – говорит, – заключенные. Здесь лагерь недалеко, километров шесть. Построили несколько лет назад, да не учли, что места болотистые, дороги надо с умом делать. Машины вязнут. Прошлый год дождливый был, и совсем ездить нельзя. Чуть людей голодом не заморили. В другом месте построили, подальше уже. Вот теперь перевозят.
– Что ж они, воры?
– Может, и воры есть, а больше по политическим статьям.
Что-то где-то такое я слышала. Политические – это которые Сталина не любят. За что не любят, не знаю. Стала спрашивать директора. Он мне и рассказал, кто они такие. Сижу, задумалась: а может, так же, как с беспризорниками, обманывают, не знает Сталин, что хороших людей забирают его солдаты? Спросила. Вздохнул, рукой машет:
– Может, чего и не знает… А должен знать. Должен знать, что в его стране творится.
Дальше уж мы бесед не вели, молча ехали…
Вот приехали на базар, в конные ряды. Ходили-ходили… Или лошадь неказистая, или хозяева цену ломят. Он, чудак, увидит мастистую, где грива попышней да хвост подлиннее, показывает мне: может, эту? Я покажу: у этой козинец, а у этой жабка, а у этого копыто плоское, а этот старый, зубы-то посмотрите! А этот норовист, нам такого нельзя, у нас дети!
Тут вижу: цыганские ребята каракового меринка продают. Ну всем хорош! Молодой, крепенький, грудь широкая, характером покладист. Подошла, цену спросила. Они меня давай расспрашивать, чья, откуда, с кем живу-кочую. Я им отвечаю, а сама коня рассматриваю – хорош! Николай Степаныч стоит смотрит. О чем я с ними, не понимает, глаза растерянные, раздумчивые.
Стала я цыган уламывать, чтобы цену скинули. Молодой, вижу, согласен, да все на старшего поглядывает. А старший говорит:
– Не мой это мерин. Не могу цену сбросить. Хозяин не велит.
Уж солнце к закату, а я все стою, торгуюсь, спорю! Николай Степаныч тронул меня за рукав: пора, мол. Так бы и уехали ни с чем, да тут еще цыган подъехал верхом, хозяин, значит. Спешился. Высокий, красивый, глаза большие, полушубок нараспах, под полушубком рубаха алая. Я к нему:
– Сбрось цену, брат! Для детей, для сирот берем!
Торгуюсь, а он все выведывает про мою жизнь, что да как. Потом говорит, шутит вроде:
– Приеду к твоим гадже тебя, вдовушка, сватать!
А я ему:
– Не пойду за тебя! Жадный ты и сирот не жалеешь! – Тоже вроде как в шутку.
Глазищи вытаращил, рот открыл… Ругаться, думаю, будет. А он поворачивается к Николаю Степанычу, по-русски говорит:
– По рукам, начальник! Согласен цену сбросить! Отдашь за меня цыганку?
Тот на меня смотрит, смеется, руками разводит!
А я обрадовалась, что коня недорого берем, скорее отвязывать! Деньги сама у директора забрала, сама пересчитала, чтоб не обманули торгаши-барышники. Директор бумагу достал, говорит цыганам:
– Прочтите, подписать надо, деньги казенные.
А они ему:
– Неграмотные мы, сам, что надо, напишешь.
Я его за рукав тащу, не передумали бы! Меринка скорее к саням привязала, домой едем. На душе весело! Смотрю, и Николай Степаныч улыбается. Темнело уж, луна взошла большая да светлая, небо в звездах, все синё вокруг, красота! Полдороги проехали – опять машина встречь, огнями светит. Опять арестанты политические. Опять закаменел директор мой.
Домой по ночи приехали – ребятня не спит, коня ждут! Налетели, шум, смех, крик! Как назвать меринка, спорят, морковку ему тащат, гладят, в храп целуют!
А цыган тот – Демидкой звали – и вправду сватать меня приезжал. С директором разговаривал, отдай, мол, цыганочку вдовую. Ребятишкам леденцов привез, каждого оделил. И все конями своими хвастал. Только не могла я забыть родного своего Лукашеньку. Вдова, так уж вдовой и осталась. Да и от сына уехать не могла, хоть он тогда уже большой вырос. Учебу бросать не хотел.
Лагерь
Зима прошла, лето прошло. По осени было: я двор мела, листву убирала, смотрю – кто-то верхом прискакал. Выхожу за ворота: Демид! Говорю ему:
– Ну чего ты ездишь? Сказано же: не могу пойти за тебя, сердешный, не могу отсюда уехать!
– Не затем я, Лёля, – говорит, – в селе за лесом твой табор стоит! Там и зимовать думают.
У меня сердце так и зашлось! Демидка подает мне узелок с гостинцем, а я его из рук роняю: растерялась, разволновалась!
Объяснил мне, что село то недалеко; если напрямую, через лес – и совсем рядом. Только надо в обход, по дороге. Через лес нельзя, места гиблые. Нала́чо (нечистая сила) в лесу балует. По дороге дальше, да спокойнее. Утром выйдешь, к вечеру доберешься.
Побежала я к директору – разрешите, мол! Он говорит:
– На два дня отпущу, а больше нельзя. Дорогу-то знаете? Смотрите через лес не ходите! Харчей возьмите с собой. Путь неблизкий.
Утром, еще по темноте, побежала я, как цыган указал. Белка за мной увязалась. Я ее гнать не стала – вдвоем веселей. Дорога пустая, ни телеги, ни путника. Солнце поднимается, деревья листья роняют, и каждый листочек на солнышке светится. Красиво! А на душе нехорошо, сердце ноет, будто беду чует. Смотрю – малая дорожка повела направо от большой. Постояла еще, подумала: ну куда она может повести? Да в село! А куда еще?
Белка хвост задрала и по этой дорожке побежала. Весело так! И я за ней. Заметила: когда я свернула, солнышко мне в затылок стало светить. Вот и ладно. Если что не так – вернусь.
Узкая дорожка еще красивей широкой, желтой листвой посыпана. Птички чирикают. Смотрю – оленуха в кустах стоит, вроде и не боится. Я к ней, она повернулась и запрыгала от меня, только белое «зеркало» под хвостом мелькает. Дальше прошла – рябчики свистят, прямо над головой, вспорхнули, три пестренькие птички сразу. Белка зацокала. Зверье будто непуганое.
Солнышко высоко поднялось – отдохнуть решила. Присела на бревнышко, как раз у ручейка. Развернула узелок, что мне наша повариха положила. Хлеба краюшка – пополам с Белкой, два яичка, яблочко. Мне больше и не надо. Поела, воды из ручья попила, отдохнула, пошла дальше. Только вот беда – тучка набежала, солнце спрятала. А за маленькой тучкой большая накатила, потемнело все. И тревожно так на сердце стало!
Дорожка совсем сузилась, тропиночкой стала. Я все иду. Шла-шла – вот и вечер пришел, темнеть начало. Туда ли иду? К вечеру я в селе должна была быть, если по дороге!
Что ж делать – ночевать в лесу мне не привыкать. А утром, глядишь, солнышко выглянет, уж я не заблужусь!
Хворосту на всю ночь собрала, костерок запалила, веток настелила, присела отдохнуть. Никогда я леса не боялась. Как цыгане говорят: «Вэ́шоро – да́доро, я́гори – да́ёри» (Лесок – батюшка, костерок – матушка). А в этот раз боязно что-то было. Ночка темна, в небе ни луны, ни звездочки! Собака возле меня, бочком прижимается. От костра круг светлый, а за ним – чернота, будто не в лесу, а в ночном безлунном небе костер горит. И уж так неспокойно мне было, хоть плачь! Помолилась, головню из костра взяла, туда посвечу, сюда посвечу – ничего не видать! Сова ухнула, ветка хрустнула… Лес будто вздыхает тяжко… Будто стон человеческий раздается… Да такой скорбный, такой протяжный, такой страшный… Белка насторожилась, ушки торчком подняла, прислушивается. Я на нее смотрю – что там, Белочка? Человек бы к костру подошел, а зверь от костра ушел бы. Она поднялась, шерсть на загривке дыбом, хвост закрутила. Постояла чуток, да в лес прыжками. Взяла я в руку палку большую, но палка не ружье, от лиха не отобьешься! Слышу – лает. Зло так! Ох и нехорошо! Хуже нет бояться, когда не знаешь, чего боишься! С полчаса прошло. Я молитвы шепчу, прошу Господа уберечь меня. Слышу – бежит. Собака ли? Или напасть какая? Прибежала моя Белка, шерсть мокрая, дрожит, ко мне жмется, скулит тихонько. Кто ж ее, бедную, перепугал-то так?! Неужто налачо? Вот уж тут меня такой страх взял – и не рассказать!
Осенняя ночь – не летняя, темная да длинная. А мне она такой длинной показалась!
Но вот чуть посветлело за деревьями, смотрю, куда идти. Солнце встает. Думаю, сейчас той же тропкой выбираться стану. И что же? Нет тропинки! Ну вот же, была, пока я хворост собирала, – и нету! Побродила, поискала – нет! Что ж делать, выбираться-то надо! Иду, а лес все гуще, все непролазнее! Взобралась на высокий пригорок, осмотреться сверху. Солнышко сквозь деревья проглянуло. С одной стороны лес пореже. А понизу туман стелется. Смотрю – сквозь туман вроде село видать! Только совсем не в той стороне, куда я шла. Или не село? Крыши какие-то. Я туда. Белка не отстает. Село не село, а люди там должны быть, спрошу дорогу. И только про дорогу подумала, как на дорогу и вышла. Только давно она не езжена, не хожена, ни следочка. Прямо к воротам привела. Только ворота на одной петле болтаются, покачиваются, поскрипывают. А забор длинный, поверху проволока колючая, рваная вся, сквозь туман вышку видно. Да ведь это лагерь пленный! Только, видать, брошенный. Все нараспашку – ворота, бараки, нигде ни души. Жутко, а все же, думаю, зайду гляну. Вдруг есть кто?
Пересилила себя, зашла в барак. Ничего. Нары в два ряда, тряпки какие-то валяются. Выхожу на свет божий. Туман все гуще, все непрогляднее. Чую – кто-то смотрит в спину. Прямо насквозь пронзает! Замерла, перекрестилась, заставила себя оглянуться. Едва не закричала! Там, где туман клубится, стелется, склонился, будто с облака, страшный большой человек! Повис в воздухе, наклонился и руку тянет ко мне! Сердце замерло, дыхание остановилось! Ой, Дэ́влалэ (Боже)! Это же памятник! Это же Сталин! Стоит на своей тумбе покосившейся, потому и руку ко мне тянет. А я думала, человек живой!
Вдруг Белка лаем залилась, в глубь лагеря бросилась! Я, сама не своя от страха, со всех ног назад, в ворота скрипучие да по дороге нехоженой! Оглянуться не могу, сердце того гляди из груди выскочит!
Собака меня догнала, вперед умчалась. Так и не знаю, на кого она брехала. Когда я совсем уж бежать не могла, споткнулась о камень, упала на развилке дорожной. Гляжу – лошадиный след в грязи. Поднялась, по следу пошла. Долго шла. Набрела на ручей лесной, а через него мосток и тропка. Значит, жилье недалеко. Помаленьку к селу вышла. Как увидела дома – слезы хлынули: неужто выбралась?
Табор свой разыскала, уже сил не было. Так и упала у костра. Все сбежались, один воду холодную в кружке принес, другая чай горячий. Сначала я говорить ничего не могла, только плакала. Отдохнула немножко, рассказала все цыганам – как живем с Петрушей, как работаю, и как по лесу плутала, и про лагерь пленный, и про памятник. Ой, уговаривали остаться! Выкрадем, говорят, Петрушу, уедем! А я – нет, нет, не могу, не хочу. Бабушка Софья вступилась: пусть парнишка учится и при матери живет. Большой человек у цыган будет! Потом рассказали:
– Как ты Петрушу увезла, уехали казенные люди – испугались заразы. А на следующий день как собаки по следу догнали. Кони у них бодрые, быстрые. Так бы и забрали детей, да бабушка Софья беду отвела… Она всю ночь колдовала, вокруг костра ходила, юбкой махала, воду в золотую чашу через руку лила, угольки в нее бросала, шептала, бормотала… А как нагрянули в табор гости незваные, подошла с чашей к их старшему. Не тот уже был, что коня тебе дал, другой. Все кричал, все командовал.
– Ну-ка, – говорит, – старшой, глянь-ка, что в воде увидишь? – И брызнула ему в лицо.
Он разозлился, скривился.
– Ничего, – говорит злым голосом, – вода да вода! Отойди, старушка, не мешай!
Мы все застыли – поможет бабушкино колдовство? А она смотрит ему в глаза, наступает на него, говорит тихим голосом:
– Уводи свое войско, уводи за реку, за гору, за большую дорогу!
Он было засмеялся вроде, она снова:
– Уводи! За реку, за гору, за большую дорогу!
Видим, он замолчал, смотрит. А бабушка в третий раз:
– За реку, за гору…
Затих, попятился, в седло вскочил. Да нет, не вскочил – влез, вскарабкался, будто ослабел враз. Потом коня повернул, хочет своим закричать, а не может: голос тихий, слабый. Рукой махнул и поехал от нас. Бабушка водичкой вслед ему плеснула, перекрестилась. А за ним и все его солдаты уехали. С ними и беда ушла.
Переночевала я у цыган в гостях, а утром братья поехали меня проводить на конях. Верхом-то быстро.
Приезжаем, вижу: пока меня не было, что-то случилось плохое. Никто не встречает, только сынок выбежал, калитку открыл. Я с седла соскочила, он бросился ко мне, обнял:
– Мама, ты вернулась! Я так ждал!
– Что случилось у вас здесь, Петрушенька?
Он губы скривил, вот-вот заплачет:
– Мама… у нас… Николая Степаныча забрали! И Наталью Антоновну! Ночью приходили, забрали! Я не спал, тебя ждал. Все видел! И Митя с Русей видели… Мама! Погадай, вернется он?
Вот что сердце мое чуяло, вот почему печаль душу мучила! Кинула я на картах, а сама и без карт знала – не вернется голубчик наш Николай Степанович. Никогда не вернется!
Ребятишкам я наоборот сказала: ждите, приедет!
Потом узнала, что и Наум Наумыча забрали. Плакала долго. Такого человека загубили, души черные!
А Наташу после как-то встретила на вокзале в другом городе: стоит сгорбленная женщина в старом выцветшем платьишке, волосы седые острижены коротко, лицо в морщинах… Только по синим глазам и узнала… И она меня узнала, расплакалась… Народ вокруг смотрит, как мы с ней обнимаемся да плачем… цыганка с русской старухой…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.