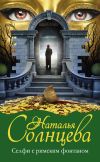Текст книги "Золотая чаша"
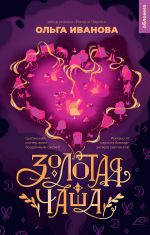
Автор книги: Ольга Иванова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Медведи
И вот Рождество пришло, снова ярмарки! И будто не так холодно! Музыка у артистов – свирель да флейта, да наши на гитарах подыграют! И акробаты их Сережка с Матрешкой, будто без костей, прыгают, как зайцы по снегу, кувыркаются, как белки на деревьях! И собачка беленькая на задних ногах кружится, под флейту поет – подвывает тоненьким голосочком!
А уж как ворону все удивлялись! Ведь разговаривал! То спросит «Почем товар брал?», ответят ему – захохочет по-человечески да приговаривает: «По такой-то цене только дураки берут!» То зазывать начнет: «А ну, сюда, народ, а вот здесь весело!» То закудахчет, как курица, то командует «Запр-рягай!», «Распр-рягай!».
Куда нашим, с танцами да песнями!
Старухи поначалу недовольны были: где это, мол, видано, чтобы девка в короткой индараке вверх ногами скакала! А заработки пошли у нас по ярмаркам, так и старухи унялись. Артисты музыку играют, акробаты с собачкой кувыркаются, наши с гитарами поют, пляшут, я гадаю девкам и бабам, а народ вокруг веселится…
На деньги артисты не жадные были, сколько соберем – муки, сала, лука купим, молока детям, другой раз яблок, каштанов или орех, а то сахара или меда – что еще надо? Я на всех шутлагу варила из картошки, лучка дикого и щавеля, там его полно растет. Ели мы только раз за день, а вечером чай травяной или шиповный пили, раньше все пустой, а тут с сахаром. Детей молочком поили, яблок, изюма или ежевики сушеной пожевать давали. По праздникам церковным пирог пекли.
Знаешь, Лёлушка, как цыганский пирог стряпать? Непростое дело! Сначала надо ямку выкопать и в ямке долго костер жечь, пока земля не раскалится. А пока горит, замесить тесто. На доске раскатать его тоненько, потом начинку положить: яблоки или лук печеный, картошку резаную, травки разные. В тех краях съедобной травы много, да вкусная, да сочная, другой раз на ней одной и держались… Вот завернешь в тесто начинку, сверху листья лопуха в три слоя, и оставишь на солнышке. А пока из костра угли выгребешь, перекрестишься, чтобы Господь помог, положишь пирог в ямку, а сверху золу, а на нее угли горячие и еще дров на часок… Как я любила такой пирог!
А бывали дни, когда не то что пирогов, хлеба куска в таборе не было… Бывало, бывало… Самое плохое для цыганки – слышать, как голодные дети плачут! Другой раз думаешь – сердце бы себе вырвать да им разделить! Но тогда хорошо было. Сытое время – счастливое время!
Стал нас Иваныч уговаривать медвежонка у охотников купить. Хороший медведь весь табор кормит – это я давно знала. Когда маленькой была, ездили мы с мамой в большой город, а там встретили чужих цыган, не табор, а так, семью кочевую. Двое мужчин, а с ними две цыганки молодые да мальчонка. И был у них медведь да две собаки, большая и маленькая. Понимали всё, как люди. Что им хозяин закажет, то делают. И на задних ногах с зонтиком гуляют, и через веревочку скачут, и в зубах трубку держат, и денежки в шляпу собирают… А платили им за такую работу немало! Только монетки звякают! Так цыганки в шелковых шалях, в красных башмачках, как городские барышни. А мальчонка золотой крестик на шее носил. Мой крестный батюшка тоже умел медведей выучить. Только чем их кормить, детям-то не хватает!
Но вот с русскими артистами стали мы получше жить. И решили старики купить медвежонка. А купили по весне двух сразу. Обе медведицы, девки, как крестный говорил. Мороки с ними – хуже, чем с детьми! Одна совсем черная (так и назвали – Кали́ (черная)), сильно крикливая была, по ночам спать не давала и из всех только Матвея признавала да большую собаку Мурзю. А вторую назвали Лоли́ (красная), рыжиной отдавала.
Крестный все беспокоился: вырастут, мол, чем кормить будем? А вот поначалу-то наоборот получилось! Научили медвежат плясать, кланяться, денег просить, по ярмаркам, по селам, по городам.
До тех цыган, у которых звери все умели, нашим косолапым далеко было! А все же хорошо табор зажил. Никогда раньше такого не было, чтобы каждый день еды вдоволь. И ребятишки веселые, не плачут, а пляшут. На ярмарке калачей им купим, квасу или сладкого сбитня. Цыганки молодые хоть и не в шелка, а все же приоделись. У одной индарака новая, у другой платок, у третьей бусы. А мне муж жакет бархатный купил. Уж как я радовалась!
Когда медведи маленькими были, колобками-медвежатами, предупредила бабушка Софья: беда впереди! Уж она-то умела разглядеть, что нас ждет. Но легкие деньги нам головы заморочили и глаза затуманили.
Одна медведица, что посветлее, была покладистая. А с Кали просто сладу никакого! Так и смотрит, кого бы прикусить!
Вот один раз приехали на ярмарку. Артисты русские тогда уже ушли от нас, их в настоящий цирк позвали работать.
Ярмарка шумит, наши ребята на гитарах играют, мы с сестрами поем-пляшем. Медведи играют-танцуют, народ вокруг веселится! Лоли мы отпускали без привязи, она смирная была. А Кали на цепи у Матвея, нельзя отпускать, может и поймать кого. Народу много, кричат, смеются, денежки Ваське в шляпу бросают.
Мы всегда смотрели, чтобы чужие близко к медведям не лезли. И не усмотрели! Пьяный мужик черную за ухо рукой своей биндюжьей хвать! Она как взревела, как взвилась! Если бы отпустили – не жить тому мужику. А Матвей держит, цепь к себе тянет. На Матвея она и напала. Свалила, сгребла! Цыганки завизжали, я громче всех! Бросились ребята, Васька сунул ей кнут в пасть, она грызет его, а лапами парня ломает. Вокруг крик, визг, рев! Исхитрились ребята, оглоблей прижали медведиху к земле. Матвей живой, в крови весь. Привязали крепко-накрепко зверя к дереву, примотали цепью. Мы с сестрами своими платками перевязали парня, заплатили крестьянину, что расторговался на ярмарке, чтобы увез до табора на телеге. Оглянулись – а где же Лоли? Нету! Испугалась крика-визга и убежала.
Васькина шляпа пустая валяется, денежки по земле рассыпаны, их чужие мальчишки подбирают. Да бог с ними, с деньгами, да и с медведицей, Матвейку жалко! А он стонет, кровью истекает сквозь доски телеги. По кровавому следу несется Кали на привязи, а следом мы бежим. Привезли парня в табор, старухи лечили как могли. Не дали помереть.
А медведицу на следующий день продали в цирк. Нельзя уже ей с нами – она цыганской крови попробовала. Кровь у цыган горячая да сладкая. В таборе детей полно, несмышленые, непослушные – не дай бог подлезут.
Медведя жалко, а детей жальче.
Время пришло – в дорогу тронулись.
К вечеру остановились у реки. Солнышко к закату, отдохнуть надо.
Недалеко крестьянский покос, костерок горит, дымок поднимается. Думаем: попоем для крестьян, попляшем, может, хлеба дадут. Пошла я первой, узнать, что за люди. Издалека слышу: мужики говорят, бабы смеются. Хороший знак! Кто-то косу точит, оселком звенит. Маленький заплакал, его успокоили сразу – наверное, пряничек дали.
Сразу видно – люди добрые.
Подхожу ближе. Они меня увидели, друг друга толкают – смотри, мол, цыганка! Никто не ругается, не гонит.
И вдруг как враз заголосили все, как завизжали, детей похватали, от костра вскочили, бежать! Мимо меня, и голосят, голосят!
Что случилось?!
А у костра стоит во весь рост на задних лапах медведь!
Да ведь это наша Лоли! К костру пришла, к людям. Голодная, наверное. Думала – угостят. Откуда ей знать, что люди медведей боятся?
Я обрадовалась, позвала ее, она галопом ко мне, башкой своей здоровенной прижалась, стоит пыхтит горячим дыхом.
Бедная ты моя! Сняла я платок, на шею ей повязала да и повела. Слышу, кричат:
– Цыганка медведя поймала! Цыганка медведя ведет! Заколдовала! Заворожила!
Иду мимо них, сама еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Лоли на них оглядывается – чего, мол, испугались? А они замерли, смотрят, крестятся… Бабы в белых платочках, мужики в белых рубахах… Только дите какое-то все плачет, боится.
Привела медведиху в табор, наши сбежались, столпились, радуются, кричат, хохочут! Даже Матвейка встал, на палку опирается, а сам смеется. Она тоже радуется, ластится ко всем, к Матвею особенно. А в сторонке гадже стоят, таращатся.
Накормили Лоли нашу, я крестьянкам и говорю:
– Дайте нам хлеба! Видите, все, что у нас было, медведю скормили, чтобы он вас не съел.
Побежали, принесли и хлеба, и картошки, и квасу, и молочка, и огурчика! А Лоли так с нами и кочевала. Много дорог прошла. На ярмарках плясала, денежки зарабатывала. Никого не обидела, не куснула, даже не рыкнула ни на кого ни разу.
Эвакуация
Перед самой войной наши старшие ребятишки учиться дальше пошли. Петруша, Митя, Руся… В общежитии в одной комнате все трое. Я к ним каждый выходной бегала, булочки носила. Они любили…
Война началась, прощаться пришли. Все на фронт. Им по годам рано было, да они что-то там приписали…
Я им еще наказывала: вы, мол, там вместе держитесь, помогайте друг другу!
Детский дом эвакуировали. Поплакали мы с Анной Кузьминичной, харчи упаковали, деток собрали…
Новая директорша молодая была, перепуганная вся… Хорошо, что с нами учителя школьные поехали с семьями своими, с детьми да со стариками. Мужики-то все воевать ушли.
Вот едем в поезде, день, второй. Детям интересно, в окна смотрят, щебечут, как воробышки. Девчушка там была лет десяти, Танюшка Васильева. Она родных не знала, не помнила. А я свою кровь сразу почуяла: вроде и глазки серые, и лохматушки на голове русые, а голос наш, цыганский. Я запою, она подтянет, да так ловко, так ладно!
Вот так сидим с ней, обнялись, поем. Все слушают, и наши детдомовские, и чужие, смотрю, в проходе толпятся. Вдруг Танюшка в окно показывает, кричит:
– Смотрите, домики едут!
Я глянула, так и обмерла! Табор! Мой табор! Вон чубарая, вон вороная, вон Маркушка бежит, а вон сестричка Зорюшка платок уронила, подняла, встряхнула… Бредут лошадки, катятся кибитки… Не спешат. Поди и не знают, что война по пятам идет.
Все к окнам бросились, смотрят, обсуждают, любопытно всем – и деткам, и взрослым.
И вот найдется же человек, который громче всех закричит: и воры они, и грязные, расстрелять их всех! Усы рыжие тараканьи топорщит и ругается!
Вот только что стоял, песни мои слушал – и тут же речью своей дурной ребятишек смущает, забивает грязью головенки несмышленые!
Как подскочит к нему Анна Кузьминична, как глянет на него глазом своим прищуренным, как загудит зычным голосом:
– Это тех расстрелять надо, кто фашистские речи здесь ведет! А ну, замолчи, вошь базарная!
Да еще дядя Кузя из-под бровей косматых смотрит, клюкой грозит!
И ребятишки вроде ничего еще и не смыслят, а тут глазенки сердитые, со всех верхних полок так и сверлят дядьку этого.
Враз сник. Попятился, попятился и делся куда-то, как растаял. Только усы рыжие помаячили.
Поезд бежит, не останавливается. Меня еще спеть просят. Да как же я спою, когда душа моя уже не здесь – там, в передней кибитке! Сижу, губы кусаю… Даже и сидеть не могу. Нет, не перебить мою думку! Ничем не перебить!
Анна Кузьминична сразу смекнула:
– Что, Лёля, к своим тянет?
– Тянет, – говорю, – сойду, наверное. Вас теперь немало, справитесь.
Сошла на станции. Деток перецеловала, с Кузьминичной обнялась, директоршу попросила не сердиться. Она глазами похлопала, платочек достала и слезы мои утирает…
И пошла я навстречу табору. Весь день шла. Машины едут, меня обгоняют, солдаты поют, руками мне машут. Ах, сыночки, кто из вас живой вернется? Кого мамки с войны дождутся? Ах, беда, беда какая лютая! Страшнее беды не бывает!
У речки остановилась отдохнуть, у мосточка костерок развела. Сижу, на огонь смотрю, ворожу себе потихоньку. Машины с солдатами подъехали. Ребята высыпали водички набрать, умыться. Молоденькие все, веселые, шумные! Один ко мне подошел, присел рядом. Шейка тонкая, щеки розовые, из-под пилотки чубчик беленький.
– Здорóво, тетя цыганка! Погадай мне, а?
– Здравствуй, сынок! Давай ручку, посмотрю!
Еще и на руку не глянула, а уже вижу кровь и смерть. Кипит в душе слеза горючая, а я ему говорю:
– Из хорошей семьи ты, милый, все тебя любят, все уважают. А враг тебя боится, ой как боится! И сильный ты солдат, и могучий. И добрый. А ждут тебя дороги дальние, товарищи верные, начальство строгое, письма из дому хорошие.
В это время слышим:
– По машинам!
Парнишка вскочил, на бегу уже мне кричит мальчишечьим голоском:
– Это я и сам все знаю! Что ж потом-то будет?
Я поднялась, вслед ему погромче, чтобы другие солдатики слышали:
– Твоя победа будет! Победа будет, сынок!
Оглядывается, смеется, рукой мне машет!
А когда машина мимо меня проезжала, привстал в кузове, крикнул:
– Лови!
И бросил мне что-то. Сверточек маленький в газетке. Три кусочка сахара там было.
Собачий царь
Бабушка любит расчесывать мне косы. И всегда скажет что-нибудь приятное, например «пхаруни́ балá» – шелковые волосы.
– Счастливая ты, Лёлушка моя! И замуж выходить рано не надо…
– Замуж?! Зачем?!
– Раньше рано выдавали… Бывало, девочка еще не выросла, а ее уже в чужую семью отдают. Правда, пока не подрастет, не как жена, как сестра там жила, привыкала. Жених ее не трогал, пока настоящей свадьбы не сыграли. Из своего табора невест не брали, разве что пришлых каких или подобранных. Во всех таборах подобранные были. И раньше подбирали, а война столько сирот наплодила… Как своих растили.
Бабушка задумывается ненадолго. Когда она расчесывает мне косы, всегда рассказывает что-нибудь интересное.
– Мою двоюродную сестру Евдокию рано засватали, сколько ей было-то… Да вот чуть постарше тебя. Зато повезло: в хороший табор отдали, в чистый и богатый. И свекровка добрая. Хуже нет для невестки, когда свекровка злая.
Приехали мы к ним – встречает родня жениха. А рядом собачка крутится. Я таких собак не видела никогда: сама беленькая, ушки рыженькие, ножки высоконькие, на морде бородка как у молодого козленка. Может, я ее и не заметила бы, да собачка эта на задних ногах плясать умела: и крутнется, и повернется, и подскочит, и поклонится… Смотрим, смеемся, забыли, зачем приехали!
Хорошо нас приняли, пирогами накормили, сладким вином напоили!
Вечером у костра сидим; я спросила, откуда собачка такая. Рассказали:
– После войны кочевал их табор больше по Кубани. В Белоруссию захаживали, случалось, и дальше, аж до Воронежа. К зиме к морю перебирались – там теплее. Зимовали у крестьян в прибрежных селах, чаще хорошо знакомых по прежним годам кочевья. Если не удавалось договориться с теми, кто пускал на постой, отыскивали брошенный домишко, надворную избушку, флигель, да хоть сарай. Утепляли, как могли, ставили железную печурку, что возили с собой в открытой телеге.
Перед зимовкой ничто не могло цыган остановить или заставить повернуть назад.
Если женщина рожала, она с семьей и повитухами догоняла табор после родов. Ее ждали, встречали песнями, готовили лучшую еду, ставили хорошую маленькую палатку, в которой мать кормила младенца, укрывала от непогоды и чужих взглядов: не сразу нового цыганеночка знакомили с соплеменниками: до сорокового дня старались особо не раскрывать, не показывать никому, кроме самых близких. Так по старому обычаю полагалось.
Тучи осенние по небу ходили, ветер завывал. А Устинье срок рожать. Сделал ей муж удобный шалаш. Он вообще на все руки был, Назарка-то.
Родила Устинья первенца. Приняла ребенка старшая сестра, помогала младшая.
Мальчишка родился хороший, крепкий. Полюбовался отец сыном: чернявенький, кучерявенький – наш!
Сестры пошли в деревню, молока добыть, Назар коня привести, он на дальней луговине пасся – там трава сочней была. Осталась Устя одна в шалаше. И захотелось ей искупаться, пока ребенок спит.
Течение в реке быстрое, вода холодная. Выбрала пологое местечко, вошла в воду, да споткнулась. И ее как понесет! Плавать все цыгане хорошо умеют, и девки и парни, да после родов сил-то нет. Барахтается, карабкается, тонуть начала. Кричит:
– Дэвло, спаси! Спаси ребенка моего! Помрет же без мамки!
Только прокричала – и зацепилась рукой за какую-то корягу в воде. Схватилась, держится. Передохнула. Потихоньку, понемногу поплыла, поплыла и выбралась ниже по течению.
А тут потемнело под тучами, дождь пошел холодный, да с ледяным ветром! Сначала бежала по берегу, а под конец, когда шалашик ее уже виден был, еле плелась, падала. А дождь хлещет!
Подходит – ребенка не слышно. Думает, замерз, наверное. Много ли маленькому надо! Сердце стонет, разрывается!
Доползла до шалаша, забралась. В шалаше сухо. Мокрое с себя скинула, да в темноте не сразу разобрала, что такое тут теплое. И аж задохнулась от страха! Большая желтая собака лежит, язык вывалила, дышит, смотрит на нее. А маленький под боком у собаки сопит. Устя взяла его, а пес рыкнул – не трожь, мол! Оробела; что делать, не знает. Просит пса:
– Отдай, отдай мне дитя, покормить его надо!
И только когда младенец заворочался, запищал, пес отодвинулся, позволил взять ребенка. Устя насмелилась, погладила собаку, та ей руку лизнула.
Покормила мамка дитенка своего, положила между собой и псом. Сама согрелась, задремала.
Вдруг собака вскочила, залаяла. Выглянула Устинья, видит, муж скачет на коне. Подскакал, на пса кнутом замахнулся. А жена кричит:
– Не тронь, не тронь! – и все рассказала.
Назвали пса Кхáморо – солнышко, значит.
Подрастал Сережка, ходить учился – за шерсть собачью ручонками держался. А постарше стал, ну такой шустрый, шебутной, такой неслух! А Кхам его защищал и от чужих и от своих. Отец разозлится на сына, хворостину схватит, а собака мальчишку собой прикрывает, на батю зубы скалит, порыкивает. Другие собаки тоже всегда рядом вертелись.
И стали у нас его звать Джюклэно́ Тагáри – собачий царь.
Перед самой войной вот как получилось: решил Назар к брату сьездить, соскучился. А брат его далеко жил, аж в самом Ленинграде. Как туда попал?
У них в семье все голосистые были, а Лёнька особенно. Назарка не хуже пел, но тогда он еще малой был.
В Воронеже на Первомай большой праздник сделали. Лёнька плясал, пел, да так, что народ со всей округи сбегался послушать. Его приметили настоящие артисты, давай уговаривать: поедем да поедем с нами в город Ленинград. Хорошо жить, мол, будешь! Он и собрался. Доходили до нас весточки, что живет в каменном доме, что женился на красивой русской артистке, что горя не знает, беды не ведает. Адреса его не было, а где он пел, у Назара записано было, в картузе бумага лежала: Театр музыкальной комедии.
Вот и втемяшилось в темную башку…
Устинья в таборе с младшими осталась – она к тому времени еще двоих родила, Дарьюшку и Ганю. А Сережку Назар с собой взял. Знали бы, что война на подходе, ни за что бы не отпустили. Да кто ж знал!
Добирались на поезде. Сережке интересно все, рассматривает, разглядывает, расспрашивает… А Назар мужик бывалый, много чего в жизни видел. Все отсыпался дорогой.
Добрались рано утром, пошли театр искать. Город большой, но к обеду разыскали. Лёнька, как их увидел, аж заплясал от радости! Всем показывает – родня приехала!
Жена его приняла гостей, еды наготовила, вина бутылочку выставила.
А в доме собачонка беленькая, несуразная, длинноногая, косматая, с бородкой.
Служил в театре старичок, так его эта собака была. Научил он ее плясать под музыку, через палочку прыгать, игрушки в зубах приносить.
Помер дедушка; что в его доме было, дети да внуки прибрали, а собака никому не нужна, стало быть. Вот Лёнька ее и забрал. Имя у нее чудное было: Рампа. Так ее старый артист звал.
Вот Сережке радость! Есть с кем играть. И Рампа сразу признала нашего Тагари. Так и вертится перед ним, так и стелется.
Пошел с ней гулять. Город рассмотреть охота. Ушел далеко, а назад дорогу забыл. В лесу он бы никогда не заблудился – там все свое! А тут город.
Говорит собаке:
– Что делать будем? Веди домой!
Рампа постояла, посмотрела и пошла. Он за ней. Смотрит: вот эта улица, вот этот дом!
Пожили, погостили, погуляли, по табору заскучали. Возвращаться надо. И вдруг война. Железные дороги все немцы захватили, пешком не уйдешь.
Голодно стало. Лёнька, конечно, последним куском с братом делился, а жена коситься начала. Собаку из дома выгнала: кормить нечем.
Чтобы паек получать, Назар пошел работать в шорную мастерскую. Сережка тоже пристроиться хотел – не берут! Детскую пайку хлеба и то не сразу выхлопотали.
Голодный парнишка, а все такой же неугомонный. Полез на чердак, оттуда на крышу. Голуби там жили. Это уж потом, к концу блокады ни голубей, ни даже воробьев не было, всех половили. Да он же и половил. Петли из лески делал, ловушки из коробки. Пшена щепотку насыплет или хлебных крошек, накроет голубка. Сам ощиплет, сам бульон жиденький сварит. Люся коситься перестала: разве плохо суп поесть в такую голодную пору! Только не каждый раз голубок попадался. Да и крошек хлебных жалко было. Тогда Сережка стал по ночам ловить. Ночью птица вялая, сонная, хоть руками бери. Бывало и двух, и трех приносил. А бывало, и без добычи возвращался. Пару раз чуть с крыши не сорвался в темноте.
Мальчишка не один по крышам лазал, голубей ловил. Еще два кота. Один здоровенный, рыжий, другой полосатый, уши обмороженные. Рыжий кот наглый был, один раз прямо из рук голубя вырвал, живого еще жрать начал вместе с перьями, и завывает утробно на полосатого! А что ж, голод не тетка!
На другую зиму совсем плохо стало. Редко голубок попадался. Иногда и воробышков ловил.
Как-то раз слышит мальчишка разговор, что, мол, нужно собаку опять в дом привести. У собак мясо вкусное и полезное. Уговорим, мол, Сережку, пусть поймает ее. Она за время блокады одичала, к людям не подходит, видать, не раз ее хватать пытались.
Рампу съесть?! Такую хорошую?!
День и ночь мальчишка по крышам бегал, птиц ловил, только бы собаку не тронули.
Однажды вышел во двор вечером, пока не совсем стемнело, на чердак забраться. Смотрит – Рампа бежит. Тощая вся. И в зубах у нее кот рыжий болтается. Сережка подозвал ее, она сама кота к его ногам положила.
– Прости, Рампочка, знаю, что ты тоже есть хочешь. Тебе голова и косточки достанутся. А я тебя в обиду не дам. Ты только в руки никому не давайся.
Вот так и питались они – где голубок, где воробышек, а где и кошка. Да пайка хлебная крошечная. По весне травку зеленую ели, листочки с деревьев в суп из воробьев добавляли. Отец иногда из мастерской обрезки кожи приносил, тоже варили.
Лёнька и Люся с театром на фронт уехали, концерты давать. Сережкину добычу стали на двоих с отцом делить – все полегче!
Как-то смотрит Сережка: над соседним домом несколько голубей поднялось. Побежал туда, в парадное и наверх, на чердак. А чердак закрыт. Стал он камнем замок сбивать, сбил. Слышит снизу тоненький голосок:
– Кто тут стучит?
Девчонка маленькая стоит, в платок закутана, личико бледное, под глазами сине.
– Я стучу. А ты кто?
– Я Анютка. Я кушать хочу.
– Пойдем со мной, я тебе супа налью.
– Нет, я не пойду. Ты меня съешь.
– Не буду я тебя есть, такую худую, у меня суп сварен.
– Нет, я боюсь.
– Тогда жди меня здесь. Не уходи никуда.
Бросился домой, суп на плите еще теплый. Налил в баночку и назад. А девчонка лежит на ступенях. То ли померла, то ли в обмороке с голоду. Кричит ей:
– Эй! Эй, девчонка! Анютка! Эй, проснись! Очнись!
Она глазки приоткрыла, он ей голову поднял, баночку к губам подставил. Бульончик жиденький – она несколько глотков сделала, села. Всю баночку выпила. Потом обняла Сережку, поцеловала в щеку.
Рассказала: папа у нее моряк, воюет. А мама умерла. Соседка теть Валя забрала ее карточки, дает ей хлеб… Маленький кусочек…
Взял Сережка ее за ручку, повел к себе. Вдруг она глазенки вытаращила, остановилась:
– Вот она, вот она идет! Сейчас она конфеты нам давать будет!
Идет навстречу тетка толстая в телогрейке и серой шали. В Ленинграде тогда редко толстую можно было увидеть.
– Сережа! – шепчет Анютка. – Не бери у нее конфеты! Она детей конфетами заманивает, убивает и ест!
А тетка подходит, улыбается. Достает из кармана карамельку, говорит:
– Хотите конфетку, деточки? Пойдемте, я еще дам!
Сережка ловкий был, быстрый как змейка. Метнулся мгновенно, выхватил конфетку, отбежал. А тетка схватила девочку за воротник, заверещала:
– Воришки! Воришки! Украли! Украли!
Сережка тоже заорал во весь голос, а голос у него посильнее, чем у Лёньки был.
– Она детей ест! Держите ее! Она детей заманивает! Дяденька милиционер! Скорее! Скорее!
Милиционера никакого и близко не было, а он орет!
Тетка побледнела, затряслась, бросила Анютку, повернулась, побежала, раскачиваясь на своих толстых ногах, как утка. Две какие-то женщины бросились за ней, схватили; она вывернулась, завизжала. Подбежала к детям девушка в милицейской форме, стала расспрашивать. Анютка говорит:
– Дедушка из пятой квартиры рассказал маме моей, чтобы она меня предупредила. Он в теткиной квартире печку ставил, видел. Только он умер уже. И мама умерла.
Потом говорили, что нашли у этой тетки в квартире… Страшное… Назар не велел Анютке про это рассказывать.
Пошел он к соседке теть Вале хлебные карточки Анюткины забрать, а та не отдает: потеряла, мол. Свои не потеряла, а Анюткины потеряла. Назар разозлился, схватил ее за грудки, тряхнул два раза, рявкнул в лицо, она кричит:
– Отдам! Пусти! Отдам!
Отдала.
Когда брат с женой приехали, уже полегче было, нормы выдачи хлеба повысили.
После войны нашли родной табор Назар с Сережкой и с Анюткой. И с собачонкой несуразной, длинноногой, со смешным именем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.