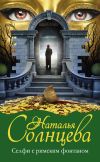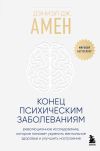Текст книги "Золотая чаша"
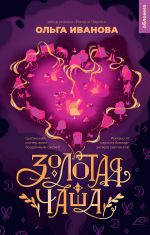
Автор книги: Ольга Иванова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Хутор
Мы с бабушкой сидим на кухне, на ее кушетке, покрытой бараньей шубой. Она негромко поет мне старинную песню про черные глаза, про молодость и красоту.
– Бабушка, – спрашиваю я, – это про тебя песня?
Бабушка смеется, одной рукой прижимая к себе мою голову.
– Бабушка, – продолжаю приставать я, – ты же красавица была? Почему я на тебя не похожа?
– Как же не похожа? – говорит бабушка уже серьезно. – Ты вся в меня. – И понижает голос почти до шепота: – Я вот что тебе скажу: ты – это я и есть. Только молоденькая.
Закипает чайник, бабушка поднимается и отходит к плите. А я в полном недоумении размышляю над ее словами.
Мы пьем чай из красивых тонких чашек, которые она привезла маме в подарок, она подсыпает мне сахар и продолжает разговор:
– Глазки твои светлые, так ведь мой муж, твоего папки батюшка, он русским был.
Вот стояли мы на большой реке. Берег обрывистый, крутой. Дожди пошли, да такие проливные!
В дожди цыганам совсем плохо: все попоны промокли, одеяла промокли, одежды сухой нет… Дороги раскисли, размокли… а земля там такая, что конь копыта не вытащит…
Вода высокая стала, бурная, мутная. Мы с сестрами ходили по воду далеко, там в лесу родничок из земли бил. А ребята коней поить еще дальше водили, где берег не такой крутой. Костер разжечь уж так тяжело! Бабушка Софья под юбками держала завернутые в тряпицу смолистые стружки и бересту. Ее огонь лучше всех слушался.
Навес сделали на пригорке, где посуше. А дождь достает!
Ничего нет хуже, чем спать в мокрых юбках! Утром все сердитые, злые, дети плачут, кричат…
Мы с сестрой Зорюшкой захворали. Она совсем слегла, огнем горит, дрожит вся, и плакать сил нет. Я еще держалась. Бабушки к нам детей не допускали. Лечили нас горячими отварами, лесными травами, молитвой да заговорами.
Вот сижу у костра, огонь берегу, лицо горит, а сама мерзну, трясусь. Слышу, брат кричит:
– Гави́тко (крестьянин) едет!
Шлеп-шлеп копытами по грязи, подскакал парень на рыжем мерине, здоровый такой, косая сажень в плечах. Рубаха мокрая, на голове картуз мокрый, из-под него кудри мокрые, рыжие. И лошадка у него крупная, широкогрудая, гривастая, не чета нашим. Бегут к нему ребятишки, смеются: рыжий на рыжем прискакал! Говорит парень:
– Давайте, цыгане, ко мне на хутор, на мое подворье детей и старух увезем. Хоть на сеновале укроются.
Поклонилась ему бабушка Софья:
– Спасибо, родной. У нас вот две девушки хворают, ты лучше их забери. Им в тепло надо.
– Да что там: поехали все!
Обрадовались мы, собрались быстро, малышей на руки, старшие вперед нас бегут.
Сарай у него большой, в одном углу печурка, другой конец до самого верха сеном забит. Хозяин – Лукой звали – сам печурку растопил, сухие рядна и тканые дорожки принес из избы, детям молока горячего. Пришли братья его, оба такие же крупные, рыжие, жены их – тихие, неслышные. Пришла старая мать, седая, строгая, неулыбчивая. Мы прямо оробели. Говорю ей:
– Не гневайся, матушка, мы плохого не сделаем!
– Да что ты, – отвечает, – я не сержусь. Знаю, каково в мокреть без крыши над головой! Вы только с огнем не балуйте.
Вот согреваемся, одежду сушить повесили, ребятишки сытые, спят в тепле – как хорошо! Кажется, ничего лучше в жизни не бывает!
Наутро, смотрю, сестра поднялась, улыбается. А мне, наоборот, за ночь хуже стало. Голову поднять сил нет.
Весь день лежала, плакала, а Бога благодарила, что в тепле и сухости. Бабушка Софья от меня не отходила, заговаривала, травяным отваром поила. Наши утром рано поднялись, пошли хозяину помочь коней перековать.
Возвращаются под вечер, радостные, довольные, голоса веселые, и у ребят, и у хозяина. Девушки им чаю с сушеными яблоками налили, бабушка лепешек напекла на печке, хозяйка каши, а детям яичек принесла. Меня покушать уговаривают, а я не могу – в глазах все плывет, качается… На другой день хозяйка для меня курочку зарубила, принесла горячей юшки, я через силу три глотка сделала – нет, не могу ни есть, ни пить.
Хозяин пришел, смотрит на меня. Мне бы встать, а сил нет… Разговоры слышу, а о чем – не понимаю.
Ночь пришла, совсем худо, думала: последний мой час… А дождь по крыше все стучит!
Но вот наутро солнышко выглянуло. Да такое яркое, веселое! И я живая! Так встать хочется, выйти на вольное – не получается. Только приподняться смогла…
Еще день прожили у хозяев, пока не просохло все. Собираться надо. До зимы к морю выбраться успеть. А я встать все не могу. Сестры вокруг меня суетятся, бабушку просят: пошепчи еще!
– Все, – говорит, – что могла, сделала. Теперь только на Дэвло надеяться надо.
Приходят старая хозяйка с молодым хозяином, говорят:
– Оставьте здесь девушку. Помрет ведь дорогой. Мы ее выходим, она вас догонит потом…
Все вокруг меня собрались, весь табор. Кто мне волосы гладит, кто целует, кто за руку держит. Посидели-посидели да и ушли.
Вечером Лука перенес меня в избу, в чистую горенку.
Сколько дней я не поднималась – не знаю. Ухаживали за мной и старуха, и молодые хозяюшки, Дуня с Агашей. Наконец смогла я выйти, с крылечка спуститься. А крыльцо у них высокое, с подклетом. Сижу на нижней ступеньке, думаю: как же обратно в дом-то вернуться… Вышла Агашенька, села рядом, говорит тихонько:
– Ну что, скоро уйдешь от нас? Оставайся, подруженька, полюбили мы тебя все!
– Агашенька, милая! Спасибо тебе на добром слове! Не знаю, как быть мне. Табор догонять – куда! Вот с крыльца сошла, а обратно – сил нет! И остаться не могу, моя жизнь – дорога.
Вечером ужинать позвали. В первый раз я с хозяевами за стол села, а то все не могла. Смотрят на меня все ласково, а старая разговор завела про какого-то купца, что на цыганке женился, а потом про скотогона, который откуда-то привез себе черную женку. Поп венчал. И все на то упирает – живут, мол! Детишек народили, вырастили!
Лука глазами в стол уперся, молчит. И я молчу, а братья его поддакивают матери, кивают.
Утром, едва солнышко подниматься начало, я ушла. Мне собираться нечего. Платок на плечи, да и в путь.
Иду по дороге за солнышком… Куда мой табор ушел. На закат. Я на ногу легка была, весь день брести могла, да, видать, болезнь не совсем отпустила. Пройду немного, присяду, отдохну, поднялась, пошла. И вот уже солнышко над головой.
Гляжу, с пригорка село видно. Церквушка посередине.
Поспешила туда. Иду, чую: земля из-под ног уходит, голова кружится. Устала. Идут мне навстречу бабы, крестьянки. Я им улыбаюсь, уговариваю: счастье, мол, нагадаю. А уже знаю – ничего не дадут. По лицам вижу. Одна говорит сердито, зубы сжала:
– Проходи мимо, колдовка черная!
Что ж делать? Хоть не побили!
Побежала я дальше. К церкви подошла. Свечку бы купить, за здравие моих спасителей поставить, а не на что. Ну, думаю, выгадаю что-нибудь, свечку куплю. Люди из храма идут. Я им кланяюсь, подать прошу. Мимо проходят. Монашенка вышла, просфору мне подала. Я за пазуху сунула, рада, со вчерашнего дня не ела. Хоть и маленькая просфорочка, а зато хлебушек Господень.
Одна девушка бросила мне монетку, я поймала и говорю ей:
– Спасибо тебе за доброту. Иди, я тебе погадаю, судьбу расскажу.
Отошли с ней в сторонку, я ее за ручку взяла, на ладонь глянула. В это время позади меня голос женский, визгливый:
– А, вот она, вот! Держите ее!
Я оглянулась: бежит ко мне баба толстая, лицо красное, щеки трясутся, из-под платка космы… За ней еще одна, палкой размахивает. Чего стоять, хорошего ждать? Я от них бегом! Бегу – ног не чую! В переулок забежала, а там тупик! Ни назад, ни вперед! Ну, думаю, смерть догоняет! А куда деваться? Стала у ворот. «Что я им сделала? – думаю. – Может, спутали с какой цыганкой?»
Тут калитка скрипнула, приоткрылась, а оттуда старушка старенькая в черном платке, говорит-шепелявит:
– Уходи-ка ты подобру-поздорову, цыганочка. Давеча были у нас ваши, гадали-ворожили, песни играли. Все радовались, хвалили. Утром ушли они, а к обедне изба загорелась посередь села, возле которой они пели-плясали. Одни головешки остались. Погорельцы теперь по чужим избам ютятся. Увидят тебя – поколотят!
Тут крики послышались, ругань. Старушка меня за рукав схватила, в калитку, и затворила за мной. Стою ни жива ни мертва, а старушка мне знак дает: молчи, мол. Слышу, за калиткой кричат, ругаются:
– Сюда она побежала! Здесь она!
– Могла и запрятаться!
– Она колдовка, могла и оборотиться!
– Вон, гляди, колесо от телеги! Не она ли?
Слышу удары палкой о дерево. Собаки за заборами лаем исходят!
– Хватит, хватит, не она это! Зря только хорошее колесо изломали!
А у меня голова кругом, сердце заходится. Опустилась я потихоньку наземь, головой к калитке прислонилась, глаза закрыла. Слушаю: уходят враги мои, смерть моя уходит. Глаза открыла – старушка мне воды в ковше подает. Попила водички, полегче вроде. Поднялась, старушке в пояс поклонилась:
– Спаси Христос тебя, бабушка. Прости, нечем отблагодарить! Погадала бы, да ты свою жизнь сама всю знаешь.
– Ступай, цыганочка, ничего не надо! Ты иди все против солнышка, мимо церкви стороной, так быстрее из села уйдешь.
Бегу, опять той улицей бегу, которой сюда пришла. Ай, догоняют! Догоняют бабы с палками, и с ними двое мужиков. Спотыкаюсь, нет сил бежать! Повернулась – лицом смерть встретить, упала на колени, перекрестилась… Бегут навстречу, кричат, ругаются! А сзади конский топот слышу. Оглянулась – скачет ко мне конь красный, сквозь гриву солнце огнем горит…
И все. Услышала только, что небо раскололось надо мной, звездами рассыпалось. Темнота наступила.
А потом долго качалось все, я качалась, как в теплой колыбели… Когда глаза открыла – облака в небе качаются, ветки деревьев качаются надо мной. Это Лука вез меня на своем Рыжем, обнимал. Сам Господь послал его за мной. Спас он меня во второй раз. Потом и третий раз был.
Жили мы с Лукой душа в душу.
Сношки мои, Дуняша и Агаша, весь день работают, вечером сядут на крылечке – поют или меня просят:
– Спой по-своему, сестрица!
Они с того села обе были, где изба после цыган сгорела. Там их отцы-матери, сестры-братья жили. Старушка, что меня от селянок укрыла, Агаше теткой приходилась. По праздникам в гости туда ездили, меня с собой звали, но я и близко к тому селу подойти боялась! Пойдем, бывало, по грибы, по ягоды, я все в другую сторону сношек тяну. С Лукой в церкви венчались, и то не в этом селе, в дальнее ездили. Я уговорила.
По весне матушку старую схоронили. Она на вид строгая была, а богобоязненная, молиться любила. Ну и забрал ее Господь тихо – успела!
И я все молилась, Бога благодарила за хорошую жизнь. Ни голода, ни холода – только добро, любовь да ласка.
А все на сердце печаль. Скучала я сильно, по своему табору, по родне, по жизни кочевой тосковала. И все беды ждала. Непривычно цыганке жить без горя!
И вот пришла беда.
В июне ночью гроза расшумелась-разгремелась, молния в крышу ударила. Враз заполыхало! С дома на сеновал, а оттуда на конюшню перекинулось. Мужики добро спасать, сношки иконы похватали, а я в конюшню бросилась, лошадок выпустить. А там уж крыша занялась. Коней я выгнала, а сама в дыму заплутала, не могу выход найти. Так бы и сгинула, да вытащил меня супруг дорогой, памяти незабвенной любимый Лукашенька.
Ах, горе, горе какое! Плачь не плачь – слезами огонь не затушишь!
Лука говорит:
– Вот если бы я тебя в дыму не нашел, это горе было бы! А добро сгорело – Господь дал, Господь взял. Что ж поделаешь! Вытерпим, выдержим!
Подумали с братьями, поделили лошадей. Братья примаками к жениной родне пошли. Нас звали, но я страх свой перед тем селом не пересилила. Телега одна осталась, нам отдали. Сложили в нее, что уцелело, Рыжего запрягли, кобылу с жеребенком сзади привязали да и отправились мой табор искать. Долго, долго по дорогам колесили, каждого встречного расспрашивали – не видал ли цыган. Нашли по осени только, когда забереги подмерзали.
Цыгане и не ждали меня, думали, померла, схоронили.
Когда увидела табор на берегу речки, не могла на телеге усидеть, соскочила, со всех ног бегу, кричу, что – не помню!
Как меня встретили! И обнимают, и плачут! И целуют! Праздник сделали, будто свадьба. А и то! Мы с Лукой на хуторе своем настоящей свадьбы не имели, даром что в церкви венчанные.
И начала я жить по-старому. Муж мой к таборной жизни быстро привык. К нему как к родному все, добро цыгане помнить умеют.
Про Сталина
Увидеть нашу учительницу Клавдию Николаевну без улыбки невозможно. Или почти невозможно. Рассказывает о серьезном, а уголки губ хотят улыбаться. Это такая особенность ее лица. Только два раза она не улыбалась: когда умер старый школьный кочегар Семеныч и когда закачалась лампа в классе: землетрясение.
Это было уже после уроков, когда мы обсуждали подготовку к празднику Победы. Я радостно сообщила, что у моего папы-фронтовика день рождения приходится как раз на девятое мая. Подружки закричали и зааплодировали. Маленькая рыженькая Света Карлова, наша школьная художница, предложила поздравить его как-то особо. У меня счастливо забилось сердце, и я не смогла сдержать улыбку до ушей.
Неожиданно что-то задрожало в воздухе и загудело. Никто из нас не испугался, только у одной девочки закружилась голова. А учительница быстро открыла дверь и строго, даже слишком строго, приказала:
– Все оставить на партах! Все на улицу! Не бежать! Не бежать! Быстрым шагом! – и не улыбалась.
Поэтому мы в точности исполнили ее приказание. Она открыла нам дверь на улицу и крикнула:
– А теперь – бегом! На спортплощадку! На футбольное поле! – а сама осталась в школе.
В школе лопнули трубы отопления и потрескались стекла. Четыре дня мы не учились. А потом все пошло по-старому и учительница улыбалась нам снова.
Но вот сегодня она смотрела на нас без улыбки. И все мы притихли, все отчего-то чувствовали себя виноватыми и сидели тихо, как мышки. Кажется, что-то случилось.
После уроков она задержала нас на несколько минут. Сказала немного сдавленным голосом:
– Ребята! Вчера закончил работу 20-й съезд нашей партии. Коммунистической партии Советского Союза. – И замолчала. Мы ждали продолжения. Она будто хотела еще что-то сказать и все не могла найти слов. Тревога вкрадывалась в мое сердце. Я покосилась на брата. Его глаза были растерянными, а брови напряженными.
Наконец учительница заговорила:
– У кого родители фронтовики… спросите, что они об этом думают… Хорошо? И всё. По домам.
Вечером мы с Лешкой пристаем к папе. На наш прямой вопрос: «А что, Сталин плохой?!» – он что-то долго и путано объясняет мне… про партию… про вождей… про прошедшую войну… про какие-то ошибки… и видно, что сам не верит своим словам. По крайней мере, сомневается.
У папы совсем молодое лицо и седые волосы. Если он начинает приглаживать их левой рукой – той, на которой все пальцы, – значит, волнуется, или чем-то недоволен, или что-то неприятное произошло. И сейчас, отвечая на мой вопрос, он часто поднимает руку к волосам.
Постигшее меня потрясение не дает покоя моей душе. Давно ли учительница говорила нам, что Сталин – величайший вождь всех времен и народов…
Как всегда в минуту трудностей и сомнений, я бегу к бабушке на кухню. Спрашиваю торопливо:
– Бабушка, ты слышала? Про съезд, про Сталина?
– Слышала, – отвечает она неохотно, – вон, радио с утра талдычит…
– Бабушка, почему так? Мы же его все любили, он фашистов победил. А теперь оказалось – он плохой. Нам велели у родителей спросить… у кого фронтовики… А ты, баб, как думаешь про него?
Мы обсуждаем новость, но я не могу понять, считает ли она Сталина хорошим или плохим. В конце концов растолковывает:
– Лёлушка, детонька моя… Не бывает так, чтобы один человек не был сразу и плохим и хорошим. Все люди такие – и плохие и хорошие сразу.
– Как это? А я? А ты? А папа? – Мне еще хочется продолжить: «А мама? А брат? А учительница?» Но слова вдруг перестают рваться наружу: да ведь она права! Это же я, такая хорошая и послушная, стащила на днях медовую карамельку, торчащую разноцветным хвостиком фантика из-под весов в магазине у Булки, и даже не поделилась ею с братом, сунула сразу в рот и съела так, что он не видел. Это же я навернулась на велосипеде соседского мальчишки и, обнаружив поломку, потихоньку поставила велик под лестницу, вроде я его и не трогала. Это же я вырвала страницу из тетради, получив двойку… А сломанный мамин столетник? А разбитая банка сметаны? А порванное платье? Ну, кто же в нарядном платье катается на велике!
Я расстроенно вздыхаю, а бабушка тихонько посмеивается. Ну, зачем я вспомнила эту карамельку! Теперь она знает… Я не сказала, только подумала! Ну и что? Она знает.
Лицо бабушки уже стало серьезным. Она говорит:
– Вот, Лёлушка… У всех людей души и черные и белые сразу. Где-то черные, где-то белые.
– А где-то серые? – пытаюсь острить я.
Она отвечает серьезно:
– А вот серого больше всего. У кого-то серое едва-едва серое, а у кого-то такое серое, что вот-вот черным станет.
– А у Сталина?
– У Сталина как у всех. Но у него сила и власть были. Где власть, там всегда черное перетянет.
Родился человек – у него душа беленькая, чистенькая, ни пятнышка! Живет, растет, душу свою пачкает… Украл в первый раз, ребенка ударил или старика обидел – пятно на душе появилось. У кого это черное пятно болеть начинает, тот в церковь пойдет и покается. Если покается по-настоящему, по правде, никогда больше греха такого не сделает. Пятно посветлеет помаленьку, глядишь – и нет его. А кто только для виду кается, сам себя утешает да оправдывает, у того пятно в душу так въестся – ничем уж не отмоешь! А там другое, третье, так и вся душа почернеет! А бывает, одного обидел – пятерых утешил… Или у богатого взял, бедному отдал… Тоже пятно светлее станет, но совсем не исчезнет – грех-то ведь упал на душу! Нет, без покаяния нельзя.
– Бабушка, а как же мне быть? – осторожно спрашиваю я. – Пионерам же нельзя в церковь… как же каяться?
– А просто. Мне все рассказывай, мне кайся. А я уж решу, как быть. Мне и в церковь можно, и с батюшкой поговорить, и со своим Дэвло… Да не бойся, Лёлушка, мне про все сказать можно.
Как хорошо, что у меня есть бабушка, которой все можно рассказать: и про карамельку, и про велик…
Я было открываю рот, чтобы начать покаяние, но она продолжает про Сталина:
– А ведь верующий человек был! Только сначала скрывал свою веру, а потом давил ее в себе, глушил. А помирать боялся! Знал…
Гитлера победил. У Гитлера души и вовсе не было, сначала сам ее всю испачкал, сапогами истоптал, а потом и вовсе сжег напрочь. В газовой печи. И все, кто круг него были, через него души себе погубили… все, все… Что генералы, что солдатики… Всех бэнг (черт) лукавый к себе забрал.
А Сталин его орду прогнал, людей из его когтей вызволил… Господь ему за это другие грехи простит? Мы не знаем… Одних людей спас, а других загубил. Ведь он эту тьму фашистскую не просто побил – он ее кровью наших сынков залил… Вот у твоего батюшки, моего сыночка, рука беспалая… А как он до войны играл, что на гитаре, что на скрипочке, душенька ты моя… Ой, как играл! Моими молитвами да заговорами живой остался – ведь у самого сердца железная зазубринка!
Она садится на свою кушетку и задумывается. Я пристраиваюсь рядом, падаю головой на ее плечо. Почему я никогда в жизни не могла сесть вот так рядом с мамой? Потому что у нее помнется блузка и растреплются волосы. Потому что у нее нет времени. Потому что она устала после работы.
Бабушка тихонько затягивает грустную мелодию. Какой у нее красивый бархатный голос! Такого низкого фиолетового оттенка… как печальные цветы на ее шелковой шали…
Вдруг она замолкает, прервав песню на самой красивой ноте, и говорит:
– Ты, Лёлушка, не думай о матери плохо. Она плохого никому не сделала. А что не приласкает тебя, так я на то есть… – и обнимает меня покрепче, и прижимается к моему виску теплыми сухими губами. – Ей тоже несладко пришлось… Знаешь, как она на доктора выучилась?
Еще небольшая была, в школе в самых лучших считалась. А край голодный, а семья бедная, сестренки-братишки малые, всем кусок хлеба дай. Вот ей отец и велел работать идти. А она одно: учиться хочу, учиться! Плакала, упрашивала… А потом взяла да Сталину письмо написала: как, мол, быть, батюшка Сталин? Учиться хочу!
Мало кто ему писал? А вот уделил же ей!
Пришли к ним двое. Шляпы на них серые, и лица серые, а глаза красные. С недосыпу. Уж война на подходе была. Пришли, а батюшка Димитрий Иваныч бледный стоит, к стене прислонился! Ну как заберут?! А они ему: стране, мол, специалисты нужны! Дочка у тебя молодец, не чета тебе! Чего учиться-то ее не пускаешь, дяденька, а?
Ну, вот смотри ты! Это они уже узнали, что она учится хорошо!
И куда ж ему деваться было? Что ж, учись, мол, доча, на доктора!
А когда узнал, что там за учебу еще и платят, и паек дают – крупки, сухарей, сахарку немножко, – и совсем размяк.
Она снова задумывается. Я расслабленно лежу головой на ее плече, а она, обнимая меня, покачивается, будто убаюкивает, как маленькую.
– Видишь, как было-то, Лёлушка…
– А папа? – спрашиваю я уже полусонно. – Он как выучился?
– А его в детском доме выучили. Знаешь, почему я табор свой бросила? Чтобы к сыночку поближе быть.
Муж мой, незабвенной памяти Лукашенька, тогда умер уже. Петруше лет шесть было. Стояли мы у самой окраины города. Днем гадать да хлеба просить бегали, а чава́лэ (ребята) коней ковали, топоры да косы точили. Вечером костры палили, еду варили, детей кормили.
Пришли в табор люди с наганами. У всех красные звезды на шапках. Пришли детей забирать. Кто же отдаст?! Цыганки в крик, мужчины грудью встали – хоть всех убейте, детей не отдадим!
Самый главный у солдат этих немолод, глаза усталые, усы седые. С понятием человек, ни наганом, ни нагайкой зря не машет.
– Тише, – говорит, – цыгане! Не шумите, выслушайте! Детям зла никто не желает! Сам товарищ Сталин о них позаботился! Его указ! Вы вот бродяжите, голодаете, каждого куста боитесь! А там детей и кормить и учить будут, на чистых постелях будут спать! Никто не обидит!
Отвечает наш старший, дедушка Филин:
– Это ты все верно говоришь, казенный человек! И голодные наши ребятишки, и грязные. Но они матерей своих любят, а матери – их, болезных. А там кто их полюбит? Кто приласкает? Кто парнишку на коня посадит, кто девочку гадать научит? А грамотные у нас в таборе тоже есть!
Спорили, плакали, кричали, шумели. Ни с чем уехали казенные люди.
Ночью мы у костра сидели, вот что придумали: скажем, что дети наши заразой какой больны! Поди испугаются. А бабушка Софья противилась: накличете, говорит. Так и есть – накликали!
Захворал Петруша мой, огнем горит! Надо бы заговорить, водичкой окропить, а некогда – собираемся! Не успеем убежать – так и так с детьми прощаться! Двинулись. Я Петрушу на руках держу, кудри его глажу, целую, слезами умываю. Заговор шепчу, Богу молюсь. Сердечко мое колотится, заходится! Помрет – не воротишь! Слышим – скачут на конях, уже не трое – десяток. Окружили нас, остановили. Дедушка Филин говорит их старшему:
– Не серчай, казенный человек, не отдадим детей. Да вы и сами не возьмете, заразные они. Посмотри-ка! – Полог моей кибитки откинул, Петрушу показывает. Сыночек мой в жару, стонет, хрипит. Как глянул начальник, с лица сменился! Потрогал рукой лоб ребенку, на меня сердито смотрит:
– Что ж ты за мать такая! Езжай скорей в город, к доктору вези! Ведь помрет того гляди!
А я плачу:
– Что ты, родимый, какой доктор? Денег нет у нас! Сами лечим, только уж вы не мешайте!
– Темная ты, – говорит, – цыганка! В нашей советской больнице советский доктор бесплатно лечит! Езжай, езжай, не теряй время! Хоть моего коня возьми! – Глянул на своего солдата: – Сопроводи!
Боязно было, ой как боязно! Но когда дитя помирает, на все пойдешь, лишь бы задышал хорошо, лишь бы глазки открыл!
Приехали в больницу. Доктор в белом халате встретил. Сам худой, руки длинные, ноги длинные, глаза черные, как у цыгана, да быстрые такие! И говор быстрый, а слова все непонятные. Тут же нянька, старенькая уж, в белом платочке, глаза в очках горестные. Видно сразу, что много бед видела.
Сыночка моего раздели, на коечку положили, водичкой попоили, мокрыми тряпочками обтерли. А я как иголку у доктора в руке увидела – обмерла вся, аж горло перехватило! Нянька меня за руку взяла, успокаивает, уговаривает. Смотрю – и правда полегче моему Петрушеньке, не хрипит, дышит. Пока не уснул спокойно, доктор с него глаз своих черных не сводил. Потом на меня оглянулся и говорит няньке:
– Макаровна, супа ей налей. – И ко мне: – Ну и куда ты сейчас? Своих догонять?
Я на колени упала:
– Батюшка доктор, не гони меня! Я сыночка не оставлю! Я тебе помогать стану! Лечить умею, все заговоры знаю!
Он как захохочет, аж слезу утер. Отсмеялся, спрашивает:
– А постирать, помыть?
– Батюшка, все сделаю, родимый! Работы не боюсь и грязи не боюсь, только не гони! Спать буду возле сыночка! Под крышей и на полу можно!
Он говорит няньке:
– Топчан ей поставьте. Что ж она на полу-то будет… Да халат ей там подбери, а тряпье свое пусть отстирает как следует.
Так и осталась при больнице.
Сколько дней прошло, теперь не вспомню. Сыночек стал понемногу головку поднимать, суп тепленький кушать с ложечки, а то все только воду пил. Я посижу с ним – и поплачу и порадуюсь – да к другим бегу. Там такие были – только стон да крик… И уберу за ними, и помою, и покормлю, и постель перестелю. Мне ли, цыганке, брезговать?! А другой раз и погадаю: поправишься, мол, своими ножками бегать будешь, на хлеб зарабатывать, в своем дому жить, в любви да согласии. Доктор раз услышал, думала, ругаться будет. А он говорит: хорошо, Лёля, подбодрила душу болезную!
И все я удивлялась: ведь по-другому про гадже́н думала… А тут вижу – люди-то добрые. Доктор – его Наум Наумычем звали, би́болдо (некрещеный, еврей) – прибежит раным-рано, сразу к моему – как, мол, тут наш цыганский барон? Бароном его прозвал. То яблочко ему принесет, а то конфету. Наши цыганские дети конфет-то и не видали.
Петруша поправляться начал. Только скорые шаги доктора услышит, заулыбается. Жизнь бы за эту улыбку отдала! А я его, Наум Наумыча, всей душой принимала, всем сердцем! Выходил мне мальчонку! Другой раз и командира того добрым словом поминала, что заставил в больницу ехать, коня дал. Чуть живым дитя довезла!
Вечером доктор к нам на кухню приходил, чай пить. Увидел как-то, что я газету смотрю, удивился:
– Так ты грамотная? А я думаю, в кого это парень твой такой смышленый!
А какая я грамотная? Бабушка Софья читать научила по своему старому Псалтырю. Других книг у нас не было. Газеты случались, я вслух читала. Только больше там слова непонятные были. Начну читать, наши кричат: давай другое читай!
Вот как-то говорю я доктору:
– А ты, батюшка Наум Наумыч, в Москве не бывал?
– Бывал, – говорит, – я учился там.
– А, вот где на докторов учат! А Сталина не видал ли?
– Нет, не видал. А тебя Сталин интересует?
– Мне интересно, зачем он велел цыганят из таборов забирать.
– Это кто тебе сказал такое? Не цыганят – беспризорников.
Тут он мне и растолковал: беспризорника – его поди поймай! А поймать надо столько, сколько в бумаге указано! А тут цыганята чумазые, от беспризорников не отличишь. Да забрать сразу всех из табора, вот и бумагу выполнили!
Обида мое сердце рвала! Как же так, из-за бумажки дитя от матери отрывать!
Вот и думай: хорошие они, гадже, или плохие? Да как и у всех: и хорошие есть, как доктор, как нянька Марья Макаровна, душенька светлая, и плохие, как те, кто послал солдат за детьми в табор. Сталин-то им велел беспризорных детей под крышу собрать, чтобы не заголодали, не замерзли, в беду не попали. А эти его обманывать! Но ведь и из них один пожалел мальчонку хворого! Вот какая у того человека душа – черная, белая?
…И вот как-то приходит наш доктор, достает из своего портфеля книгу, Петруше подает. Подарок, говорит. Вся в красивых картинках, но, видать, читаная-перечитаная, углы обтрепаны. Сказки Пушкина это были. Никогда не забуду, как Петруша радовался! Он тогда еще вставать не мог. Читали ему мы по очереди с нянькой Макаровной. И как ни зайдешь, он все картинки смотрит. В этой книге я ему буквы показывала. По ней и читать научился. Как он эту книжку берег! Все под подушку прятал. Уж когда большой стал, достанет другой раз – и читает опять… А как на фронт идти, он в мешок свой раньше всего эту книгу положил. Правда, с фронта уж не привез – сгинула где-то…
А тогда… долго болел… Как стал с постели подниматься, я в дорогу засобиралась. Поклонилась в ножки доктору:
– Спаси тебя Христос, батюшка доктор Наум Наумыч! Отблагодарить нечем, дай хоть погадаю тебе!
– Нет, – говорит, – судьбу свою я знаю. А ты вот что: если благодарна мне, так сделай, как я велю! Табор свой найдешь ли, нет, а одна в дороге погубишь сына после такой тяжелой болезни. Нельзя ему сейчас ни голодать, ни мерзнуть. Давай-ка мы с тобой завтра вместе поедем в детский дом, у меня там директор знакомый. Расскажу, как ты работаешь, и тебя пристроим, и ребенок в тепле и чистоте жить будет у тебя на глазах. Согласна?
Кто бы другой сказал – ни за что бы не согласилась. А доктору поверила.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.