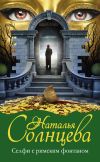Текст книги "Золотая чаша"
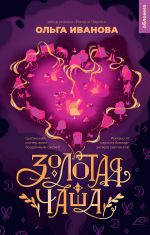
Автор книги: Ольга Иванова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Ученье – свет!
– Ну, как, Лёлушка? Какие оценки сегодня? – спрашивает бабушка, не отрываясь от чистки картошки. Я молчу. Пойду-ка лучше на улице погуляю.
В дверях меня настигает ее вопрос:
– Ты, может, сначала на завтра уроки сделаешь?
– Потом.
Мне неохота учиться. И на первый бабушкин вопрос я не отвечаю потому, что хвастать нечем… Но в кухню врывается брат со стопкой учебников и быстро раскладывает их на столе. Моя тетрадь тоже уже на месте. Со вздохом усаживаюсь за стол.
– Что, Лёлушка, учиться не хочешь? А как же жить?
– Баб, вот ты же не училась… И ничего.
– Да как же ничего! Я бы полжизни отдала, чтобы учиться! Читать научилась по Псалтырю. Псалтырь на старом языке написан: тебе сейчас дай – не прочитаешь.
В те времена и в городах не все русские читать умели, а по селам и деревням совсем неграмотных чуть не половина была. Что уж про цыган говорить!
А вот была у нас девочка Тамарочка. Мать ее, Настасью, подобрали когда-то в Воронеже на ярмарке, всю избитую, без памяти. Страшная была, полумертвая. Тощая, ребра торчат, а лицо опухшее, синее. Старухи ее день и ночь заговаривали, отварами да настоями поили, травы распаривали, прикладывали.
Дошли до нас слухи: батрачила она в богатом доме и украла что-то у хозяев. Ее поймали, в сарае на цепи держали, не кормили, били каждый день. Пожалел только хозяйский старший сын – ночью выпустил на волю.
Отмыли ее, откормили, одели. Помаленьку память к ней вернулась. Поведала: сиротой росла, на хозяев с девяти лет горбатилась. Определили ребенка нянчить. Малой шустрый был. Как подрос лет до четырех, она научила его хлеб у мамки воровать. Он стащит и ей принесет. Раз, да другой, да третий. А на четвертый жареную курицу поволок, прямо со стола. Упал, весь в жиру умазался, коленку расшиб, заплакал. Увидела работница, шум подняла. Мало́й матке с батькой все рассказал. Вот девку на цепь и посадили.
А красивая она была, Настасья, лицо белое, губы алые. Приглянулась вдовцу, дядьке Тимофею. Ну и отдали за него.
Через год у них Тамарочка родилась. Ладненькая девочка, умница, помощница. Весь табор души в ней не чаял.
Настасья потом еще двоих родила, девчушку, а через год и мальчишку, и опять с животом ходит. Тамарочка всегда с ребятишками. Сама еще до стремени не достает, а с младшими водится, детки всегда сытые, умытые, веселые!
Подросла, отец задумал ее грамоте учить – уж больно памятливая да смышленая.
Говорили ему: на что тебе та грамота? И без грамоты люди живут. Добро бы парень, а то девка! Один только цыган, Лога-Дьячок, поддерживал: грамота худого не сотворит, а пригодиться может! Он сам грамоте выучился по церковным книгам, как и я.
На зиму остановились в селе Тароватове. Школа там была. Взял Тимофей дочку за руку, привел к учительше. Учительша одна жила. Огородик у нее маленький, домишко старенький. Сама седая вся.
С Тамарочкой поговорила, книжки ей показала. Велела отцу каждый день приводить ее в школу. Он прямо загордился! Всю зиму водил. За то помогал: крышу починил, топоры наточил, дров наколол на всю зиму, коня подковал… Раньше ведь как было? Школа, а при ней истопник, а при нем конь, – а как же? Дрова-то возить…
По весне собрались мы в дорогу. Тамарочка плакала – не хотела учение бросать. Да что поделать, без кочевья не проживешь. За зиму нищали: мужчины все тазы-кастрюли в селе перелудили, коней перековали, мы всем бабам и девкам перегадали, – вот и нет больше заработка. Ехать надо. Последняя ночь в селе – и в путь.
Утром, ни свет ни заря, будят меня: прочитай, что за бумага, что написано? А бумага та из тетрадки листочек, и написано вот что: «Прости, батюшка, прости, матушка, простите все! Не поеду я с вами. Я поеду в город учиться. Вы меня не ищите – пустое это. А когда большая да умная стану, я сама вас найду».
Заревела Настасья, заругался Тимофей, а им пеняют: говорили же вам, не доведет до добра грамота!
Бросились к учительше. Сначала: не ты ли, мол, девку с пути сбиваешь, не у тебя ли прячется? А та быстро собралась, и в милицию. Мы за ней следом. Одни-то мы бы в милицию не сунулись, а эта не боится ничего. А чего ей бояться, чай не цыганка! Написала им все как есть, просит:
– Найдите нашу Тамарочку!
Остались еще на два дня. А тем временем по цыганской почте, по всем таборам, по знакомым и незнакомым цыганам сообщили про девочку нашу, все ее ищут.
Собрались, уже и лошадок запрягли, и детей в кибитки усадили, и помолились перед кочевьем… Вдруг видим: по дороге учительша бежит, рукой машет, сама от бега задохнулась, кричит:
– Нашли! Нашли Тамарочку!
Бросились к ней: как?! Где?!
Оказывается, с поезда сняли. Видят: едет одна девчонка-цыганка, малая еще. Да без билета.
А тут карманники у тетки какой-то кошелек вытянули.
Раз цыганка рядом, то кого же и хватать, как не ее! Ну, кошелька у нее не нашли, а расспросили, что да как. Она рассказала: учиться, мол, еду.
Посмеялись: цыганка – и учиться! Ученых цыган, говорят, нам только и не хватало!
Узнали, что это та самая девчонка, за которую тароватовская учительша просила.
В общем, вернули беглянку. Плачет, ни с кем говорить не хочет. А учительша:
– Оставьте ее мне, ромалэ. Пусть поживет у меня. Девочка способная, должна учиться!
Тимофей для вида пошумел. А сам, вижу, рад, что дочка у него такая особенная!
А дочка и говорит:
– Хоть в цепи закуете – все равно сбегу!
Это русская кровь в ней заговорила, непокорная да несогласная!
Кто-то ее осуждал, даже отцу советовали: хлестани, мол, плетью два раза – выправится! Кнутом-то ученье доходчивее!
А я ей завидовала. У меня характер другой: против отца с матерью слова не сказала и мужу всю жизнь покорная была. Все цыганки такие должны быть. Это в книгах, в кино они гордые, своевольные да смелые, а в жизни, в семье женщину не видно и не слышно, а невестку тем более.
Подумали отец с матерью, согласились. Но сразу сказали: заберем на другую зиму.
Знакомыми дорогами мы ездили, весело жили, денежки зарабатывали! На то и лето.
Перед Петровским постом приехали на ярмарку.
Настасью уже никто от цыганок не отличал, хоть и белолица, а повадка вся наша. Гадала не хуже меня, пела, плясала с нами. А тут смотрю: будто подменили. Брови домиком подняла, глаза огромные, смотрит помимо, вздыхает. Что случилось?
А это она своих бывших хозяев увидала. Свининой торговали. Здоровенный мужик в косоворотке и баба пузатая, три подбородка, сама как свинья в сарафане. Вспомнила Настасья, как убивали ее за ту курицу. И захотелось ей в глаза им посмотреть. Теперь не страшно было, мы рядом. Вот она подошла к ним, напротив встала, молчит, смотрит. Они ее узнали, пошептались меж собой, и враз как заголосят:
– Деньги украла! Воровка! Держите ее!
А народу только дай! Раз цыганка, значит, воровка! Мы ее отбить пытались, да где там! Схватили, держат, а хозяева, что те поросята, визжат.
В общем, увезли Настасью в участок. Там она все рассказала, да только кто ж цыганке поверит! День за днем идет, Настасья наша за решеткой, с животом. Вот уж наплакалась – аж вся серая стала! Тимофей дневал и ночевал в участке. Как-то сумел начальника уговорить, выпустили ее. А когда выпускали, начальник сказал:
– Вот же какая история! Вроде цыганка, а выходит – русская? Ну, раз русская, выпущу.
Не знали, не гадали, приезжает вдруг тот начальник в табор. Мы уж ушли далеко, в другом селе остановились. А он нас нагнал. Чего ж не нагнать, на машине-то. Перепугались все. Но видим, мирно вроде настроен, не кричит, не ругается. Со стариками нашими говорит. А цыганята маленькие машину облепили, как мухи патоку, кричат, шумят, ничего не разберешь. Просят шофера:
– Прокати, дядька! Прокати! Прокати, а то всю машину разломаем!
Он ни в какую: нельзя, начальник не разрешает! Только как от них отвяжешься!
Вышел начальник из шатра с дедами вместе. Дед только шикнул на ребятишек, разбежались. А начальник говорит шоферу:
– Что ж ты не прокатил их? Прокати недалеко.
Слетелись враз, как воробьи на пшено. Машина по кругу ездит; дети радуются, смеются, не случалось им еще на машине кататься. Мне и самой не случалось тогда еще…
Позвали Настасью в шатер с Тимофеем вместе. Стоим с сестрами, не знаем, бояться или радоваться.
А дело такое было:
На той ярмарке увидели люди, как бывшие Настасьины хозяева хлещут девчонку, работницу. Мужик ее за косу держит, а баба бьет. Девчонка как-то вырвалась, да бежать. Она кусок свинины в пыль уронила, за это ее и били. Казачок молодой за нее вступился, увел с собой, хозяева отнять побоялись. И рассказала она ему, парню этому, что работают с сестрой вдвоем, и за каждую мелочь побои. Синяки свои открыла. А как хозяева уезжают куда, запирают их с сестрой в темном сарае.
Казачок этот в участок побежал. Вот начальник и решил найти тех хозяев. Что ж это: Настасью до полусмерти замучили, теперь других работниц обижают…
А оказалось, там не только этих сестричек били, еще и мальчишки, пастушки, тоже сироты, все в синяках, волосы с корнем выдраны, в рваной одежонке, босые, голодные…
Зато хозяева справные, дом – полная чаша.
Когда их судили, в том самом селе, никто доброго слова про них не сказал. А казенные люди спросили народ:
– Как же вы, знали, что несчастные дети у них в батраках, сироты, и никто не вступился?! Не при советской власти, что ли, здесь живете?
Все только плечами пожимали да глаза отводили…
Бабушка вздыхает и задумывается.
– Вот ведь как бывает, Лёлушка…
– Баб, а про Тамарочку-то… Она учительницей стала?
– Мы все думали, что учительницей станет. А она адвокатом стала. Услышала про то, как мать за решетку посадили… Особенно зла была на слова начальника: «Раз русская – отпущу!» Мы говорим ей: «Что ж делать, так всегда было! Сколько цыган маются за то, что цыганами родились!» – «Вот я, – говорит, – и стану защищать их!»
Это уж потом разговор такой с ней был. А тогда хотели ее в табор вернуть.
Под зиму в то село приехали. Только коней распрягли, шатры поставили, Тимофей к учительше побежал. Встретила его дочка, в избу пригласила, чаем напоила и говорит:
– Скучаю по тебе, батюшка, и по матушке скучаю, и по малышам нашим сильно скучаю… А уехать не могу. Прасковья Степановна хворает (это учительша-то). За ней, кроме меня, пригляду нету. Я сейчас вместо нее в школе младших деток учу. Как же я уеду? А давай, батюшка, я тебе вот это подарю! – и достает из шкафа букварь.
Пришел в табор без дочки. Гордость его так и распирает! Пять раз всем рассказал, что Тамарочка других детей учит. Сама еще малая, а уже учительша!
Кто ему советовал кнут в руки взять, все замолчали. Лога-Дьячок улыбается:
– Молодец, дядь Тимофей! Тамарочка подрастет, я ее сосватаю у тебя. А?
Тимофея аж в жар бросило.
– Так я и отдам тебе девку! Жених нашелся!
Потом говорит:
– Я и других детей учить стану. Сколько жена родит – все учеными будут!
Гляжу, букварь достал, зовет меня:
– Покажи, как буквы называются!
Вы бы сейчас со смеху укатались: сидит на поляне сорокалетний мужик, пальцем по страничкам водит, читает:
– Ма-ма мы-ла ра-му…
Другие за его спиной столпились, заглядывают, повторяют.
Смех-то смехом, а в нашем таборе читать многие научились. У других такого не было.
История Алешеньки
– А как вы зимой жили, бабушка? Правда, по снегу босиком ходили?
– Ходили, бегали.
– И не мерзли?!
– Мерзли, конечно. И не то что мерзли – бывало, замерзали совсем.
– И как же.
– Как… Костерок разведешь да погреешься. Правда, мы в таких местах кочевали, где не такие морозы, как здесь. Возле моря даже всю зиму травка зеленая. А то, бывало, домик какой найдем, зимовьюшку, сараюшку… Или на квартиру напросимся. Бывало, пускали.
Вот один раз было… Не поспели мы до холодов к теплому морю выбраться. Нужно где-то останавливаться, зимовать. Табор наш небольшой – на четыре кибитки, кони неприхотливы, а без сена все равно зиму не проживешь. Подсказали нам сельские ребята, где сена купить можно и где брошенный дом стоит. Только, говорят, в нем колдунья жила, колдуна вдова. Там по ночам над трубой дым, искры летают, а в дом зайдешь – никого нет и печь не топится.
Ну да нам, цыганам, колдовство не страшно, мы и сами колдовать умеем. Да и куда деваться, другого-то жилья нет.
Вот коней у плетня привязали, зашли в дом. Дверь еле держится, в окнах стекла побиты. Плашками окна заколотили, дверь попонами завесили. Старик Филин глины намесил, печь наладил. Парни дров нарубили, девушки воды принесли, пол вымели. И стол есть, и скамья. Дом небольшой, а детям и старикам места хватило. В тесноте, да не в обиде. Соломы на чистый пол настелили, чаю из трав и яблок заварили. Яблоки сушеные есть, картошка есть, пшеница есть, сухари, сала немного, даже меду припасла бабушка Софья. Это для детей и для кормящей, у нас тогда одна кормящая была, Марфушка.
А народ в селе неласковый, не любят цыган. Пришла вечером старушка из крестьян, поздоровалась, поклонилась цыганкам в пояс и рассказывает:
– Как померла Авдотья, вдова колдуна, худо стало в селе. Сама она корову не держала, хворая была. А молока попросила как-то у сельского старосты. А тот ей и говорит: самой, мол, за скотом ходить надо, а не по соседям просить. Вот она сорвала с березы веточку, хлестнула по воротам три раза, ветку переломила и бросила у него перед воротами. И стали его коровы молоко давать нехорошее. То с зеленью, как березовый лист, а то с кровью… А потом и другие хозяева без молока остались. Собрались крестьянки да побили Авдотьюшку, она и померла. Пришел староста с крынкой молока к ней, просить отвести беду, да поздно… Потому у нас и цыган боятся, не их самих, а колдовства.
Шувани настоящих двое в нашем таборе было. Самая сильная бабушка Софья, она огонь останавливала, пожар заговором потушить могла. Она меня многому научила. Простое – дитя полечить, от сглаза избавить, роды принять – это любая могла. А корову безмолочную только кормящая женщина может вылечить, да не всякая, а чтобы у нее молока на троих хватало. Марфушка наша такой и была.
– Ладно, – говорит, – сниму со скотины заклятье.
А дело это непростое, как бы Дэвло свое-то молоко не отнял!
Три дня ходила Марфушка, ребенка в шаль и за спину, молоком своим вымя коровам мазала, горькой травой с заговоренной солью их кормила да заговор шептала.
Вот и были мы всю зиму с молочком! То одна баба с крынкой идет, то другая, а бывало, кто и сыра детям даст.
Однако молоком весь табор сыт не будет.
Недалеко от села там дорогу строили. Вот пошли несколько наших мужчин на работу наниматься.
Тропинка по околице села, грязь непролазная. На отшибе хата стояла, кривенькая да грязная. Идут мимо, слышат – ребенок вроде в той хатенке плачет, да так кричит, изводится! Далеко уж ушли, а все слыхать.
Вот пришли на место. Горы высокие, а вдоль горы по склону рабочие дорогу ладят.
А мои братья, Матвей с Серафимом, сильные были и характером лихие. Подошли к хозяину, возьми, мол, работа нужна. А тот как увидел цыган, руками замахал – нет, и все! Что ж делать, постояли да пошли… Идут, молчат. А что скажешь?.. Только один молоденький цыганенок Вася Пхабори́ заплакал. Такой красивый паренек был, лицо круглое, щеки румяные! Пхабори его и звали, яблочко значит. Идут, молчат, печалятся. Работу не нашли, значит, воровать идти. А воровать – кто-то попадется.
Тут слышат – закричали, зашумели сзади, случилось что-то.
А там мужики на горе деревья валили. Камень с кадку величиной с горы сорвался, покатился, да прямо на телегу, что внизу стояла. Конь испугался, заржал, понес! А дорога неширокая, справа гора, слева крутой обрыв, впереди поворот. Если телега колесом с дороги съедет, конец и телеге, и вороному.
Конь шею задрал, глаза кровью налил, пена на губах, копытами по камням так и молотит, прямо на наших несет! Бросились в стороны! Кто на гору, кто под гору!
Матвейка со склона, как кот на мышь, на телегу прыгнул, вожжи подхватил, кричит коню по-цыгански, останавливает! А вороной голову задрал, пену красную роняет, хрипит! Но куда ж ему деваться от сильной руки да от цыганских слов заговорных! Остановился.
Подбежали наши, а за ними гадже бегут. Думали, у Матвея руки-ноги трясутся. Но с цыгана беда как с гуся вода! Отдал коня и дальше пошел. Николо Матвея хвалит, силен, говорит, ты, парень, даром что молодой… Отвечает Матвейка:
– Что моя сила? Воровать не сила нужна… а не воровать – чем детей кормить?
– Ничего, брат, – говорит Николо, – Дэвло всегда цыган кормил и еще прокормит…
Уже к селу подходят, вот и дом крайний, не дом, хибарка перекошенная. А в доме все детский голосишко слышен. Только уж не плач, а хрип да стон.
Тут слышат позади конский топот: молодой мужик на рыжей кобылке скачет. Подскакал и говорит:
– Вертайтесь, цыгане, управляющий просит.
– Хорошо, – говорит Николо, – поезжай, скажи, придем сейчас.
Ускакал мужик, Николо с Васей назад пошли, а Матвейка с Серафимом в кривую хату заглянули. Видят: грязно, холодно, дух нехороший, на кровати под шубой пьяный мужик храпит, а в ногах у него дитя хрипом исходит. Матвей сразу взял ребенка, а тот худой, легкий как пушинка, одни косточки. Растолкали мужика, где, спрашивают, мать. Нету, говорит, померла, схоронили. И сын помирает. Кормить, мол, нечем. Переглянулись Серафим с Матвеем: заберем сиротку. Снял Матвей с себя рубаху, завернул ребенка. А мужик им говорит: платите, мол, деньги да и забирайте!
Разозлился Матвей, замахнулся на отца непутевого, да ударить не смог – ребенок на руках. Серафим оттолкнул мужика, и побежали они по дороге, быстрей, быстрей, живого бы донести!
Прибежали, кричат: Марфуша! Марфуша! Возьми дитя, прокорми! Помрет того гляди!
Та как взяла его, так и заплакала: маленький от голода ослабел, сосок-то удержать не может, роняет…
Воды налили в большую плошку, соломки бросили, купать, а он в теплой воде заснул сразу. Хороший знак!
Марфушка его то укачивает, то тормошит и все плачет. Про своего забыла, над приемышем трясется… Бабушка Софья несет ей сына, прокорми, мол, своего-то! Покормит – и опять приемыша берет. Сколько ему было, недокормышу, не поймешь. Крохотный, что котенок. Глазки смышленые, уже и лопочет-гукает, а голову не держит.
А управляющий, что дорогу строил, сам к нам пришел. Показали ему Алешеньку, удивился: неужто живой?! Отец у него непутевый, мамку загубил… Николо на него чуть не с кулаками: как же вы, мол, знали, что дитя помирает и бросили его? Нет, говорит, хотели его бездетные забрать… Да вы опередили.
Бездетные эти приходили к нам, мужик с бабой. Но уж Марфа не отдала.
Управляющий ребят наших на работу взял, за конями ходить, платил и деньгами, и овсом, и хлебом. На Пасху яичек красных принес, а Марфушке платок. Человек добрый был, где цыганенка увидит, подзовет, изюма даст. Рабочим велел цыган не обижать.
А мальчишечка так у нас и остался. Худенький как былинка, беленький как сахарок… Уж бегал, а его все в платки кутали да на руках носили, только б не упал, не ушибся, не заболел.
Подрос – хитрый стал да ловкий! Подбежит на ярмарке к торговке – дай, мол, хлеба, матушка, несчастный я, меня цыгане украли! Та и жалеет его, не то что хлеба – и сала даст, и сахару. Больше всех приносил.
А вырос красивый! Глаза синие, кудри светлые, высокий, стройный, как тополек. На нашей цыганочке Катьке женился. Детки у них были через одного: кто чернявый – в мать, а кто беленький – в Алешку.
Бабушка заканчивает рассказ и, как всегда, долго задумчиво молчит.
Потом поворачивается ко мне, смотрит вопрошающе:
– Лёлушка! А мы с тобой сегодня ночью поворожим, поколдуем? Вон я мешочек собрала…
У меня холодок проносится по коже. Голос застревает в горле. Кое-как я произношу:
– Поколдуем, бабушка… Я немножко боюсь…
– Не бойся, детонька, я рядом!
– Бабушка, а скажи вот что: когда я там, я помню про эту жизнь? Я тебя, брата, школу вспоминаю?
– Как же ты можешь помнить? Тебя же, теперешней, еще не было тогда. Ты тогда не родилась еще. Сны только. Ну, во сне все можно увидеть. А здесь тоже во сне табор видишь. Его ведь уже нет давно. Да это и не ты там, в таборе, а я. Понимаешь?
– Не понимаю!
– Пора мне тебя учить по-настоящему. Принеси-ка карты, сначала погадаем с тобой. Вот смотри расклад…
«Романо́ яг сарэ́нгэ бикхэрэ́нгиро светинэ́ла»[3]3
«Цыганский костер всем бездомным светит».
[Закрыть]
В цыганской жизни самое плохое не холод-голод, не приставы-жандармы. Самое плохое – зима длинная.
К зиме мы старались к морю поближе перебраться, все теплее. Если не удавалось в доме поселиться, хоть хозяевам заплатить, а хоть и брошенное какое жилье найти, хатенку ли, зимовейку ли какую, да хоть сарай, – в одной палатке печурку железную ставили, там старики, детки малые ночевали, а постарше ребята уже в холодных.
Цыганкам занятие всегда найдется: воды принести, еду на костре приготовить, да так, чтобы и не расточительно, и все сыты, и старые и малые. А вот вечерами да ночами зимними длинными – скука да тоска. Это летом хорошо – песни веселые, танцы, пляски! А зимой босыми ногами по снегу не очень пляшется.
Вот и песни зимние у нас тоскливые были, грустные, да и сказки цыганские – замечала? – все больше с плохим концом. А если доброе что случалось – то-то радости, веселья! Дела-то на копейку, а разговоров!
Зимы в том краю, где мы кочевали, хоть и не морозные, а мокрые да слякотные. Всю зиму из-под снега травка зеленая пробивается. Кони наши снег копытят да траву едят – и то хорошо, сена много не надо.
Табор мы ставили так, чтобы чужие рядом не крутились. А это значит – к жилью не близко. Когда я девочкой еще была, мать с сестрой уйдут, а на мне и костер, и вода, и еда для всех. Целый день работаешь, под вечер ног не чуешь. А и лучше: не сидеть в тесной кибитке да не скучать…
Крестный мой батюшка добрый человек был, да стар уже, не здоров. Другой раз сам возьмется, а мне его жалко – руки-ноги больные, распухшие. Детей отправит мне помогать, а они только мешают. Беготню затеют, расшумятся, то воду разольют, то в костер залезут. Так и шла молодость моя…
А вот весной было…
День прибавился, цветы расцвели, солнышко теплое, а жары еще нет. Самое лучшее время.
Мужчины наши со старшими ребятами, чуть свет, на заработки поехали, коней ковать, топоры да косы точить. Цыганки пошли гадать, хлеба просить. Я в таборе с животом, да старик – крестный мой.
Старому не сидится, затеял в город за рогожами ехать. Коня запряг, а сам не может. Постоял, посидел – нет, не поеду… Хотел распрягать, а я говорю:
– Дай-ка, батюшка, я сама съезжу.
Он пускать не хотел, а мне в радость погулять. Согласился.
– Только смотри, – говорит, – не роди по дороге!
Живот-то у меня уже как хорошая дыня был.
Хлеба в суму положила, живот шелковой шалью подвязала, крестный свой нож мне дал – нельзя, мол, одной, да без ножа.
Конь веселый, бежит резво! А что тряско, ему дела нет. В городе на базаре рогожи купила, хорошая рогожа, мягкая, белая, и в цене с купцом сошлись. Еду обратно, хорошо!
Не знала не гадала, что сынок на подходе, не срок еще! Однако дорогой растрясло, чувствую – рожу. Что делать?
Съехала с дороги на поляну, коня распрягла, стреножила – пасись по свежей травке! А сама легла в телегу. Да думаю: хоть бы засветло родить!
Ну, так и родила засветло. Зато в глазах темно! Полежать бы, отдохнуть, да ехать надо, стемнеет скоро. Поднялась потихоньку, ребенка в ручейке обмыла, в платок завернула.
Потом коня поймала, распутала, запрягла, да и поехала. И с рогожами, и с прибытком.
Дорогой отошла понемногу, хлеба поела, воды попила. Сыночка к груди приложила – ест! Вот и ладно. Кто в дороге родился, тому любая дорога нипочем.
Еду, на сыночка любуюсь, красавец какой! Прямо солнышко! Телу тяжело, а на душе счастливо. Крестный обрадуется! А как муж приедет, вот уж веселья будет!
Смотрю, кто это впереди по дороге, не наши ли цыгане? Нет, чужие идут, двое, видать, отец с сыном. Не идут – плетутся еле. Старший хромает, ногу подволакивает. Младший шатается, как от голода. Одеты в городское, только рваное. Не лихие ли люди? Нет, лихих я сразу узнаю!
А все же сынка в рогожи положила, нож рядом в солому спрятала да и плеточку покрепче в руки взяла. Да зря, оглянулись – сразу видно, что добрые люди.
Руки белые, лица бледные, под глазами черно, у молодого глаза испуганные.
Остановилась.
– Здравствуйте, странники!
Поклонились мне:
– Здравствуй, цыганочка! Куда путь держишь? Не по дороге ли нам?
Сели в телегу, я хлеба им достала, разломила пополам, сколько осталось. Молодой ел жадно, аж руки тряслись. Потом свалился лицом в рогожи и заснул. Дорога тряская, каменистая, а ему хоть бы что. А старший вожжи забрал у меня, ребенка велел на руки взять. Да потихоньку расспрашивает, что да как.
– Вот, – говорю, – внука везу батюшке. А ты кто, человек прохожий? Куда идешь?
– Артисты мы, – говорит. – Вроде вас, цыган, на колесах живем. И как вам, цыганам, нет веры нам никогда, ни в чем.
Остановились в городе, представление давали. А тут крики в толпе, вора поймали. Вор тот вырвался, побежал да прямиком в нашу повозку и вспрыгнул. Проскочил сквозь, да дальше. А милицейский потом под нашей повозкой нашел часы, что вор у богатого человека украл. Ну, вот и заперли нас в каменной тюрьме… Так бы и сгнить нам, да вора того поймали.
Там в тюрьме все хворые, кто в узах… Ну и мы оба захворали. Жар да горячка, думали, помрем. А тут ночью кинули к нам старого цыгана, именем Калина. Не слыхала? Он нас лечил, заговором, водой да черной солью. Смерть отогнал. В церковь придем, свечки ему за здравие ставить будем, хоть на последний пятачок купим!
Вот вышли на волюшку, а театр наш уехал… Артистов в нем без нас только трое, да собачка ученая, да птица говорящая – ворон. Как они без нас будут?! Ведь хозяин стар, а акробатам нашим по десять лет только! Где искать, как найти?
Говорю им: не грустите, странники, вот приедем в табор, спросим у цыган, не видали ли они где артистов.
Приехали, как раз уж почти стемнело. Бросается ко мне старик, ребенка принял, борода трясется, по лицу слезы текут… А у меня ноги подкосились, едва за оглоблю ухватиться успела…
Потом три дня отлеживалась в кибитке. И молочка тебе принесут, и детей отгонят, чтоб не шумели, не мешали спать нам с сыночком, с голубеночком моим… Ну, слава господу, хоть и не доносила немного, а здоровенький родился, рос, как грибочек, скоро да споро.
А артисты так у нас и остались. Чужих у нас не привечали никогда, а этих оставили в таборе. Да и куда их отправишь! От болезни все отойти не могли, особенно молодой: стоит-стоит, побелеет и упадет… Пока не выросла у дорог заветная травка, которой старухи наши лечили, пока не порозовели щеки, голос не повеселел.
А потом цыгане нашли в городе их дедушку и мальчика с девочкой, акробатов, собачку да ворона. Вот радости-то было, до слез! Они плачут, обнимаются, и мы с ними плачем!
Артистов у нас все полюбили. Поставили их повозку рядом с нашими, лошадку их откормили, отчистили. Звали их Иван Иваныч и Федя, а дедушку так дедушкой и величали. Он с моим крестным подружился. Сядут под деревом, трубки курят да говорят тихонько… А то, бывало, и заплачут о чем-то. Старики… Горя много видели, смерть видели. Чужую, а может, и свою… Бывает…
Два года они с нами кочевали. Федя нашу цыганочку Машу в жены взял. Ей уж восемнадцатый шел, а жениха не находилось – она же вроде маленько дурочка была, луны боялась… По ночам не спала, все с кем-то говорила. Сядет у костра и спрашивает вроде как у огня: как, мол, матушка моя, где кочует, с кем? И слушает сидит, что ей огонь расскажет… А матушка ее давно померла.
Старухи этой свадьбе противились, а батюшка так рассудил: отдадим девку за гаджо́, раз свои не берут, может, еще внуков народит. И что? Хорошо жили! Федя Машу никогда не обижал, заботился, как о малой, не замерзла ли, не голодная, не хочет ли чего…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.