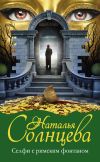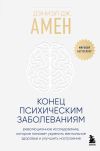Текст книги "Золотая чаша"
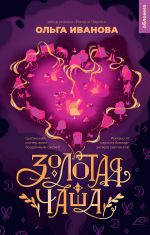
Автор книги: Ольга Иванова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Таборные
Ранними утрами гудел жаркий самовар, девушки заваривали чай из лесных трав и сушеных ягод, наливали в кружки мужчинам, торопившимся в город на заработки – лудить тазы и кастрюли, точить топоры и косы. Женщины собирались идти гадать и просить хлеба.
Вскоре просыпались дети, затевали игры. Матери и старшие сестры покрикивали на них, становилось шумно и пестро.
Цыганки в утренние часы не ели, а только выпивали по кружке травяного чая с маленьким кусочком сахара. И лишь кормящие матери с младенцами позволяли себе съесть немного хлеба.
Старшие ребятишки шли своей компанией, отдельно от матерей. Их целью был городской рынок, где за песни и пляски подавали кусок хлеба, яблочко или даже пряник, наливали кружку кваса, сбитня или сахарной воды. Торговки были щедры, не только из жалости к босым зимой и летом оборвышам, а потому, что цыганята своими песнями привлекали к их лавкам городских зевак.
Иногда дети бежали на вокзал. Там дамы в красивых платьях и господа в цилиндрах и перчатках разглядывали их с любопытством, как зверят в зверинце, и за веселую песенку бросали монетку. Однако городские жандармы, опекавшие вокзал, увидев цыганят среди праздной толпы, среди торопливых пассажиров с узлами и саквояжами, приходили в ярость. Да не просто ругались: могли и нагайкой огреть.
Совсем иначе те же жандармы оценивали появление цыганят на рынке: если и покрикивали на них, если и хватались, свирепо вытаращив глаза, за шашку, и даже наполовину вытаскивали ее из ножен, то почти никогда никого не били, не таскали за волосы, не хлестали нагайкой. Там цыгане были привычными, почти своими. Если и случалось, что кто из крестьян или городских зевак, обнаружив пропажу кошелька, кричал, что, мол, цыгане вытащили, полицейский мог одернуть и самого страдальца: рот не разевай, карманы не подставляй!
Местных воришек, промышляющих тут и зимой и летом, шныряло меж прилавками полно. Жандармы знали их в лицо, но по большей части не обращали внимания. Иной раз предупреждали:
– Эй, Митька! Вишь, вон господин в шубе? Я за него ответствую! Тронешь – сидеть тебе в каталажке! Понятно, харя немытая? И Прошке скажи!
Или, переходя неспешно за дамой в кружевах, цыкали на присматривающегося к ней шаромыгу:
– Ну-ка, пшёл! Не твое!
Воришки благоволили цыганятам, иногда покупали для них нехитрое угощение. Случалось, что кто-то из карманников звал:
– Пойдем-ка со мной! В молочных рядах поплясать треба!
Чая́лэ запевали звонкие песни, младшие отплясывали, выколачивая ритм босыми пятками, отбивая частые дроби чечетки, весело падая «на пузо» и подскакивая, как мячики, мгновенно определяя тех, кому особенно нравилось нехитрое представление и протягивая к ним чумазые ладошки. Обычно представление это было коротким и занимало ровно столько времени, сколько нужно было карманникам, чтобы решить свою грешную задачу. Наградой цыганятам за то, что горожане забывали про свои кошельки, была булка, калач, полфунта изюма, а бывало, и липкий туесок сотового меда.
Братья Корней и Кирсан были два абсолютно одинаковых парня, один из которых носил в ухе серьгу, чтобы его не путали с братом. Матушка их, Марьяна, родила пятерых детей, из них две пары близнецов: после Корнея с Кирсаном была дочь, а потом Озар и Данияр.
Близнецам шили одинаковые яркие рубахи, приберегаемые только для ярмарок, когда они брались на заклад переплясать любого из гаджен. Цыгане, теснясь вокруг, подбадривали плясунов громкими выкриками, хлопали в ладоши и подплясывали.
Когда оба танцора понемногу выдыхались, под веселые звоны бубна и пересвист гаджен, таборные обманщики незаметно подменяли одного из близнецов, и свежий братишка продолжал пляску, казавшуюся бесконечной, а запыхавшийся двойник, скидывая рубаху, прятался в толпе друзей.
Этому же пытались научить младших братишек, но они пока не умели не выдать себя и плясали вдвоём. Гадже особенно хохотали, кричали, свистали, хлопали в ладоши, если начинали пляску обе пары близнецов. Белозубые улыбки не сходили с разгоряченных лиц плясунов. Монетки весело звякали в шляпе, редкие бумажные ассигнации мгновенно исчезали за пазухой ярких рубах. Гордая своими детьми Марьяна подносила им в ковше квас или сладкий сбитень. Ее мешок быстро наполнялся сухарями, хлебом, солониной, салом, горохом, яблоками и тыквами. Он всегда был тяжелее других.
Когда смерть настигала таборного бродягу, – останавливались… Хоронили на кладбище, если оно было недалеко. Место выбирали поближе к дороге. А не случалось кладбища поблизости, так выкапывали могилу просто на обочине, позади хода кибиток. Покойника заворачивали в одеяло, на котором он спал в последние дни жизни. Ставили небольшой деревянный крест. Читали молитвы, обещали покойному: пойдем еще по этой дороге – навестим тебя. А если наши пути мимо лягут – другой табор пойдет. Православные шапку снимут, поклонятся, перекрестятся.
На могиле устраивали скромные поминки: курили трубки, рассказывая друг другу истории про то, каким замечательным человеком был умерший. Было вино – мужчины выпивали, пуская чашу по кругу. Женщины и дети довольствовались чаем с сушеной вишней, черносливом, курагой. На закуску ставили сывьяко – печенный в золе под костром пирог с яблоками и изюмом.
Все действо занимало не больше двух часов. После похорон сразу снимались с места – жить рядом с могилой не позволяли старые обычаи.
На этот раз нашел покой в придорожной могиле давно хворавший Артюх, двоюродный дядька Софьи, брат покойного Кондрата. Человек он был не молодой, но и не старый, имел хорошую семью, в которой младшая дочь была еще совсем маленькой, а старший, уже женатый, ждал первенца.
Жена Артюха, Марга, привезенная из румынского табора, была краснощекой, пышногрудой, проворной и шумной. Она говорила хоть и на близком, но все же ином наречии, а иногда переходила на румынский. Софье было интересно, и она часто просила Маргу спеть на румынском и объяснить смысл песни или спрашивала, как по-румынски будет то или иное слово.
Артюх всегда понимал жену, потому, что любил без памяти. Родила Марга пятерых детей. Старшие вышли лицом в мать, а характером в Артюха: сдержанные, молчаливые, серьезные.
Анфим унаследовал от отца охотничье ружье и страсть бродить по лесам в поисках добычи, которая не раз выручала табор в голодные дни.
Когда он был еще подростком, отец брал его с собой на охоту, учил стрелять, ставить силки и плашки, читать следы и слушать лесные голоса. Парень постиг эту науку в совершенстве; незадолго до смерти отец сказал ему, что теперь есть на кого оставить табор: охотник есть, к нему ружье. Голодными не будут. Да еще и запас хороший был – Артюху, любившему мену, удалось как-то обменять казачье седло на целый ящик заводских охотничьих патронов.
Второй, Ульян, больше всего на свете любил музыку. Скрипка досталась ему от чужого дедушки: какое-то время кочевал вместе с Артюховой семьей подобранный на ярмарке старик. Он отстал от своего котлярского табора, угодив в тюрьму за кражу поросенка, а выйдя вместе со своей неразлучной скрипкой, сильно хворал, все время кашлял, бесконечно занимая себя своей музыкой. От него научился Ульян играть, и когда дедушка покинул табор, встретив наконец родню, он оставил мальчику скрипку, сказав:
– Мне уж недолго осталось. Ты теперь играй, Ульяшко. У тебя ладно выходит. Да смотри не бросай скрипочку, она живая!
Ульян был по-цыгански красив: большеглаз, широкоплеч, высок и строен, но характером больно строг и суров. Как вырос, стал ссориться со всеми, придираясь к каждой мелочи и не перенося чужих ошибок.
И однажды, так же из-за мелочи, из-за глупости распаляясь в споре и распаляя соперника, подрался со своим двоюродным братом Силкой, старше его на два года. Парни едва не покалечили друг друга, и ни один не оказался в драке сильней и ловчей другого. Но когда их растащили и утихомирили, Ульян прокричал, что, раз его не признают правым, он покидает табор.
Так и случилось: ушел со своей скрипкой тем же вечером, голодный – не стал обедать со всеми! – гордый, несогласный. Слышали, что приглянулся в городе какой-то торговке, вдвое старше его, и живет ни в чем не нуждаясь.
Иногда Артюх и Марга просили Софью погадать, как там их непутевый сын. Выходило, что у него все хорошо, живет без горя. Но после его ухода стал хворать отец. И ничего не смогли сделать ни старые знахарки, ни Софья, как ни старались. Болел и чах помаленьку Артюх, пока не позвала его к себе смерть. А Ульян так и не появился в родном таборе.
Третий сын, Лога, едва подрос, в любом селе, где бы ни остановились, стал бегать в церковь, научился молиться не на цыганском языке, а «по-поповски».
Лет двенадцать ему было, когда он принес Псалтырь, купленный у местного дьячка. Поступок этот показался странным обитателям табора. Никто из цыган не стал бы тратить деньги на книгу. И красть никто не стал бы, в церкви грешить! Да и зачем цыганам книга? Костер разжигать? Но настоящее удивление вызвало то, что мальчишка, как оказалось, умеет читать.
В таборе было двое грамотных: Софья да старый Божен, научившийся чтению и письму в варшавской тюрьме, где провел четыре из молодых своих лет. Знал и по-русски, и по-польски, и по-румынски. А вот теперь еще и Лога. Он и раньше просил Божена научить его, да тот по старости уже видел плохо. А Софью попросить Лога стеснялся.
– Кто тебя научил? – пытали его цыгане, и он отвечал:
– Попы, дьяки да прихожане. Тот маленько покажет, другой…
У костров часто вместо песен стали звучать притчи и рассказы о Христе, после которых цыгане порой впадали в тихую задумчивость.
Логу прозвали в таборе Дьячком.
Алек родился нездоровым. Большеглазый, тонкорукий и тонконогий, почти до четырех лет он не ходил, потом стал передвигаться кособочась. Речь его до поры была невнятной, но голос сильный и звонкий. Запевал – все замирало вокруг, казалось, даже птицы притихли послушать цыганенка. Софья жалела мальчишку больше других, всегда старалась приберечь для него сладкий кусочек, укрыть потеплее, чем-то помочь. Он платил ей робкой привязанностью. Они будто бы чувствовали друг в друге нечто общее.
Младшая – кучерявая быстроглазая Патринка, певунья, плясунья, всеобщая любимица, опекала больного братца так, будто бы это она была старшей, а не наоборот. Она помогала ему встать с земли, поддерживала, когда нужно было идти по камням и кочкам, освобождала для него удобное местечко в палатке или в кибитке, вовлекала в детские игры.
Однажды, когда Софья, напевая, занималась штопкой ветхого полога, аккуратно подрезая разлохмаченные края прорех острым ножом, Алек подошел к ней своей кривой неуклюжей походкой, торопясь настолько, насколько у него это получалось, и стал горячо просить о чем-то.
Не сразу разобрала она его путаную речь. Мальчик звал ее с собой к берегу. Она взяла его за руку, помогая передвигаться, и они вместе пошли туда, куда он тянул ее, вдоль реки, не по тропе, а продираясь через густой прибрежный кустарник.
Когда Софья пыталась направить Алека более легким путем, он сопротивлялся и мотал головой.
Вскоре в кустах послышались непонятные звуки – будто тяжелое дыхание, пыхтение, шуршание. А затем сквозь ветви кустарников стало видно что-то большое, сероватое с рыжиной, какого-то зверя. Алек крепче вцепился в руку Софьи, призывно оглядываясь на нее. Когда они приблизились, животное – это был молодой олень – заметалось, тяжело дыша, однако не убежало.
Софья велела Алеку остановиться, а сама приблизилась к олененку. Задней ногой он запутался в небольшом обрывке старой рыболовной сети, затянувшейся петлей выше копытца, а другим краем зацепившейся за обломок кривого корня, торчащего из травы. Софья хотела позвать ребят, но, оглянувшись на Алека, решила сама освободить несчастное животное. Ведь цыганские парни увидели бы в олене скорее легкую добычу, чем несчастное живое существо, которому нужно помочь. Мальчишка смотрел на Софью с мольбой и надеждой.
Выбившись из сил, олененок перестал дергаться; когда она приблизилась, упал и, видимо, смирился с судьбой. Софья, опустившись на колени, крепко ухватила его за ногу. Он задышал, высунув язык, как собака, но не шевельнулся. Ниже впившейся в кожу прочной веревочки сети, над самым копытцем, нога распухла и была горячей. Шепча тихонько молитву лошадиным покровителям, святым Фролу и Лавру, Софья кое-как подцепила веревочку кончиком ножа. Непросто было разрезать ее, не повредив кожу, но все же, с большим трудом и осторожностью, Софья сумела сделать это.
Когда она поднялась, олень все еще неподвижно лежал на траве. Алек восторженно закричал, зверь вскочил и большими прыжками унесся сквозь заросли. Обрывок сети остался в руке Софьи. Мальчик взял его, рассмотрел и спрятал к себе за пазуху.
Возвращаясь в табор, Софья расспрашивала парнишку, откуда он знал об олене: ведь далеко от костров табора один он не отходил никогда. Алек отвечал:
– Он звал меня.
У палаток встревоженная мать стала расспрашивать, куда ходили. Но Софья поняла, что Алек не хочет рассказывать о происшествии. Наверняка им стали бы пенять, что вкусное мясо не попало в котел. Она сказала, что были на берегу, собирали пестрые камешки для гадания. Алек смотрел на нее с благодарностью. Обрывок сети он сжег в костре и тщательно разворошил пепел.
В другой раз мальчишка стал проситься со старшим братом в лес, проверять силки. Тот не хотел брать – Алек ходил плохо и медленно, – но Софья уговорила, да и Лога вступился: пусть погуляет братишка! Что он все время у костра да у костра! Надо и ему больные ножки размять. Анфим согласился, только если Лога с ними пойдет. Старший быстро ушел вперед, а Лога с братишкой шли медленнее, и Алек все время тянул в сторону.
– Куда ты, куда? – спрашивал Дьячок, а парнишка показывал рукой вглубь леса.
– Туда, туда!
На полянке у старой березы под корнями в силке трепыхалась ушастая сова. Алек сам освободил ее, упав рядом на колени. Однако она и не думала улетать. Набожный и милосердный, старший брат с умилением смотрел, как младший осторожно расправляет птице перья и бережно складывает крылья.
– Ты отпусти ее! – попросил Лога, и Алек ответил:
– Я ее не держу. Она не может лететь.
– Повредилась?
– Нет. Она пить очень хочет. Вон там лужица, видишь? Напоить ее надо. Она давно здесь. Плохо ей.
Лога намочил в прозрачной лесной лужице конец своего кушака и выжал немного водицы в ловко раскрытый Алеком клюв. После второй порции совушка стала встряхиваться и осторожно распускать крылья над ладонями мальчика, но улетать не торопилась.
В лесу послышался посвист Анфима, зовущего братьев. Лога отозвался звонким переливом. Алек оглянулся на него тревожно:
– Сову же не едят?
– Не едят. Она мышей ловит, ее есть противно. Только уж если совсем нечего.
Мальчик успокоенно заулыбался.
Анфим подошел почти неслышно, но сова сразу повернула голову в его сторону, защелкала клювом и раскинула пестрые крылья. Алек склонился над ней и прикрыл рукой, оберегая от охотника. Анфим показал свою добычу: четырех куропаток и рябчика, притороченных к поясу. А о сове сказал:
– Добыча ваша нестоящая. Разве собакам отдать.
Алек с трудом встал на ноги и поднял сову над головой:
– Лети, совушка, подружка моя! Еще увидимся!
Птица несколько раз взмахнула крыльями, тяжело оторвалась от рук своего благодетеля и сначала полетела снижаясь, но потом в несколько сильных взмахов поднялась и исчезла за деревьями. Анфим оглянулся на братьев:
– Ну, вот как с вами на охоту идти? В игрушки играете… Ладно этот, малой еще, но ты-то, Лога!
– На что тебе сова? – спросил Дьячок. – Пусть летает, мышей меньше будет. Давеча, вон, просвирки-то погрызли…
– Вот то-то, что с совы вашей толку нет, – отвечал старший брат.
Он взял Алека под мышки, поднял на валежину и подставил ему спину:
– Полезай, брат! А то с тобой до ночи не дойдем к табору. Э, да в тебе весу, как в той сове!
Софья с Терезкой и Патринкой встретили братьев на опушке. Девушки копали и складывали в мешок сладкие корешки медовой огнецветки. За спиной Терезки в теплой шалюшке дремал ребенок.
– А у меня вот тоже дитенок за спиной! – весело закричал Анфим. Смеясь и перешучиваясь, веселой компанией отправились к табору.
Только когда девушки принялись щипать и потрошить охотничью добычу, погрустневший Алек сказал так, что слышала только Софья:
– Я их есть не буду… Они живые были.
Софья обняла его и зашептала на ушко:
– Миленький мой! Ты ведь знаешь – вокруг нас всё так! Если бы рябчик в силок не попался, его бы ястреб поймал. Волк овечку ест, лисица мышку ловит. По-другому они не могут! Господь их такими создал! И нас Господь создал так. Дороги наши дальние, на одной траве не проживешь! А тебе и подавно кушать надо: хворый ты, ножки худые!
Алек со слезами побрел к брату:
– Лога, зачем Господь велел нам мясо кушать? Я не хочу! Я птиц и зверей жалею!
Лога, помолчав, серьезно ответил:
– На Петровский пост я тоже мяса не ел… Да и не было у нас, помнишь? А сейчас поста нет, можно… Пока здесь стоим, на хлебушке, на корешках да на травах продержимся… А пойдем – тяжело будет.
Но с той поры Алек не ел ни похлебку из птицы, ни мясо, как его ни уговаривали. Иногда мог покушать немного рыбы, если кому-то удавалось ее поймать в быстрой речке.
Софья специально чистила для него печенные в костре корешки огнецветки, размышляя над его странностями и при этом любя его всей душой.
– Вот братовья у меня! – посмеивался Анфим. – Дьячок да монашек!
В ночь перед смертью отца Алек не спал, сидел у костра, не сводя глаз с раскаленных углей и бормоча что-то себе под нос. Молиться, как Лога, он не умел, но в его бормотании слышались просьбы к кому-то неведомому, с кем он будто бы был знаком.
К утру, за несколько минут до того, как, будя табор, закричала, заголосила в палатке мать, он встал и, закрыв лицо руками с тонкими, худыми пальцами, тихонько заплакал.
Отца отпевал Лога, как умел, как помнил виденное за небольшой срок прожитой жизни.
Цыгане слушали серьезно, подпевали, крестились, иногда невпопад, поправляли неумелое троеперстие детям.
У женщин по щекам катились слезы: хороший человек был Артюх, пожил не шибко много, а добра людям много сделал… Софья обнимала всхлипывающего Алека. А когда все были готовы в путь и братья усадили его на задок телеги, он попросил:
– Ты, Софьюшка, за моей кибиткой иди. Я буду тебе батюшкину душеньку на небе казать. Я ее вижу. А мама не видит.
Цыганята
Зима в том году на удивление не была сурова. Снег падал и таял. Ветви деревьев роняли ледяные капли. Цыганки месили босыми ногами холодную слякоть.
В селе, у которого в этот раз остановились цыгане, народ был не то чтобы очень щедр, но и не жаден. Мужчинам удалось хорошо заработать лужением медной и железной посуды. Перед началом поста решили порадовать цыганят. Софья с Гутей и Терезкой вызвались съездить за гостинцами. Корней запряг лошадку. Домой возвратились к вечеру.
Подъезжая, слышали, как играют громкоголосые ребятишки. Хороший знак: тишина могла означать беду или тяжелую болезнь кого-то из таборных.
Детям недалеко от лодынэ играть разрешалось, и старшие отвечали за младших.
Вместе с детьми бегали собаки, несколько серых и рыжих лохматых псов, понимавших каждое слово, каждое движение, каждый незначительный жест своих маленьких друзей и беспрекословно подчинявшиеся старшим. Собакам не нужна была привязь. Они всегда были рядом с кибитками и шатрами. Они прекрасно знали, когда им позволялось сопровождать хозяев, а когда нужно оставаться на месте для охраны табора, когда следовало проявить настороженность или даже злобу, а когда нужно быть покладистыми и ласковыми.
Одна собака, темно-серая, с густым пышным воротом вокруг могучей шеи, отличалась крупным ростом и мощью. Ее и звали Бэ́рги (гора). Артюх выменял ее у пастухов маленьким щенком. На кованные стальные стремена выменял и не пожалел ни разу, хотя хорошие стремена были, казачьи.
Вымахала псина при добром хозяине с телка и была верной помощницей во всем: и в дороге, и в доме, и на охоте. Была у собаки необыкновенная особенность: она «пасла» детей. Стоило малышу отбежать подальше, как она вставала на пути, загораживала цыганенку дорогу, не пускала, порыкивала, толкала, заставляя вернуться.
С громким лаем бросились псы к девушкам, едва они появились за деревьями.
– Цыть! – закричала Софья своре. – Адáй амэ! (Это мы!)
Псы обрадованно замахали хвостами, подставляя лобастые головы под ее ладони. Дети, оставив игры, со всех сторон бежали к девушкам, прыгали, цеплялись чумазыми пальчиками за юбки.
Среди детей Софья заметила чужих мальчика и девочку. И хотя они были черноволосы и кареглазы, сразу распознала в них гаджен. Они, скорее всего, не говорили ни по-русски, ни по-цыгански, но Софья знала: малышам не обязательно знать язык, чтобы играть друг с другом; она помнила, как давным-давно маленький Мирон мгновенно подружился и увлеченно играл с названным братом, когда один ни слова не понимал по-русски, а другой так же ни слова по-цыгански.
Втянутые в общее движение, новые ребятишки тоже побежали навстречу Софье, но, когда она обнимала цыганят, держались в сторонке. Она подошла, сама обняла сначала мальчика, а потом девочку. В глазах их была и радость, и робость, и смущение.
На своих тонких ножках подковылял Алек, почти не подросший, но еще более похудевший. Он стал лучше ходить, но, когда дети бегали по двору, сидел рядом на чурбачке, участвуя в их забавах лишь глазами, улыбкой и звонким смехом.
Он подошел, доверчиво опираясь рукой о спину одной из собак, рыжей, а та, понимая, что мальчонка стоит на ногах некрепко и может упасть, словно бы вела его осторожно и не бойко, позволяя держаться цепким пальчикам за шерсть, только хвостом размахивала от души.
Неся короб с гостинцами, вошел Корней. Софья обернулась на его шаги, кивнула на короб:
– Достань там, Корнеюшко, башмачки для Алека.
Почти все дети бегали босыми, только у старших мальчишек, женихов, были сапожки, надеваемые не раньше сильных заморозков, на праздники или на базар, куда их брали отцы Но Алека, не имевшего возможности согреваться быстрым движением, как другие дети, Софья решила обуть в кожаные башмачки, специально заказанные у деревенского сапожника с расчетом на вырост и на портянку, когда похолодает.
Мальчишка радостно всплеснул руками:
– Ой, обувка! Ой! Спасибо тебе, Софьюшка, любушка моя!
Дети столпились рядом, шумно обсуждая новость. Девочки сбегали за водой и из ковша обмыли калеке ступни, а Патринка обтерла их своей фартушкой.
Новые ребятишки с таким же любопытством, как и остальные, рассматривали обновку, но все же держались несколько обособленно. Каждый из детей старался помочь, и, хотя делали они это неумело и неловко, толкаясь и мешая друг другу, в конце концов Алек встал на ноги в новых башмачках из хорошо выделанной серой кожи с плетеными красными завязками.
– Ой, Софьюшка, тепло ножкам! – тоненько пропел мальчишка и засмеялся.
Цыганята запрыгали и завизжали, радуясь, будто все они получили подарок.
Корней поставил короб на чурбачок, раскрыл и стал раздавать ребятне сладкие сухари, лепешки, куски сахара, изюм, сушеные яблоки и сливы. Весь табор столпился вокруг. Старухи, обсуждая Алекову обновку, восхищенно качали головами и прицокивали языками. Кто-то запел, Алек первым подхватил песню, его поддержали другие, и почти сразу в песню влилось все таборное общество.
Пылал костер, девушки ставили самовар.
Евсей и Патринка с двух сторон поддерживали Алека под руки, заставляя его приплясывать в такт гитаре. А он старался, как мог, притопывал неловкими ногами в новых башмачках, напевая и покачивая кудрявой головой.
Это был хор спевшийся, в который легко вливались новые певцы и певицы, порой едва научившись ходить, но наделенные Божьим даром, как их отцы, матери, братья и сестры, и ни один не портил песню неумелой нотой.
Звонко пели гитары, рассыпался ритмичный перезвон бубнов. Далеко разносились наполненные, сильные и глубокие голоса.
Сельчане останавливались, бросали ухваты, топоры и вилы, прислушиваясь: цыгане распелись! Спрашивали друг друга:
– Чего это они? Праздника никакого нет, а у них веселье! Вот же непутевые! – но слушали, остановившись, бросив работу.
Софья спросила, откуда не цыганские ребятишки в таборе. Ей сказали, что в деревне не нашлось места для двух сирот, татарчат Джамили и Джамиля. Мать их, пришлая татарка Фатима, жила с детьми в избушке-развалюшке на краю села, была всё на поденной работе, за чужим скотом ходила. Едва показывалось солнышко, бежала на другой конец села, доила коров, выгоняла скотину, принималась чистить стайки и убирать скотный двор. И так до вечера, пока не придет стадо и не пройдет вечерняя дойка.
Скота больше всех держал трактирщик, у него она и работала.
Вырвался из загона разъяренный бык, пропорол рогом шею лошади, попавшейся на пути, перевернул телегу, растоптал поросенка и понесся по улице в поисках новых жертв. Фатима увидела издалека, схватила палку и бросилась наперерез зверюге. Быка загнать сумела, но сама из боя вышла истекающей кровью, упала у ворот трактирщикова дома и уж не поднялась.
Сельчане похоронили ее не по своему обычаю, не по мусульманскому, а как Бог на душу положил, в сторонке от кладбищенской ограды. Отметили могилу не крестом, а большим камнем, на котором написали ее имя и дату смерти, потому что дату ее рождения никто не знал.
Если бы священник окрестил сироток, кто-то из сельчан может и взял бы их в семью. Но он отказался – басурмане, мол. А некрещеных никто подобрать не захотел. К церкви, милостыню просить, их не подпускали, гнали подальше. Вот они и прибились к табору, увязавшись за цыганятами.
Софья знала: скоро они будут бойко болтать на языке цыган. И свои забудут, откуда они в таборе, а уж из чужих никто и не догадается, что ребятишки иной крови.
Алек всегда оставался в таборе вместе со старухами да хворым отцом, пока тот был жив.
Однажды он попросил ее принести побольше просвирок, не из церквушки у реки, куда иногда заходили цыгане, а из большого пятиглавого храма на горе.
Привыкшая к чудачествам больного мальчишки, Софья даже не спросила зачем. Ранним утром побежала в храм и отстояла заутреню. Мальчик ждал ее. Увидел издали, поднялся на слабые ножки и, покачиваясь, пошел навстречу.
– Вот просвирки тебе, Алек, – обнимая его, говорила Софья, – ну, помолись да покушай.
– Это не мне, – ответил он. – Это болящим в железах, милая моя Софьюшка.
Софьино недоумение развеялось, только когда по дороге мимо стоявшего на отшибе цыганского подворья, медленно, вызвякивая кандалами свою нехитрую тоскливую мелодию, потащился по дороге нестройный, разбродный кагал каторжников с верховыми караульщиками по сторонам. Позади ехали на телегах какие-то женщины и дети.
Изможденные, бледные, с ввалившимися щеками, и, казалось, ненавидевшие всё вокруг, каторжники смотрели на цыган без улыбок, без обычного веселья встречных прохожих. Унылость и отчаяние словно висели в воздухе над этим печальным строем. Только один, заросший бурой бородой, низкорослый, как карлик с длинными руками, закричал:
– А ну, пляши, черноголовые! Вишь, баре приехали! Слышь, звон-то! Это денежки у нас по карманам звенят! Щас вам насыплю!
Другой, чёрный, худой, в шапке из кошки, отвечал:
– Ты им только вошей насыпать можешь, у тебя богато… Да у них, поди, своих хватает!
Двое или трое засмеялись в ответ, остальные даже не оглянулись.
– Эй! – закричали цыгане караульщикам. – Стойте! Остановите, хоть водой их напоим!
– Нет! – отвечал старшой. – Не время! За селом остановим.
Но молодой караульщик на гнедом мерине, уставший от долгого пути, спросил:
– Вода-то холодная?
– Холодная, чистая, родниковая!
Старшой поглядел на него, махнул рукой:
– Стой!
Каторжники садились, даже не сойдя с дороги, некоторые падали на землю, кто навзничь, кто на живот.
Цыганки с ведрами и ковшами начали торопливый обход, первому поднесли молодому караульщику, спросили:
– В Сибирь гоните? За что их?
Он кивнул нехотя, принимая ковш, сказал:
– С самой Варшавы идут. Разные есть – воры, разбойники, душегубцы… А больше таких, кто хотел у царя урвать да свою правду насадить…
Софья увидела Алека в самой гуще каторжан. Чтобы просвирки не крошились, он откусывал по кусочку зубами и клал в рот очередному кандальнику, приговаривая:
– Вот… Хлебушек Господень… Просвирочка… Помолись, православный, и я за тебя помолюсь… Умалит Господь твои страдания…
Каторжники брали без брезгливости, кланялись ребенку, крестились и долго жевали или катали кусочек в беззубом рту.
«Он же дитя малое, – думала Софья, – как ему такое умудрение… От Господа!»
И вдруг увидела, как Алек снимает свой деревянный резной крестик на кожаном шнурке и надевает его на шею самого тощего и страшного каторжника, всего какого-то синего, сгорбленного, над подбородком которого свисал из-под верхней губы желтый, наполовину отгнивший зуб, под глазами мешки кожи, будто мятая пергаментная бумага, на мосластых, морщинистых, багровых руках толстые, серо-желтые, кривые, шершавые когти вместо человеческих ногтей. Увидела, как несчастный крестится своей страшной трясущейся рукой, услышала, как он хрипло бормочет слова благодарности. А Алек его благословляет, будто священник.
Когда, раздав свое подаяние, мальчик сквозь толпу каторжан возвращался в табор, те падали перед ним на колени и склоняли головы к земле.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.