Читать книгу "Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории"
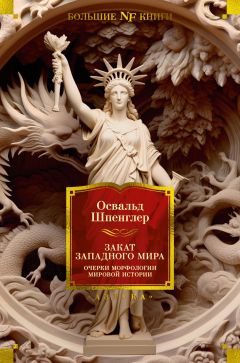
Автор книги: Освальд Шпенглер
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава четвертая
Музыка и скульптура
I. Изобразительные Искусства1
Если отвлечься от круга математически-естественно-научных представлений и символики их фундаментальных понятий, мироощущение высших людей с наибольшей отчетливостью находит символическое выражение в изобразительных искусствах, которых существует бесчисленное множество. Сюда относится также и музыка, и если бы, вместо того чтобы отделять ее от области живописно-пластических искусств, попробовать привлечь весьма различные ее виды в исследования по истории искусств, мы бы продвинулись в понимании того, о чем идет речь в этом развитии к некой цели, гораздо дальше. Однако нам никогда не понять формирующего порыва, сказывающегося в бессловесных[203]203
Как только слово, коммуникативный знак понимания, становится средством выражения искусств, человеческое бодрствование перестает что-либо выражать как целое или воспринимать что-либо, как впечатление, в целом. Также и художественно используемые звучания слов (уж не говоря о прочитываемом слове высших культур, этом посреднике собственно литературы) исподволь разделяют слышание и понимание, поскольку привычное значение слова также играет здесь роль, и в условиях постоянно нарастающей мощи этого искусства также и бессловесные искусства приходят к таким способам выражения, которые связывают мотивы со значениями слов. Так возникает аллегория, мотив, означающий одно слово, как в барочной скульптуре начиная с Бернини; так живопись зачастую становится своего рода иероглифическим письмом, как в Византии после 2-го Никейского собора (787), который лишил художников права выбирать и компоновать картины; и так же отличаются друг от друга ария Глюка, мелодия которой зацветает на значении текста, от арии Алессандро Скарлатти, безразличный сам по себе текст которой должен лишь нести на себе голос певца. Всецело свободен от значения слова контрапункт высокой готики XIII в., чистая архитектура человеческих голосов, в которой одновременно поются многие тексты, даже разноязычные, как духовные, так и светские.
[Закрыть] искусствах, если мы будем считать различие между оптическими и акустическими искусствами принципиальным. Однако не это отличает искусства друг от друга. Искусство глаза и искусство уха – пустые слова. Только XIX столетие могло переоценивать даже физиологические условия выражения, восприятия, опосредования. Насколько мало, по сути, обращено к телесному глазу «поющее» полотно Лоррена или Ватто, так же мало и напрягающая пространство музыка, начиная с Баха, обращается к телесному уху. Античное соотношение между произведением искусства и органом чувств, которое неизменно имеют здесь в виду, причем совершенно превратным образом, – всецело иное, нежели наше, оно куда более упрощенное и материальное. Мы читаем «Отелло» и «Фауста», мы изучаем партитуры, т. е. мы переменяем чувство, чтобы дух данных произведений подействовал на нас абсолютно чистым образом. От внешних чувств здесь всегда происходит апелляция к «внутренней», подлинно фаустовской и всецело неантичной силе воображения. Лишь так следует понимать бесконечную смену места действия у Шекспира в сравнении с античным единством места действия. В крайнем случае, как это имеет место в том же «Фаусте», подлинная постановка, которая бы исчерпывала содержание вещи в целом, вообще невозможна. Но так же и в музыке, уже в исполнении а капелла в стиле Палестрины, а далее – в высшей степени в «Страстях» Генриха Шютца, в фугах Баха, в последних квартетах Бетховена и в «Тристане», мы переживаем позади чувственного впечатления целый мир иных впечатлений, в котором только и выявляется вся полнота и глубина и о котором можно говорить и нечто сообщать лишь посредством переносных образов, ибо гармония волшебным образом заставляет нас здесь увидеть светлые, коричневые, мрачные, золотистые тона, сумерки, горные вершины удаленных хребтов, бури, весенние пейзажи, поглощенные пучиной города, диковинные лица. Далеко не случайно, что Бетховен написал свои лучшие произведения будучи глухим. Как будто это освободило его от последних пут. Для этой музыки зрение и слух – в равной мере мосты к душе, и не более того. Эта визионерская разновидность наслаждения искусством греку абсолютно чужда. Глазом он ощупывает мрамор; пастозный звук авла почти что телесно прикасается к нему. Глаз и ухо являются для него приемниками всего желательного впечатления. Для нас же они больше не были таковыми еще во времена готики.
В действительности звуки представляют собой нечто в неменьшей степени протяженное, ограниченное, исчислимое, чем линии и краски; гармония, мелодия, рифма, ритм – в неменьшей степени, чем перспектива, пропорция, тень и контур. Разрыв между двумя разновидностями живописи может быть куда более значительным, чем между одновременными живописью и музыкой. В сравнении со статуей Мирона пейзаж Пуссена и пасторальная камерная кантата его времени, Рембрандт и органные произведения Букстехуде, Пахельбеля и Баха, Гварди и оперы Моцарта – все принадлежат к одному и тому же искусству. Их внутренний язык форм тождествен до такой степени, что в сравнении с этим различие оптических и акустических средств изглаживается.
То значение, которое искусствознание издавна придавало вневременному понятийному разграничению отдельных областей искусства, доказывает лишь то, что мы не уяснили себе дела во всей его глубине. Искусства – жизненные единства, а ничто живое не может препарироваться. Ученые педанты всегда первым делом намеревались разделить бесконечно большую область на якобы вечные участки (с неизменными формальными принципами!) в соответствии с наиболее поверхностными художественными средствами и техниками. «Музыку» отделяли от «живописи» и от «драмы», «живопись» – от «скульптуры», а затем давали определение «живописи» вообще, «скульптуры» вообще, «трагедии» вообще. Однако технический язык форм – это не более чем личина собственно произведения. Стиль не продукт материала, техники и цели, как полагал плоский Земпер (настоящий современник Дарвина и материализма). Напротив, он является тем, что вообще недоступно художественному рассудку: откровение чего-то метафизического, таинственное долженствование, судьба. С материальными границами отдельных искусств у него нет совершенно ничего общего.
Так что подразделить искусства по условиям воздействия на чувства – значит исказить проблему формы с самого начала. Как можно исходить из допущения «скульптуры» вообще, как вида, и желать на ее основе развивать всеобщие фундаментальные законы? Что такое «скульптура» вообще? «Живописи» как таковой вообще в природе не существует. Зарисовки Рафаэля и Тициана, когда первый работает контурами, а второй – пятнами светотени, принадлежат к двум различным искусствам; искусство Джотто или Мантеньи и Вермеера или ван Гойена вообще не имеет меж собой почти ничего общего, поскольку одни мазком кисти создают своего рода рельеф, другие же вызывают к жизни своего рода музыку на цветной поверхности; фреска же Полигнота и мозаичная картина из Равенны не могут быть отнесены к тому же роду искусства уже исходя из соответствующего им инструментария. Тот, кто не чувствует всего этого, ни за что не поймет более глубоких проблем. А что общего у офорта с искусством Фра Анджелико, у протокоринфской вазовой росписи – с окном готического собора, у египетского рельефа – с рельефом Парфенона?
Если у искусства вообще имеются границы – границы его, ставшего формой души, – то это границы исторические, а не технические или физиологические[204]204
Следствие наших научных методов – история искусства при исключении из нее истории музыки. Если первая является непременной составной частью высшего образования, то вторая осталась уделом кругов специалистов. Это все равно как если бы кто-то вознамерился написать историю Греции, выпустив из нее Спарту. Однако тем самым теория «искусства» вообще становится добросовестной подделкой.
[Закрыть]. Данное искусство – это организм, а никакая не система. Нет ни одного вида искусства, который бы существовал на протяжении всех столетий и культур. Даже там, где взгляд поначалу обманывается пресловутыми техническими традициями (как в случае Возрождения), будто бы свидетельствующими о вечной значимости законов античного искусства, на глубине царит полная несхожесть. Во всем греческо-римском искусстве вообще нет ничего, что находилось бы в родстве с языком форм статуи Донателло, фрески Синьорелли, фасада Микеланджело. Только одновременная кватроченто готика внутренне связана с ним. Если египетские статуи «воздействовали» на архаический греческий тип Аполлона или росписи этрусских гробниц – на раннетосканскую живопись, этому следует придавать не больше значения, чем когда Бах пишет фугу на чужую тему, чтобы показать, что́ способен через нее выразить. Всякое единичное искусство, как китайский ландшафт, так и египетская скульптура и готический контрапункт, появляются лишь однажды и никогда больше не повторяются со своей душой и символикой.
2
Тем самым понятие формы претерпевает громадное расширение. Средством выражения является не только технический инструмент, не только язык формы, но и сам выбор вида искусства. То, что означает для отдельного художника создание главного произведения его жизни, а именно эпоха, которой явилась «Ночная стража» для Рембрандта, «Мейстерзингеры» – для Вагнера, знаменуется в истории жизни культуры созданием рода искусства, взятого как целое. Каждое из этих искусств, если не принимать во внимание самые поверхностные параллели, является самостоятельным организмом, не имеющим ни предшественников, ни последователей. Вся теория, техническая сторона, все условности относятся к их же характеру и не имеют ничего вечного и общезначимого. Вопрос о том, когда то или иное из этих искусств возникает и когда угасает, угасает ли оно или же превращается в другое искусство, почему те или другие искусства отсутствуют в данной культуре или господствуют в ней, – все это еще относится к форме в высшем смысле, точно так же как и всякий другой вопрос о том, почему тот или иной художник или музыкант совершенно бессознательно отказывается от определенных цветовых тонов и гармоний, другие же предпочитают до такой степени, что по ним-то их и отличают.
Теория, в том числе и современная, все еще не признала значения данной группы вопросов. И все же лишь эта сторона физиономики искусств дает ключ к их пониманию. До сих пор все искусства – при условии упомянутого «подразделения» – без какого-либо продумывания этих весьма непростых вопросов считали за возможные везде и всюду, и если то или иное из них отсутствовало, это приписывали случайной нехватке творческих личностей или поощрения со стороны обстоятельств или меценатов, которые сгодились бы на то, чтобы «повести искусство по его пути далее». Вот что я называю переносом принципа каузальности из мира ставшего в мир становления. Будучи слепы к совершенно иным по характеру логике и необходимости живого, к судьбе и неизбежным и ее никогда более не повторяющимся выразительным возможностям, люди привлекают осязаемые, лежащие на поверхности причины, чтобы сконструировать поверхностную последовательность событий в области истории искусства.
Уже в самом начале было указано на то, что плоское представление о линейном поступательном развитии «человечества» как такового от древности через Средневековье к Новому времени лишило нас возможности видеть истинную историю высших культур и ее структуру. Особенно ярким примером этого является история искусства. После того как наличие определенного числа постоянных и хорошо очерченных областей искусств было принято за само собой разумеющееся, история этих отдельных областей была выстроена в соответствии со столь же само собой разумеющейся схемой «Древний мир – Средневековье – Новое время», причем для индийского искусства и искусства Восточной Азии, для искусства Аксума и Сабы, Сасанидов и России здесь не нашлось места, так что они рассматриваются в качестве приложения или вообще остаются без рассмотрения, а никому и в голову не приходило заключить по данной последовательности о нелепости всего метода: данная схема предназначалась к тому, чтобы теперь любой ценой наполниться фактами, и они должны были ее наполнить. Исследователи бездумно прослеживали взлеты и падения. О состояниях затишья говорили как о «естественных паузах»; об «эпохах упадка» – там, где в действительности умерло великое искусство; об «эпохах возрождения» – там, где (вполне явно для непредубежденного взгляда) на свет являлось другое искусство на ином ландшафте и в качестве выражения совсем другого человечества. Еще и сегодня продолжают вещать, что Ренессанс явился возрождением античности. Наконец, отсюда выводится возможность и право вновь оживлять те искусства, которые ослабели или уже умерли (современность представляется в данном отношении настоящим полем брани), – посредством сознательно создаваемых новообразований, программ или насильственного «реанимирования».
Однако именно вопрос о том, почему великое искусство должно завершаться с производящей символическое действие внезапностью (аттическая драма – с Еврипидом, флорентийская скульптура – с Микеланджело, инструментальная музыка – с Листом, Вагнером и Брукнером), способен пролить свет на органичность этих искусств. Присмотримся повнимательнее, и мы убедимся в том, что никогда и речи не было о «возрождении» хотя бы одного значительного искусства.
Ничего из пирамидного стиля не перешло в стиль дорический. Ничто не связывает античный храм с восточной базиликой, ибо усвоение античной колонны в качестве строительного элемента (самое существенное для поверхностного взгляда) имеет не больше значения, чем использование Гёте античной мифологии в его классической «Вальпургиевой ночи». Вот уж в высшей степени диковинная фантазия – верить в возрождение какого бы то ни было античного искусства на Западе в XV в. Сама же поздняя античная эпоха отказалась от музыки большого стиля, перед которой открывались вполне реальные возможности еще в дорическое раннее время: свидетельством этого служит значение Древней Спарты (здесь творили Терпандр, Талет, Алкман, между тем как в другом месте возникло искусство ваяния) для всего, что было заметно в музыке впоследствии. Точно так же в конце концов перед лицом арабески исчезает все то, что вначале опробовала магическая культура во фронтальной статуе, в горельефе и в мозаике, а перед венецианской масляной живописью и инструментальной музыкой барокко – исчезло все, что было создано в скульптуре в тени готических соборов в Шартре, Реймсе, Бамберге, Наумбурге и наконец – в Нюрнберге Питера Фишера и во Флоренции Верроккьо.
3
Храм Посейдона в Пестуме и кафедральный собор в Ульме, эти произведения наиболее зрелого дорического и готического стиля, различны меж собой как евклидова геометрия телесных граничных поверхностей и аналитическая геометрия положений точек по отношению к пространственным осям. Все античное зодчество начинается снаружи, все западное – внутри. Внутри начинается также и арабское, однако оно там и остается. Только фаустовская душа, и никакая другая, испытывала потребность в стиле, который бы прорывался сквозь стены в безбрежную Вселенную и превращал бы как внешний, так и внутренний облик здания в соответствующие образы одного и того же мироощущения. Как базилика, так и купольное сооружение могут быть архитектонически украшены снаружи, однако архитектурой они там не являются. То, что при приближении к ним открывается взору, производит впечатление некой защиты, чего-то скрывающего в себе тайну. Язык форм пещерных сумерек явлен только общине, и в этом родство между высшими образцами данного стиля и самыми незатейливыми митреями и катакомбами. То было первое энергичное выражение новой души. Стоило германскому духу овладеть этим базиликальным типом, как началось поразительное преобразование всех строительных элементов и по положению, и по смыслу. Здесь, на фаустовском Севере, отныне и впредь внешний облик строения, причем любого, от собора до простого жилища, соотносится со смыслом, в котором осуществлено членение внутреннего пространства. Мечеть умалчивает об этом, храму такая проблема вообще неведома. У фаустовского здания имеется «лицо», а не только фасад (напротив того, фронтальная сторона периптера – это всего лишь одна сторона, между тем как центрально-купольное строение, по идее, не обладает даже и фронтоном), а к лицу, к голове присоединяется членящееся туловище, которое либо простирается по обширной площади, как Шпейерский собор, либо тянется к небу бесчисленными остриями шпилей, как Реймсский собор по первоначальному наброску. Мотив фасада, взирающего на наблюдателя и повествующего ему о внутреннем смысле дома, господствует не только в наших отдельных великих постройках, но и во всей насыщенной окнами картине наших улиц, площадей и городов[205]205
Ср. с. 595–596. Что-то подобное мог также представлять собой облик улиц в Древнем Египте, если мы вправе делать заключения на основе найденных на Крите табличек с изображениями домов (Bossert H. Alt-Kreta (1921). Т. 14), а ведь пилон – это в полном смысле слова фасад.
[Закрыть].
Ранняя великая архитектура приходится матерью всем прочим искусствам. Она определяет их подбор и их дух. По этой причине история античного изобразительного искусства представляет собой непрестанную работу над завершением одного-единственного идеала, т. е. по завоеванию свободно стоящего человеческого тела как олицетворения чистого, вещного настоящего. Храм обнаженного тела отстраивали в античности подобно тому, как фаустовская музыка начиная с самого раннего контрапункта и вплоть до инструментальной фразы XVIII в. неизменно возводит собор из голосов. Пафос этой продолжавшейся столетиями аполлонической тенденции оставался абсолютно непонятым, потому что никто и никогда не чувствовал, что как архаический рельеф, так и коринфская вазопись и аттическая фреска подразумевали чисто материальное, бездушное тело (ведь и храм тела также лишен «интерьера»!), пока Поликлет и Фидий не дали урок того, как полностью им овладевать. Эту скульптуру с поразительной слепотой принимают за общезначимую и возможную повсюду, за скульптуру как таковую, и пишут ее историю и теорию, в которой перечисляются все времена и народы. Под впечатлением без проверки принятых на веру возрожденческих учений наши скульпторы еще и сегодня продолжают рассуждать о том, что обнаженное человеческое тело представляет собой наиболее возвышенный и подлинный предмет изобразительных искусств как таковых. На самом же деле ваяние, свободно ставившее обнаженное тело на плоскость и разрабатывавшее его со всех сторон, существовало лишь однажды, а именно в античности, и только там, потому что только эта культура категорически отвергла выход ради пространства за пределы чувственных границ. Египетская статуя всегда создавалась с расчетом на вид спереди, а значит, была некой разновидностью барельефа, воспринимаемые же в качестве внешне античных ренессансные статуи (изумляет их небольшое число, что обнаруживается, стоит начать их подсчитывать[206]206
Гиберти и даже сам Донателло еще не ушли от готики; Микеланджело же воспринимает уже по-барочному, т. е. музыкально.
[Закрыть]) являются не чем иным, как полуготическими вариациями.
Развитием этого безоговорочно лишенного пространства искусства наполнены три века, с 650 по 350 г., т. е. с завершения дорики, которое произошло одновременно с началом тенденции к освобождению фигуры от фронтальной египетской скованности (борьба за постановку проблемы иллюстрируется рядом «фигур Аполлона»[207]207
Déonna. Les Apollons archaïques (1909).
[Закрыть]), и вплоть до начала эллинизма с его иллюзионистской живописью, которая завершает большой стиль. Мы никогда не сможем оценить эту скульптуру, если не поймем ее в качестве последнего и высшего античного искусства – произошедшего из искусства плоскостного и поначалу повиновавшегося фресковой живописи, а затем ее преодолевшего. Разумеется, в техническом смысле его можно возвести к попыткам эпохи зрелой архаики фигурно обработать колонну или же служившие для облицовки стены храма плиты[208]208
Woermann. Gesch. der Kunst I (1915). S. 236. Примером первого может служить Гера Херамия{716}716
Найденная на Самосе статуя Геры (посвящена неким Херамием), фигура которой воспроизводит округлость древесного ствола.
[Закрыть], а также неизменно наблюдаемое стремление превратить колонны в кариатид; примером второго – Артемида Никандра с ее связью с древнейшей техникой исполнения метоп.
[Закрыть]; здесь же время от времени имеет место подражание египетским произведениям (сидячие изваяния из Дидимейона близ Милета), хотя очень немногие греческие художники могли видеть хоть одно из них. Однако в качестве идеала формы статуя – через рельеф – возникает из архаической вазописи, из которой развилась также и античная фреска. Оба они лепятся к телесной стене. Всю эту скульптуру вплоть до Мирона можно рассматривать как отделенный от плоскости рельеф. Наконец, фигура разрабатывается сама по себе, наряду со всем объемом здания, однако она остается силуэтом перед стеной[209]209
Большинство произведений – группы на фронтонах или метопы, однако также и фигуры Аполлона и «девушки» с Акрополя не могли стоять свободно.
[Закрыть]. В отсутствие глубинного направления она распространяется перед зрителем фронтально, и еще Марсия Мирона оказывается возможно с легкостью и без каких-либо значительных ракурсов отобразить на вазах и монетах[210]210
Salis A. v. Kunst der Griechen (1919). S. 47, 98 f.
[Закрыть]. По причине этого начиная с 650 г. из двух поздних искусств большого стиля первенство, несомненно, принадлежит фреске. Небольшой запас мотивов неизменно подтверждается прежде всего росписями на вазах, которым зачастую точно соответствуют очень многие поздние скульптуры. Нам известно, что группа кентавров с западного фронтона в Олимпии создавалась по мотивам картины. Развитие, проделанное на пути от западного к восточному фронтону храма на Эгине, знаменует шаг от фресковости к телесности. С Поликлетом ок. 460 г. происходит переворот, и отныне уже скульптурные группы, напротив, становятся образцом для строгой живописи. Всесторонняя же телесная разработка становится вполне реалистической, проведенной как «факт» лишь начиная с Лисиппа. Вплоть до него, даже у Праксителя, имеет место фронтальное развитие с резкими контурами, рассчитанное на восприятие лишь с одной или двух точек.
Непреходящим свидетельством происхождения круглой скульптуры из живописи является цветная роспись мрамора (о чем Ренессанс и классицизм не имели никакого представления и, более того, восприняли бы это как варварство[211]211
Именно решительное предпочтение белого камня характерно для противоположности античного и ренессансного восприятия.
[Закрыть]), а также статуи из золота и слоновой кости и эмалевые украшения бронзовых, светящихся естественным золотистым тоном скульптур.
4
Соответствующая стадия западного искусства охватывает три столетия – с 1500 по 1800 г., с конца поздней готики до упадка рококо, а значит, до конца большого фаустовского стиля вообще. В соответствии со все явственнее доходившей до сознания волей к пространственной трансценденции, в этот период происходит выдвижение инструментальной музыки на роль господствующего искусства. Поначалу, в XVII в., музыка живописует при помощи характерных звуковых тонов инструментов, при помощи противоположности струнных и духовых, вокальных и инструментальных голосов. Она претендует (совершенно бессознательно) на то, чтобы сравняться с великими мастерами от Тициана и до Веласкеса. Музыка предлагает картины: во всякой фразе тема с вариациями на фоне генерал-баса – таков сонатный стиль от Габриели († 1612) до Корелли († 1713). В пасторальных кантатах она пишет героические пейзажи; с помощью мелодической линии в Монтевердиевой жалобной песне Ариадны (1608) она рисует портрет. С выходом на сцену немецких мастеров все это отступает на задний план. Живопись больше не задает тон. Музыка становится абсолютной, и это уже она (опять-таки бессознательно) господствует в XVIII в. над живописью и архитектурой. Скульптура все с большей решительностью изгоняется из круга более глубоких возможностей этого мира форм.
Что является отличительной особенностью живописи до и после ее перемещения из Флоренции в Венецию, а значит, что характерно для живописи Рафаэля и Тициана как двух совершенно разных искусств, так это скульптурный дух первого, что приближает его картины к рельефу, и музыкальный дух второго, что при его технике, оперирующей с помощью видных глазу мазков кисти и глубинных воздушных воздействий, весьма недалеко от хроматики струнных и духовых хоров. Постижение того, что здесь имеет место противоположность, а никакой не переход, является определяющим для понимания организмов этих искусств. Вот уж где нам следует остерегаться абстрактного допущения «вечных законов искусства». Живопись – всего лишь слово. Готическая живопись по стеклу была составной частью готической архитектуры. Она служила ее строгой символике, подобно тому как делала это и раннеегипетская, и раннеарабская, как служит ей любое другое искусство на данной стадии языка камня. Драпированные фигуры возводились подобно соборам. Складки были орнаментом – в высшей степени чистым и строгим по выражению. Неверно критиковать их за «одеревенелость», как это подчас делают, исходя из натуралистически-подражательной точки зрения.
Также и «музыка» – всего лишь слово. «Музыка» существует всегда и всюду, в том числе и до всякой культуры вообще, в том числе и у животных. Однако античная музыка высокого стиля была не чем иным, как скульптурой для слуха. Группы тетрахордов, хроматика и энгармоника[212]212
В соответствии с александрийским словоупотреблением. Для нас эти слова означают нечто совершенно иное.
[Закрыть] заряжены тектоническим, а не гармоническим значением; однако это ведь и есть различие тела и пространства. Музыка эта одноголосная. Немногочисленные инструменты рассчитаны на скульптурность тона, египетская же арфа (возможно, несколько схожая с чембало по окраске тона) как раз по этой причине отвергается. Но самое главное то, что мелодия (как и античный стих начиная от Гомера и вплоть до времени Адриана) строится количественно, а не по акцентам, т. е. слоги являются телами и их объемом определяется ритм. Как видно из скудных уцелевших фрагментов, нам не понять, в чем заключалась привлекательность этого искусства для восприятия, однако это должно было бы заставить нас задуматься также и о разнице между предполагаемым и реальным впечатлением от статуй и фресок, ибо здесь мы уж точно не способны изведать той прелести, которой они влекли к себе античный взор.
Также непонятна нам и китайская музыка, в которой мы, по утверждению образованных китайцев, не в состоянии различать веселые и печальные места[213]213
Точно так же и мы воспринимаем всю русскую музыку как бесконечно печальную, каковой она, по уверению настоящих русских, для них самих вовсе не является.
[Закрыть], и, напротив, китаец воспринимает всю без исключения западную музыку как марш, что прекрасно передает впечатление, производимое ритмичной динамикой нашей жизни на ритмически неакцентированное дао китайской души. Однако так воспринимает чужак и всю нашу культуру вообще: энергетику направления церковных нефов и поэтажное членение всех фасадов, глубинную перспективу живописных полотен, развитие трагедии и повествования, а кроме того – и технику всей вообще частной и общественной жизни. Этот такт у нас в крови, и поэтому мы его вовсе не замечаем. В созвучии же с ритмом чужой жизни он производит впечатление невыносимого диссонанса.
Чем-то совершенно иным представляется мир арабской музыки. До сих пор мы рассматривали исключительно псевдоморфоз: византийские гимны и иудейские псалмодии, да и те лишь постольку, поскольку они проникли в церковь дальнего Запада – в виде антифонов, респонсориев и амвросианского пения. Однако понятно само собой, что не только у религий к западу от Эдессы, таких как синкретические культы, в первую очередь сирийская религия Солнца, гностики и мандеи, но также и у восточных – маздаистов, манихейцев, общин Митры, синагоги в Ираке, а позднее у несториан была духовная музыка одного и того же стиля, что рядом с ней получила развитие бодрая, светская музыка в первую очередь южноаравийского и сасанидского рыцарства[214]214
Ср. с. 703.
[Закрыть] и что обе они получили свое завершение в мавританском стиле, распространенном от Испании до Персии.
Из всего этого богатства фаустовская душа заимствовала лишь отдельные формы западной церкви, однако тут же, еще в X в., они были внутренне перетолкованы (Хукбальд, Гвидо д’Ареццо) как марш и олицетворение бесконечного пространства. Первое имело место посредством такта и темпа мелодики, второе – посредством полифонии (и одновременно в поэзии – посредством рифмы). Чтобы это понять, следует различать подражательную[215]215
«Подражание» в барочной музыке означает нечто совершенно другое, а именно копирование мотива в иной окраске (высотной ступени).
[Закрыть] и орнаментальную сторону музыки, и если нам по причине мимолетности всех вообще звуковых творений[216]216
Ибо все уцелевшие ноты что-то говорят лишь тому, кто все еще знает и владеет звуками и обращением с соответствующими средствами выражения.
[Закрыть] известна лишь музыкальная культура Запада, этого вполне достаточно для того, чтобы явить нам две стороны процесса развития, без чего вообще невозможно понять историю искусства. Первая – это душа, ландшафт, чувство, вторая – строгая форма, стиль, школа. Первая проявляется в том, что отличает музыку отдельных людей, народов и рас, вторая же – в правилах строения фразы. В Западной Европе существует орнаментальная музыка большого стиля (та самая, которой соответствует античная скульптура строгого стиля). Она связана с историей возведения соборов, стоит на короткой ноге со схоластикой и мистикой и находит собственные законы в отеческом ландшафте высокой готики между Сеной и Шельдой. Контрапункт развивается одновременно с системой контрфорсов, причем из «романского» стиля дисканта и фобурдона с их простым параллельным и противодвижением. Это архитектура человеческих голосов, и точно так же, как скульптурные группы и росписи по стеклу, они мыслимы только в сплетении этих каменных сводов – вот высокое искусство того же самого пространства, которое математически постиг Николай Оресм, епископ Лизье[217]217
1323–1382, современник Машо и Филиппа де Витри, чье поколение окончательно сформулировало правила и запреты строгого контрапункта.
[Закрыть], посредством введения координат. Вот настоящие rinascita и reformatio [возрождение (ит.) и реформация (лат.)], какими их прозревал ок. 1200 г. Иоахим Флорский[218]218
Ср. с. 804–805.
[Закрыть], рождение новой души, отраженной в языке форм нового искусства.
Наряду с этим в замках и деревнях возникает светская, подражательная музыка трубадуров, миннезингеров и шпильманов, которая ок. 1300 г., во времена Данте и Петрарки, в качестве Ars nova{80}80
«Новое искусство» (лат.), направление французской музыки XIV в., получившее название по трактату Филиппа де Витри (ок. 1320) и противопоставлявшееся Ars antique («Старому искусству»), которое господствовало в XIII в.
[Закрыть] проникает из провансальских дворов во дворцы тосканских патрициев. Это всего лишь мелодии под аккомпанемент, трогающие сердце своими мажором и минором, – канцоны, мадригалы, качча. Имеется здесь и своего рода придворная оперетта, «Игра о Робене и Марион» Адама де ла Аль. После 1400 г. из всего этого возникают многоголосные формы фразы: рондо и баллада. Это уже «искусство» для публики. Композиторы имитируют сцены из жизни – любовь, охоту, героизм. Здесь важна мелодическая изобретательность, а не символика ведения голосов.
Так что замок и собор различны меж собой также и в музыкальном отношении. Собор сам является музыкой, в замке же музыку исполняют. Первая начинается с теории, вторая же – с импровизации: так различаются бодрствование и существование, певец духовный и певец рыцарский. Подражание ближе к жизни и направлению и потому начинается с мелодии. Символика контрапункта относится к протяженности и трактует бесконечное пространство посредством многоголосия. В результате мы имеем кладезь «вечных» правил и неистощимую сокровищницу народных мелодий, что дает пищу еще и XVIII столетию. В художественном отношении данная антитеза проявляется также и в сословной противоположности Возрождения и Реформации[219]219
Ср. с. 814.
[Закрыть]. Придворный вкус во Флоренции противен духу контрапункта. Развитие строгой музыкальной фразы от мотета к четырехголосной мессе, осуществленное Данстейплом, Беншуа и Дюфаи (ок. 1430), остается привязанным к ареалу готической архитектуры. От Фра Анджелико и до Микеланджело в орнаментальной музыке безраздельно господствуют великие голландцы. Лоренцо Медичи пришлось приглашать в собор Дюфаи, потому что во Флоренции ничего не смыслили в строгом стиле. И между тем как здесь писали картины Леонардо и Рафаэль, на Севере Окегем († 1495) и его школа и Жоскен Депре († 1521) подняли вокальное многоголосие на вершину его формального совершенства.
Поворот к позднему времени заявляет о себе в Риме и Венеции. С началом барокко ведущая роль в музыке переходит к Италии, однако одновременно с этим архитектура утрачивает роль задающего тон искусства; оформляется группа отдельных фаустовских искусств, средоточием которых является масляная живопись. Ок. 1560 г., со стилем а cappella Палестрины и Орландо ди Лассо (оба † 1594), господству вокала приходит конец. Его скованный звук более не в состоянии выражать страстный порыв к бесконечному и уступает звуку хоров струнных и духовых инструментов. Одновременно в Венеции возникает тициановский стиль нового мадригала, мелодические волны которого воспроизводят смысл текста. Музыка готики – архитектоничная и вокальная, музыка барокко – живописная и инструментальная. Если первая конструирует, то вторая работает с мотивами; тем самым был сделан еще и шаг от безличной формы к индивидуальному выражению великих мастеров. Ибо все искусства сделались городскими, а значит, светскими. Возникший в Италии незадолго до 1600 г. метод генерал-баса рассчитан на виртуозов, а вовсе не на аскетов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































