Читать книгу "Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории"
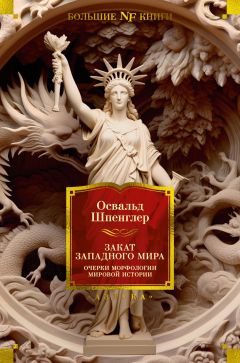
Автор книги: Освальд Шпенглер
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Можно, что называется, трактовать геометрию алгебраически или же алгебру – геометрически, т. е. полностью исключать зрение или давать ему господствовать. Первым занимаемся мы, вторым же занимались греки. В выполненном Архимедом красивом вычислении спирали он касается определенных всеобщих фактов, лежащих также и в основе метода определенного интеграла Лейбница, однако тут же подчиняет свои выглядящие при поверхностном рассмотрении очень по-современному процедуры принципам стереометрии; в подобном случае индус прибег бы – как к чему-то само собой разумеющемуся – к тригонометрической формулировке[60]60
Сегодня уже невозможно установить, что именно в известной нам индийской математике является древнеиндийским, т. е. создано до Будды.
[Закрыть].
13
Коренная противоположность античных и западных чисел приводит также к еще одной, столь же глубинной противоположности. Я говорю об отношениях, в которых находятся друг к другу элементы этих числовых миров. Отношение величин называется пропорцией, отношение же соотношений содержится в понятии функции. Покинув пределы математики, оба этих слова играют чрезвычайно большую роль в технике обоих соответствующих искусств, в скульптуре и музыке. Если всецело отвлечься от смысла, который имеет слово «пропорция» применительно к членению отдельной статуи, то именно типично античные художественные формы статуи, рельефа и фрески допускают увеличение и уменьшение масштаба – слова, не имеющие абсолютно никакого смысла применительно к музыке. Можно вспомнить и об искусстве резания гемм, предметом которого было в основном уменьшение мотивов, имевших в оригинале натуральную величину. Напротив того, решающее значение внутри теории функций имеет понятие трансформации групп, и музыкант подтвердит, что аналогичные образования образуют значительную часть новейшего учения о композиции. Напомню лишь об одной из самых утонченных инструментальных форм XVIII в. – tema con variazioni [тема с вариациями (ит.)].
Всякая пропорция предполагает постоянство, всякая трансформация – изменчивость элементов: здесь достаточно сравнить теоремы равенства в редакции Евклида, доказательство которых основывается фактически на данном соотношении 1 : 1, с их современным выводом с помощью круговых функций.
14
Конструкция, которая в широком смысле включает в себя все методы элементарной арифметики, является альфой и омегой античной математики – построение одной-единственной и зримо данной фигуры. Циркуль – вот резец этого по сути еще одного изобразительного искусства. Труд исследователей в области теории функций, чья цель вовсе не результат в виде некой величины, но обсуждение общих формальных возможностей, можно назвать разработкой своего рода учения о композиции, имеющего близкое родство с композицией музыкальной. Целый ряд понятий теории музыки оказался безусловно применимым также и к аналитическим операциям физики: тональность, фразировка, хроматика и другие, и еще вопрос, не выиграли ли бы от такого применения еще и многие другие отношения.
Всякая конструкция утверждает видимость, всякая же операция ее отрицает, поскольку первая разрабатывает то, что дано оптически, вторая же все это упраздняет. Так появляется еще одна противоположность того и другого вида математических процедур: античная математика малого рассматривает конкретный единичный случай, рассчитывает определенное задание, исполняет одноразовую конструкцию. Математика бесконечного имеет дело с целыми классами формальных возможностей, с группами функций, операций, уравнений, кривых, и это еще не имея в виду какой бы то ни было результат, но исключительно продвижение к нему. Прошло вот уже два столетия (в чем едва ли отдают себе отчет современные математики) с тех пор, как возникла идея общей морфологии математических операций, которую можно было бы назвать подлинным смыслом всей математики Нового времени. В этом о себе заявляет всеобъемлющая тенденция западной духовности в целом, и впоследствии она будет все больше проясняться, – тенденция, являющаяся достоянием исключительно одного только фаустовского духа и его культуры, поскольку подобных устремлений ни в одной другой культуре нет. Преобладающее большинство вопросов, занимающих нашу математику как наиболее близкие ей проблемы (чему у греков соответствует квадратура круга), как, например, нахождение критериев сходимости бесконечных рядов (Коши) или обращение эллиптических и вообще алгебраических интегралов в многократно-периодические функции (Абель, Гаусс), вероятно, представилось бы «древним», которые отыскивали в качестве результатов простые определенные величины, остроумной, но несколько замысловатой игрой, и в этом они оказались бы всецело поддержанными также и широкими кругами в наше время. Нет на свете ничего менее популярного, чем современная математика, и также и здесь проглядывает что-то от символики бесконечной дали, дистанции. Все великие творения Запада от Данте и до Парсифаля оказывались непопулярными, все же античные от Гомера и до Пергамского алтаря были популярными в высшей степени.
15
И наконец, все содержание западного числового мышления фокусируется в классической для фаустовской математики проблеме предела, скрывающей в себе ключ к тому труднодоступному понятию бесконечного (фаустовского бесконечного), которое весьма удалено от бесконечности арабского и индийского мироощущения. Речь идет о теории предела, вне зависимости от того, будет ли соответствующее число рассматриваться по отдельности как бесконечный ряд, кривая или функция. Предел этот является полной противоположностью античного, до сих не называвшегося данным именем, который обсуждался в связи с квадратурой круга, этой классической задачей на предел. Еще в XVIII в. вульгарно-евклидовские предубеждения затемняли смысл дифференциального принципа. С какой бы осмотрительностью ни применялось поначалу вполне доступное понятие бесконечно малого, все равно на нем тяготело нечто от античной постоянной, тень величины, пускай даже Евклид не усмотрел бы ее здесь и не признал за таковую. Нуль является константой, целым числом линейного континуума между +1 и –1; исследованиям Эйлера в области анализа повредило то, что он (как и многие вслед за ним) считает дифференциалы за нули. Лишь Коши окончательно прояснил понятие предела, что позволило покончить с этим остатком античного числового ощущения и превратило исчисление бесконечно малых в непротиворечивую систему. Лишь шаг, сделанный от «бесконечно малой величины» к «нижнему пределу любой возможной конечной величины» приводит к концепции переменного числа, которое принимает значения, меньшие всякой отличной от нуля конечной величины, и, следовательно, уже не обладает никаким, даже самым незначительным, свойством величины. В этом окончательном виде предел вообще не является тем, к чему нечто приближается. Он сам представляет собой приближение, т. е. процесс, операцию. Предел – не состояние, но поведение. Именно здесь, в решающей проблеме западной математики, внезапно обнаруживается, что в нашей душевности заложена историчность[61]61
«Если правильно понимать функцию, она оказывается бытием, осмысленным в деятельности» (Гёте){711}711
«Максимы и размышления», раздел «Наброски, сомнительное, незаконченное» (Goethe J. W. Werke. Berlin: Aufbau-Verlag, 1970. Bd. 18. S. 674). Цитируется, вероятно, по памяти, так как в тексте Гёте высказывание короче: «Функция есть бытие, осмысленное в деятельности».
[Закрыть]. Ср. возникновение фаустовских функциональных денег, с. 1028.
[Закрыть].
16
Освобождение геометрии от созерцания, а алгебры – от понятия величины, объединение их обоих в мощное здание теории функций, находящееся по другую сторону всех элементарных границ конструкций и вычислений, – вот великий путь западного числового мышления. Так античное постоянное число разрешилось в число переменное. Ставшая аналитической геометрия упразднила все конкретные формы. Она заменяет математические тела, на косном образе которых отыскивались геометрические значения, абстрактно-пространственными отношениями, которые вообще в конечном счете более не применимы к фактам чувственно данного созерцания. Вначале она заменяет оптические образы Евклида геометрическими местами точек по отношению к системе координат, начальная точка которой может быть произвольно выбрана, и сводит предметное существование геометрических объектов к тому требованию, что в ходе операции, которая направлена теперь уже не на измерения, но на уравнения, выбранная система не должна изменяться. Однако тотчас же координаты начинают пониматься исключительно как чистые значения, которые не столько определяют положение точек как абстрактных пространственных элементов, сколько репрезентируют их и заменяют. Число, предел ставшего, теперь символически представляется не образом фигуры, но образом уравнения. «Геометрия» меняет свой смысл на противоположный: система координат исчезает как образ, а точка теперь – это всецело абстрактная группа чисел. То, как благодаря новшествам Микеланджело и Виньолы архитектура Возрождения переходит в барокко, является точным отображением этого внутреннего преобразования анализа. Проясненные для чувств линии фасадов дворцов и церквей сразу делаются вдруг недействительными. Взамен четких координат флорентийско-римской расстановки колонн и членения этажей являются «инфинитезимальные» элементы изогнутых, текучих строительных украшений, волютов, картушей. Конструкция исчезает в полноте декоративного – выражаясь математически, функционального – момента; объединенные в группы и пучки колонны и пилястры, то собираясь вместе, то рассеиваясь, заполняют собой фронтоны, не давая глазу успокоиться ни на чем; поверхности стен, крыш, этажей разрешаются в половодье лепных украшений и орнаментов, исчезают и распадаются от красочных световых воздействий. Однако свет, который ныне разливается по этому миру форм зрелого барокко (начиная с Бернини ок. 1650 г. и вплоть до рококо в Дрездене, Вене и Париже), стал чисто музыкальным элементом. Дрезденский Цвингер – это симфония. Заодно с математикой также и архитектура развилась в XVIII в. в мир форм музыкального характера.
17
На пути развития этой математики должен был наконец наступить момент, когда не только границы искусственных геометрических построений, но и границы зрения вообще должны были восприниматься – как теорией, так и самой душой в ее порыве к безудержному выражению собственных внутренних возможностей – как предел, как помеха и когда, таким образом, идеал трансцендентной протяженности вступил в принципиальное противоречие с ограниченными возможностями непосредственной видимости. Античная душа, со всей самоотдачей платонической и стоической ἀθαραξία допускавшая значимость и господство чувственного начала, – эта душа, скорее воспринимавшая, нежели навязывавшая свои великие символы, как видно из подспудного эротического смысла пифагорейских чисел, никогда не испытывала желания перешагнуть пределы также и телесных здесь и теперь. Однако если пифагорейское число открылось в сущности данных единичных вещей в природе, то число Декарта и математиков, следовавших за ним, было чем-то таким, что следовало завоевать и вырвать силой, властным абстрактным отношением, независимым от всей чувственной данности и постоянно готовым к тому, чтобы заявить об этой своей независимости перед лицом природы. Воля к власти (если прибегнуть к великой формуле Ницше), которая является характерной чертой северной души в ее отношении к собственному миру начиная с наиболее ранней готики «Эдды», соборов и Крестовых походов, да собственно с завоевателей викингов и готов, заложена также и в этой энергии западного числа по отношению к созерцанию. Это и есть «динамика». В аполлонической математике дух служит зрению, в фаустовской – он его преодолевает.
Само математическое, такое неантичное, «абсолютное» пространство (в своем благоговении перед греческими традициями математика не отважилась это заметить) с самого начала было не неопределенной пространственностью повседневных впечатлений, общепринятой живописи, якобы столь однозначного и определенного априорного созерцания Канта, но чистой абстракцией, идеальным и неисполнимым постулатом души, которая все меньше удовлетворялась чувственностью как средством выражения и в конце концов страстно от нее отвратилась. Пробудилось внутреннее зрение.
Лишь теперь глубокие мыслители должны были почувствовать, что евклидова геометрия, единственная правильная геометрия для наивного наблюдателя во все времена, будучи рассмотрена с этой высшей точки зрения, оказывается всего только гипотезой, чья исключительная значимость в сравнении с другими, также совершенно не наглядными видами геометрий, как мы это определенно знаем со времен Гаусса, никогда не может быть доказана. Фундаментальное положение этой геометрии, аксиома Евклида о параллельных линиях, является утверждением, которое может быть заменено другими, а именно что через данную точку вообще нельзя провести прямую, параллельную данной, либо что таких прямых две или множество. Все это утверждения, приводящие к совершенно непротиворечивым трехмерным геометрическим системам, которые можно применять в физике и астрономии, и иногда их следует предпочитать геометрии Евклида.
Уже простое требование неограниченности всего протяженного (откуда пришлось – со времен Римана и его теории неограниченного, однако не бесконечного по причине кривизны пространства – удалить как раз таки бесконечность) противоречит подлинному характеру всякого непосредственного созерцания, которое зависит от наличия световых сопротивлений, т. е. от материальных границ. Однако мыслимы абстрактные принципы ограничения, которые превосходят возможности оптического ограничения в совершенно новом смысле. Для тех, кто способен заглянуть поглубже, уже в картезианской геометрии заложена тенденция к тому, чтобы выйти из трех измерений переживаемого пространства как из пределов, не имеющих для символики чисел никакой необходимости. И пусть даже представление о многомерных пространствах (это слово следовало бы заменить чем-то новым) стало расширенным основанием аналитического мышления примерно с 1800 г., но ведь первый шаг к этому был сделан в то мгновение, когда степени, а точнее, логарифмы были отделены от их первоначальной связи с вещественно осуществимыми поверхностями и телами и – при применении иррациональных и комплексных показателей – введены в область функционального как значения отношений совершенно общего рода. Кто вообще способен сюда последовать, поймет также и то, что уже с шагом от представления а3 как естественного максимума к аn безусловность пространства с тремя измерениями оказывается снятой.
Стоило точке как пространственному элементу утратить все еще оптический характер координатного сечения в зрительно представимой системе и быть определенной как группа из трех независимых чисел, как не стало больше никаких препятствий для того, чтобы заменить число 3 общим п. Произошло перевертывание понятия измерения: теперь оно обозначает уже не числовую меру оптических свойств точки в отношении ее положения в системе, но неограниченные по количеству измерения представляют собой совершенно абстрактные свойства группы чисел. Эта группа чисел, образованная п независимых упорядоченных элементов, является образом точки; она называется точкой. Логически выведенное отсюда уравнение называется плоскостью, является образом плоскости. Совокупность всех точек в п измерений называется n-мерным пространством[62]62
С точки зрения теории множеств вполне упорядоченное множество точек, вне зависимости от числа измерений, называется телом, так что множество в n –1 измерений оказывается по отношению к нему поверхностью. «Ограничение» (стена, ребро) множества точек представляет собой множество точек меньшей мощности.
[Закрыть]. В этих трансцендентных пространственных мирах, которые более не находятся в каком-либо соотношении ни с какой чувственностью, господствуют отыскиваемые анализом отношения, находящиеся в неизменном соответствии с результатами экспериментальной физики. Эта пространственность высшего порядка представляет собой символ, являющийся безраздельным достоянием западного духа. Лишь этот дух попытался заворожить ставшее и протяженное в этой форме, заклясть, принудить, а тем самым и «познать» чуждое именно через данный вид присвоения (можно здесь вспомнить о понятии «табу») – и совладал с этой задачей. Только в этой сфере числового мышления, которая все еще доступна лишь чрезвычайно узкому кругу людей, даже такие образования, как система гиперкомплексных чисел (например, кватернионы векторного исчисления) и такие пока что совершенно непонятные символы, как ∞n, получают характер чего-то реального. То, что действительность – это не одна лишь чувственная действительность, что душевный элемент скорее способен воплощать свою идею в совершенно иных, не наглядных образованиях, – как раз это-то и следует еще усвоить.
18
Из этой величественной интуиции символических пространственных миров следует последняя и заключительная редакция всей западной математики, а именно расширение и одухотворение теории функций до теории групп. Группы представляют собой множества или совокупности однородных математических образований, как, например, совокупность всех дифференциальных уравнений определенного типа, множества, которые построены и упорядочены аналогично Дедекиндовым числовым телам. Возникает ощущение, что речь здесь идет о мирах совершенно иных чисел, не вполне свободных от определенной чувственности для внутреннего зрения посвященных. Необходимы теперь исследования определенных элементов этих колоссальных абстрактных формальных систем, которые остаются независимыми, сохраняют постоянство по отношению к воздействию отдельных групп операций, преобразований системы. Таким образом, общая задача этой математики приобретает (по Клейну) следующий вид: «Даны n-мерное многообразие („пространство“) и группа преобразований. Необходимо исследовать входящие в многообразие образования в отношении тех их свойств, которые не изменяются преобразованиями группы».
И вот теперь на этой высочайшей вершине (исчерпав все свои внутренние возможности и исполнив свое предназначение – быть слепком и чистейшим выражением идеи фаустовской душевности) завершается развитие западной математики – в том же самом смысле, в каком это произошло с античной математикой в III в. Обе эти науки (единственные, чья органическая структура все еще может быть исторически прослежена в наше время) возникли из принадлежавших Пифагору и Декарту концепций совершенно новых чисел; столетием позднее обе, пройдя через великолепный взлет, достигли зрелости, и обе, пройдя через рассвет продолжительностью в три столетия, завершили здание своих идей, – в то же самое время, когда культура, к которой они принадлежали, перешла в цивилизацию мировых столиц. Эта полная глубокого смысла взаимосвязь будет прояснена впоследствии. Несомненно то, что время великих математиков для нас миновало. Ныне происходит та же самая работа по сохранению, закруглению, совершенствованию, отбору – т. е. исполненная таланта мелочная работа взамен великих творений, – что и является характерной особенностью александрийской математики позднего эллинизма.
Прояснить это поможет историческая схема.

Глава вторая
Проблема всемирной истории
I. Физиономика и систематика1
Лишь теперь можно наконец сделать решительный шаг и набросать такую картину истории, которая больше не будет зависеть от случайного местоположения наблюдателя в каком бы то ни было – именно его – «настоящем», как и от его свойств как заинтересованного члена одной-единственной культуры, чьи религиозные, духовные, политические, социальные тенденции сбивают его с толку, организуют исторический материал, исходя из обусловленной временем и пространством перспективы, и тем самым навязывают событиям произвольную и скользящую по поверхности форму, которая внутренне им чужда.
Чего нам до сих пор недоставало, так это дистанцированности от предмета. В случае природы ее достигли уже давно. Впрочем, там ее и легче было достичь. Физик, как что-то само собой разумеющееся, строит каузально-механическую картину своего мира так, словно сам в нем не присутствует.
Однако то же самое возможно и в мире форм истории. Пока что мы об этом не догадывались. Современные историки гордятся своей объективностью, однако тем самым они выдают то, в какой малой степени отдают себе отчет в собственных предубеждениях. Поэтому следует, быть может, сказать (и когда-нибудь позднее это еще будет сделано), что подлинного рассмотрения истории в фаустовском стиле у нас так до сих пор и нет. Я имею в виду такое рассмотрение, в котором довольно дистанцированности для того, чтобы рассматривать также и настоящее (которое ведь является таковым лишь по отношению к одному-единственному из бесчисленных человеческих поколений) как нечто бесконечно удаленное и чуждое в общей картине всемирной истории, как временной промежуток, обладающий нисколько не большим весом в сравнении со всеми прочими – без фальсифицирующей мерки каких бы то ни было идеалов, без соотнесения с самим собой, без пожеланий, озабоченности и личного внутреннего участия, на что склонна претендовать реальная жизнь. Итак, это должна быть такая дистанцированность, которой позволено (говоря словами Ницше, который сам-то далеко не располагал ею в достаточной мере) рассматривать весь факт человека с колоссального удаления{23}23
См.: «Случай Вагнера», предисловие; «Ессе homo», предисловие, 4. Если в первом случае Ницше говорит об отстраненном взгляде как о поставленной цели, то во втором – претендует на то, что достиг желаемого.
[Закрыть]: взгляд на культуры, в том числе и на собственную, как на ряд вершин горного хребта на горизонте.
Здесь необходимо еще раз осуществить деяние, подобное Коперникову, а именно освобождение от видимости во имя бесконечного пространства, как это давно уже проделал западный дух по отношению к природе, когда он перешел от Птолемеевой системы мира к той, которая одна только и сохраняет ныне значимость для нас, тем самым выключив в качестве формоопределяющего случайное местоположение наблюдателя на одной-единственной планете.
Всемирная история нуждается в таком же точно освобождении от случайно избранной точки наблюдения (соответствующего «Нового времени») – и способна на это. Наш XIX в. представляется нам куда более богатым и значительным, чем, например, XIX в. до Р. X., но ведь и Луна кажется нам больше Юпитера и Сатурна. Физик давно уже освободился от предрассудка относительного удаления, историк – все еще нет. Мы позволяем себе именовать греческую культуру древностью по отношению к нашему Новому времени. Но была ли она таковой также и для утонченных, стоявших на вершине своего исторического развития египтян при дворе великого Тутмоса, т. е. за тысячу лет до Гомера? События, разыгрывавшиеся в 1500–1800 гг. на западноевропейской почве, наполняют для нас важнейшую треть всемирной истории в целом. Для китайского историка, оглядывающегося на 4000 лет китайской истории и выносящего суждение исходя из нее, она представляет собой краткий и малозначительный эпизод, далеко уступающий по весомости столетиям династии Хань (206 до Р. X. – 220 по Р. X.), составившим эпоху в его «всемирной истории».
Итак, освободить историю от личного предубеждения наблюдателя, которое в нашем случае делает ее историей по сути лишь одного фрагмента прошлого, причем целью здесь оказывается то, что случайным образом установлено в настоящий момент в Западной Европе, а мерой всего достигнутого и того, что еще следует достигнуть, служат значимые именно теперь идеалы и интересы, – вот что является целью всего нижеследующего.
2
Природа и история[63]63
Ср. введение, разд. 16; см. с. 69.
[Закрыть] – вот в каком виде, противостоя друг другу, предстают перед каждым человеком две крайних возможности упорядочить окружающую его действительность до картины мира. Действительность является природой, поскольку она подводит все становление под ставшее, и она же – история, поскольку подводит все ставшее под становление. Действительность обозревается в ее «припоминаемом» образе – и вот возникает мир Платона, Рембрандта, Гёте, Бетховена, или же критически постигается в ее доступном чувствам нынешнем состоянии – это будут миры Парменида и Декарта, Канта и Ньютона. Познание в строгом значении этого слова – это тот самый акт переживания, осуществленный результат которого называется «природой». Познанное и природа тождественны друг другу. Все познанное, как доказал это символ математического числа, равнозначно механически ограниченному, раз навсегда истинному, узаконенному. Природа – это воплощение всего необходимого согласно закону. Существуют одни только законы природы. Ни один физик, отчетливо сознающий свое предназначение, никогда не пожелает выйти из этих границ. Его задача заключается в том, чтобы установить совокупность, хорошо упорядоченную систему всех законов, которые можно отыскать в картине его природы и, более того, которые исчерпывающе и без остатка представляют картину его природы.
С другой стороны, созерцание (на память приходят слова Гёте: «Созерцание надо четко отличать от всматривания»{24}24
Из письма к В. фон Гумбольдту от 3 декабря 1795 г.
[Закрыть]) – это тот акт переживания, который сам, пока совершается, является историей. Пережитое – это сбывшееся, это история.
Все сбывшееся однократно и никогда больше не повторяется. Оно несет на себе характеристику направления («времени»), необратимости. Сбывшееся с неизбежностью принадлежит прошлому, противостоя становлению как ставшее, как живому – закосневшее. Соответствующее этому ощущение – мировой страх. Все же познанное не имеет времени; не принадлежа ни прошлому, ни будущему, оно просто «дано» и, таким образом, сохраняет свою значимость. Таковы внутренние свойства сообразного законам природы. Закон, все узаконенное аисторичны. Они исключают случай. Законы природы – это формы не знающей исключений, а значит, неорганической необходимости. Отсюда понятно, почему математика как упорядочивание ставшего числом неизменно относится лишь к законам и причинности, и только к ним одним.
Становление «не имеет числа». Лишь неживое (а живое – лишь постольку, поскольку мы отвлекаемся от его живости) может быть посчитано, измерено, разложено. Чистое становление, жизнь не имеет в этот смысле никаких границ. Оно находится по ту сторону сферы причины и действия, закона и меры. Никакое глубокое и подлинное историческое исследование не отыскивает причинной закономерности; иначе оно не постигло своего подлинного существа.
Обозреваемая история между тем вовсе не является чистым становлением; она есть образ, излучаемая из бодрствования наблюдателя мировая форма, в которой становление господствует над ставшим. На содержании ставшего, т. е. на изъяне, основана возможность что-то извлечь из нее в научном смысле. И чем выше это содержание, тем механистичнее, тем рассудочнее, тем каузальней является история взгляду. Так и «живая природа» Гёте, эта всецело нематематическая картина мира, все же располагала достаточным содержанием мертвого и косного, чтобы он мог научно трактовать по крайней мере ее передний план. Если это содержание очень сократится, она окажется почти одним чистым становлением, а созерцание сделается переживанием, допускающим лишь те или иные виды художественного изложения. Тому, что в качестве судеб мира представлялось духовному взору Данте, он не смог бы придать научную форму, как не смог бы это сделать и Гёте с тем, что открывалось ему в великие минуты его набросков «Фауста», и также Плотин и Джордано Бруно – со своими видениями, которые не были результатом исследований. В этом и состоит главная причина полемики о внутренней форме истории. Один и тот же предмет, один и тот же набор фактов создает у всякого наблюдателя в силу его задатков всякий раз иное целостное впечатление, непостижимое и невыразимое, которое лежит в основе его суждений и придает им личностную окраску. Взгляду двух разных людей степень ставшести будет открываться всякий раз по-разному, и это достаточное основание для того, чтобы они никогда не могли сойтись в отношении задачи и метода. Всякий винит в этом недостаточную отчетливость мышления у другого, и все-таки обозначаемое этим выражением нечто, над структурой чего нет власти ни у кого, вовсе не представляет собой что-то худшее, но всего лишь по необходимости иное. То же справедливо и в отношении всего естествознания.
Однако следует запомнить раз и навсегда: в желании трактовать историю научно всегда в конечном счете есть что-то противоречивое. Подлинная наука простирается настолько, насколько сохраняют значимость понятия истинного и ложного. Это верно в отношении математики, и это также верно применительно к исторической преднауке собирания, упорядочивания и пересмотра материала. Однако исторический взгляд в подлинном смысле этого слова, который с этого только и начинается, относится к области значений, где определяющими словами являются не «истинное» и «ложное», но «поверхностное» и «глубокое». Настоящий физик никогда не бывает глубок, но может быть «остроумен» (scharfsinnig). Он может быть глубоким лишь тогда, когда покидает область рабочих гипотез и касается последних оснований, однако тогда уже и он сделался метафизиком. Природу следует трактовать научно, историю надо воспевать. Кажется, старина Леопольд фон Ранке сказал как-то, что «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта все же по сути представляет собой подлинное историческое сочинение. И верно: преимущество хорошего исторического труда в том, что читатель в состоянии стать Вальтером Скоттом для самого себя.
Но, с другой стороны, там, где следовало бы господствовать царству чисел и точного знания, Гёте называл «живой природой» именно то, что было непосредственным созерцанием чистого становления и самоформирования, а значит – историей в установленном здесь значении. Его мир был прежде всего организмом, существом, и становится понятно, что его исследования, даже когда они по наружности несут на себе физикалистские черты, не ставили своей целью ни числа, ни законы, ни запрятанную в формулы каузальность и вообще никакого разложения, что они скорее являются морфологией в высшем смысле, а потому избегают специфически западного (и в высшей степени неантичного) средства всякого каузального рассмотрения, а именно измеряющего эксперимента, однако никогда не позволяют об этом пожалеть. Наблюдение Гёте поверхности Земли – это всегда геология, никогда не минералогия (которую он называл наукой о мертвом).
Скажем еще раз: никакой четкой границы между тем и другим видом постижения мира не существует. Насколько велика противоположность того и другого, настолько же несомненно в каждом из этих видов понимания присутствуют они оба. Историю переживает тот, кто взирает на то и другое как на становящееся, как на самосовершенствующееся; природу познает тот, кто расчленяет то и другое как ставшее, как усовершенствованное.
Во всяком человеке, всякой культуре, всякой культурной эпохе имеется изначальная предрасположенность и предназначенность предпочитать в качестве идеала миропонимания ту или другую из этих форм. Западный человек имеет в высшей степени исторические задатки[64]64
Антиисторическое как выражение решительно систематической предрасположенности следует четко отличать от аисторического. Начало 4-й книги «Мира как воли и представления» (§ 53){712}712
Где Шопенгауэр, в частности, пишет: «Наконец, мы так же мало, как и в прошлом, примемся здесь рассказывать истории, выдавая их за философию. Ибо, как мы полагаем, страшно далек от философского познания мира всякий, кто тешит себя иллюзией, что сущность мира можно хоть как-то, хотя бы даже в приукрашенном виде, постигнуть исторически» и т. д.
[Закрыть] весьма показательно для человека, который мыслит антиисторически, т. е. исходя из теоретических оснований подавляет и отбрасывает наличное в себе самом историческое – в противоположность аисторической греческой натуре, которая им не обладает и его не понимает.
[Закрыть], у человека античности их было несравненно меньше. Мы прослеживаем все данное с учетом прошлого и будущего, античность же признавала в качестве сущего лишь точечное настоящее. Все прочее становилось мифом. В каждом такте нашей музыки от Палестрины и до Вагнера мы имеем перед собой еще и символ становления, греки же в каждой своей статуе располагали образом чистого настоящего. Телесный ритм заключен в одновременном соотношении частей, ритм фуги – во временно́м протекании.









































