Текст книги "Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории"
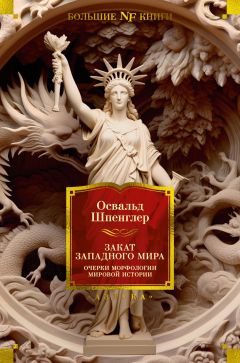
Автор книги: Освальд Шпенглер
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 82 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
Лучше всего понимали этот цвет самые глубокие среди великих живописцев, в первую очередь Рембрандт. Это тот самый загадочный коричневый решающих его произведений, который происходит из глубокого освещения множества окон готических церквей, из сумерек соборов с высокими сводами. Насыщенный золотистый тон великих венецианцев – Веронезе, Тициана, Пальма, Джорджоне – неизменно напоминает нам о том старинном, угасшем искусстве северной живописи на стекле, о существовании которой они едва ли догадывались. Также и здесь Возрождение с его ориентированным на телесность колоритом представляет собой только эпизод, исключительно результат поверхностности, сверхсознательности, а не фаустовски-бессознательного начала в западной душе. В этом сияющем золотисто-коричневом цвете венецианской живописи смыкаются готика и барокко, искусство той ранней живописи на стекле и сумрачная музыка Бетховена – как раз тогда, когда нидерландцы Вилларт и де Pope, а также старший их Габриели основали венецианскую школу и тем самым барочный стиль живописной музыки.
Коричневый делается теперь настоящим цветом души, исторически ориентированной души. Кажется, Ницше как-то упомянул о коричневой музыке Бизе{85}85
См. «Случай Вагнера», § 2.
[Закрыть]. Однако скорее это относится к музыке, написанной Бетховеном для струнных инструментов[234]234
Струнная группа представляет в звучании оркестра цвета дали. Синевато-зеленый Ватто встречается уже в bel canto неаполитанцев, у Куперена, у Моцарта и Гайдна, коричневатый голландцев – у Корелли, Генделя и Бетховена. Также и деревянные духовые создают представление о светлых далях. Напротив того, желтый и красный, цвета близи, вульгарные цвета, относятся к звучанию медных инструментов, создающих впечатление телесности вплоть до заурядности. Звук старинной скрипки совершенно бесплотен. Следует отметить, что греческая музыка, как ни незначительна она была, перешла от дорической лиры к ионической флейте (авлу и свирели) и что строгие дорийцы осуждали это стремление к изнеженности и низменности еще во времена Перикла.
[Закрыть], и, наконец, к звучанию оркестра у Брукнера, так часто наполняющего пространство коричневатым золотым цветом. Всем прочим цветам отведена исключительно служебная роль: светлому желтому и киновари Вермеера, которые на самом деле словно из иного мира привносят в пространственный элемент метафизический акцент, а также желто-зеленым и кроваво-красным огням, которые у Рембрандта затевают едва ли не игру с символикой пространства. У Рубенса, блестящего живописца, но нисколько не мыслителя, коричневый почти что безыдеен, это цвет тени. (Борьбу с коричневым за первенство ведет у него и у Ватто «католический» сине-зеленый.) Мы видим, как то же самое средство, которое становится символом в руках глубоких мастеров, так что впоследствии оно способно вызвать к жизни колоссальную трансцендентность рембрандтовских пейзажей, для прочих художников оказывается всего-навсего техническим навыком. Итак, как мы только что убедились, художественно-техническая «форма», мыслимая в качестве противоположности «содержанию», не имеет ничего общего с подлинной формой великих произведений.
Я назвал коричневый историческим цветом. Он превращает атмосферу пространства картины в знак направленности, будущего. Он заглушает в изображении болтовню сиюсекундного. Это значение простирается также и на прочие цвета дали и приводит к дальнейшему, весьма престранному обогащению западной символики. Под конец греки стали предпочитать раскрашенному мрамору бронзу, нередко позолоченную, с тем чтобы с помощью возникающего эффекта сверкания под темно-синим небом выразить идею уникальности всего телесного[235]235
Не следует путать ту тенденцию, которая лежит в основе золотистого сияния стоящего посреди пустого места тела, с тенденцией мерцающего арабского золотого фона, замыкающего в сумрачных интерьерах пространство позади фигур.
[Закрыть]. В эпоху Возрождения эти статуи выкапывали покрытыми многовековой патиной, черными и зелеными; тогдашние люди, исполненные благоговения и томления, наслаждались «историчностью» производимого впечатления, и с тех пор наше ощущение формы окружило эти «далекие» черный и зеленый ореолом святости. Теперь без них вообще немыслимо впечатление, производимое на наш глаз бронзой, как бы для того, чтобы лукаво проиллюстрировать тот факт, что весь этот род искусства больше нас не трогает. Что означают для нас купол собора, бронзовая статуя без патины, которая превращает близкое блистание в звучание стародавности и дали? Не дошли ли мы наконец до того, чтобы создавать эту патину искусственно?
Однако в возвышении благородной ржавчины до имеющего самостоятельное значение художественного средства можно усмотреть еще иное. Следует задаться вопросом, а не воспринял бы грек образование патины как разрушение произведения искусства? И дело не только в цвете, в удаленном пространственно зеленом, которого он избегал по душевным основаниям; патина – символ преходящести, и тем самым она приобретает примечательную связь с символами часов и формы погребения. Выше уже заходила речь о стремлении фаустовской души к руинам и свидетельствам давнего прошлого – склонность, заявившая о себе еще во времена Петрарки собиранием древностей, рукописей, монет, а также паломничествами на Forum Romanum и в Помпеи, раскопками и филологическими штудиями. Могла ли греку когда-либо прийти в голову мысль озаботиться судьбой развалин Кносса и Тиринфа? «Илиаду» знали все, но никто и не помышлял о том, чтобы раскопать холм, на котором стояла Троя. Питая ко всему развалившемуся тайное благоговение, мы сохраняем акведуки Кампании, этрусские гробницы, руины Луксора и Карнака, обваливающиеся замки на Рейне, римский Limes{86}86
Limes, т. е. «граница» (лат.) – название возведенной римлянами пограничной стены в Германии (аналог Великой Китайской стены).
[Закрыть], Херсфельд и Паулинцеллу – именно как руины, потому что смутно чувствуем, что в случае их восстановления окажется утраченным нечто с трудом выразимое словами, нечто невоспроизводимое заново. Можно ли отыскать что-то более чуждое человеку античности, чем это благоговение перед обветшавшими свидетельствами давно минувших времен? Все, что больше не говорило о настоящем, тут же удалялось с глаз. Старое никогда не сохраняли только потому, что оно старое. Когда персы разрушили Афины, горожане побросали с Акрополя колонны, статуи, рельефы, вне зависимости от того, были они повреждены или же нет, и этот отвал сделался для нас богатейшим раскопом по искусству VI в. Это соответствовало стилю культуры, которая возвысила трупосожжение до символа и пренебрегала привязкой повседневной жизни к исчислению времени. Также и здесь мы избрали противоположность. Героический пейзаж в стиле Лоррена немыслим без руин, и английский парк с его воздушными настроениями, вытеснивший ок. 1750 г. парк французский заодно с его задуманной с размахом перспективой, взамен чего теперь возобладала сентиментальная «природа» Аддисона и Поупа, прибавил сюда же еще мотив искусственной руины, которая углубляет картину ландшафта в историческом аспекте[236]236
Хоум, английский философ XVIII в., поясняет в своем трактате об устройстве английских парков, что готические руины знаменуют собой торжество времени над силой, греческие же – торжество варварства над вкусом. Только тогда и была открыта красота Рейна с его руинами. С тех пор и впредь он стал исторической рекой немцев.
[Закрыть]. Вряд ли можно придумать что-то более диковинное. Египетская культура реставрировала постройки ранней эпохи, однако она ни за что не отважилась бы на строительство руин как символа прошлого. А ведь мы, собственно говоря, любим даже не античную статую, но античный торс. У него за спиной – целая судьба; его окружает нечто указывающее вдаль, и наш взгляд охотно пытается заполнить пустое пространство недостающих членов – тактом и ритмом незримых линий. Попробуем их удачно дополнить – и таинственного волшебства бесконечных возможностей как не бывало. Берусь утверждать, что только эта транспозиция в музыкальное сделала остатки античной статуи такими близкими нам. Зеленая бронза, почерневший мрамор, искалеченные члены фигуры удаляют временны́е и пространственные границы, стоящие на пути нашего внутреннего зрения. Это стали именовать живописным («целые» статуи, постройки, не пришедшие в одичание парки – неживописны), и в самом деле это соответствует более глубокому смыслу «коричневого мастерской»[237]237
Потемнение старинных полотен делает их, по нашему ощущению, более содержательными, что бы там ни твердила в опровержение этого художественная рассудочность. Если бы случилось так, что применявшиеся масла приводили бы к выцветанию картин, это бы воспринималось как разрушение.
[Закрыть], однако в конечном итоге подразумевается здесь все же дух инструментальной музыки. Если бы мы увидели «Дорифора» Поликлета стоящим перед нами в сверкающей бронзе, с эмалевыми глазами и позолоченными волосами, разве впечатление от него было бы тем же самым, что и от зачерненного временем? Не лишился бы чего-то существенного хранящийся в Ватикане торс Геракла, если бы в один прекрасный день отыскались его недостающие члены? Не утратили бы башни и купола наших старинных городов своего глубокого метафизического очарования, если бы их покрыли новехонькой медью? Для нас, как и для египтян, старость облагораживает все предметы. Для античного человека она лишает их ценности.
С этим, наконец, связан и тот факт, что на основании того же чувства западная трагедия предпочитала «исторический» материал, причем не такой, реальность или возможность которого могла бы быть доказана (смысл этого слова говорит вовсе не о том), но материал отдаленный, патинированный, между тем как чисто сиюминутное событие, без пространственного и временно́го отдаления, античный трагический факт, вневременной миф не смог бы выразить того, что хотела и должна была выразить фаустовская душа. Так что у нас есть трагедии прошлого и трагедии будущего (к последним, в которых приходящий в мир человек является носителем судьбы, принадлежат, в некотором смысле, «Фауст», «Пер Гюнт», «Сумерки богов»), однако современных трагедий у нас нет, если не принимать в расчет мелкотравчатой социальной драматургии XIX в. Шекспир, когда ему хотелось выразить нечто важное для современности, неизменно избирал, по крайней мере, иные земли, в которых никогда не бывал, предпочтительно Италию; немецкие же писатели охотно останавливались на Англии и Франции – и все это из неприятия той пространственной и временно́й близи, которую еще подчеркивала аттическая драма даже в мифе.
II. Обнаженная фигура и портрет11
Античность называют культурой тела, северную же культуру – культурой духа, причем не без тайного умысла о том, чтобы обесценить первую в угоду второй. Как ни банально по большей части то, что принимал ренессансный вкус за противоположность античного и современного, языческого и христианского, все же из этого можно было бы сделать решающие выводы – при том условии, что нам удалось бы отыскать в формуле ее истоки.
Если окружающий человека мир, вне зависимости от того, чем еще мог бы он быть сверх этого, оказывается макрокосмом по отношению к микрокосму, колоссальной совокупностью символов, то и сам человек, поскольку он заткан паутиной сущего, поскольку он есть явление, захватывается этой символикой. Но что претендует на роль символа в том впечатлении, которое производит человек на своих ближних, что могло бы собрать в себе смысл его существования и осязаемо открыть этот смысл взору? Ответ дает искусство.
Однако для всякой культуры ответу следовало бы быть иным. У каждой свое впечатление от жизни, потому что всякая живет по-своему. Решающим моментом для образа всего человеческого, как в плане метафизики, так и нравственности и искусства, является то обстоятельство, воспринимает ли отдельный человек себя как тело среди других тел или же как центр бесконечного пространства, приходит ли он в результате размышлений к выводу об одиночестве своего «я» или же о его существенном участии во всеобщем consensus’e, подчеркивает ли он направленность тактом и ходом своей жизни или же отрицает ее. Во всем этом проявляется прасимвол великих культур. Все это мироощущения, однако с ними совпадают жизненные идеалы. Из античного идеала следовало безоглядное приятие чувственной видимости, из западного – столь же страстное ее преодоление. Аполлоническая душа, точечная и евклидовская, воспринимала эмпирическое, видимое тело как совершенное выражение своего способа существования; фаустовская, блуждающая в далеких далях, находила это выражение не в лице, не в σῶµα, но в личности, в характере (или как там еще принято все это называть). Для настоящего грека «душа» была в конечном итоге формой его тела. Так ее определил Аристотель. Для фаустовского человека тело было сосудом души. Так его воспринимал Гёте.
Но результатом этого оказываются весьма существенные различия в подборе и разработке изображающих человека искусств. Если Глюк выражает горе Армиды при помощи мелодии и безутешно терзающего звучания сопровождающих инструментов, то в пергамских скульптурах это делается посредством языка всей мускулатуры. Эллинистические портреты пытаются через строение головы передать духовный тип. Выражение глаз и складки в углах рта святых, изображенных Линь Янь Ши, свидетельствуют о внутренней жизни, исполненной личностного начала.
Характерное для античности пристрастие заставлять вещать одно только тело никоим образом не говорит об избыточности расы. Не было здесь посвящения на крови (человек, наделенный σωφροσύνη [благоразумием (греч.)], не способен расточать кровь почем зря[238]238
Здесь достаточно сопоставить греческих художников с Рубенсом и Рабле.
[Закрыть]), и не было, в противоположность тому, что думал Ницше, оргиастического упоения свободной от оков энергией и перехлестывающей через край страстью. Все это, скорее, могло бы оказаться идеалами германско-католического и индийского рыцарства. Единственно, на что могли претендовать лично для себя аполлонический человек и его искусство, так это апофеоз телесного облика в буквальном смысле, ритмическая соразмерность строения членов и гармоническая разработка мускулатуры. Это не есть язычество в противоположность христианству. Это – аттицизм в противоположность барокко. Только человек барокко, будь он христианин или язычник, рационалист или монах, был далек от этого культа осязаемого σῶµα, далек вплоть до крайней телесной нечистоты, господствовавшей в окружении Людовика XIV[239]239
Насчет которого одна его любовница жаловалась, qu’il puait comme une charogne [что от него несло падалью (фр.)]. Впрочем, притчей во языцех всегда была нечистоплотность как раз таки музыкантов.
[Закрыть], чей костюм, начиная со свисающих париков и до кружевных манжет и туфель с пряжками, покрывал орнаментальным плетением все тело целиком.
Античная скульптура, освободившаяся от образа зримой или ощущаемой стены и свободно, безотносительно к чему бы то ни было вставшая на ровной площадке, где ее, как тело среди прочих тел, можно было рассматривать со всех сторон, последовательно развивалась дальше – вплоть до исключительного изображения обнаженного тела. Правда, в отличие от всех прочих разновидностей скульптуры во всей истории искусства, здесь это делалось посредством анатомически убедительной разработки граничных поверхностей этого тела. Тем самым евклидовский принцип Вселенной был доведен до предела. Любой покров содержал бы уже и легкое возражение против аполлонического принципа, намек, пускай самый робкий, на окружающее пространство.
Орнаментальное начало в широком смысле этого слова целиком содержится в пропорциях конструкции[240]240
На пути, пролегающем от торжественного канона Поликлета до элегантного канона Лисиппа, имеет место та же разгрузка конструкции, что и в переходе от дорического к коринфскому ордеру. Евклидовское ощущение начинает распадаться.
[Закрыть] и в сбалансированности осей по опоре и нагрузке. Тело – стоящее, сидящее, лежащее, но во всех случаях опирающееся само на себя, подобно периптеру, – не имеет никакой внутренности, т. е. никакой «души». Замкнутая вокруг расстановка колонн знаменует то же самое, что и проработанный со всех сторон рельеф мускулатуры: оба они содержат в себе весь без остатка язык форм произведения.
Чисто метафизические причины, потребность в жизненном символе высшего порядка привели греков позднего времени к данному искусству, узость которого могло скрыть только совершенство достигнутых ими в этой области результатов. Потому что нельзя сказать, чтобы этот язык внешних поверхностей был наиболее совершенным, естественным или самым доступным из всех способов изображения человека. Напротив. Не пребывай доныне наш вкус в безраздельной власти Возрождения – со всем пафосом его теорий и колоссальным заблуждением относительно собственных целей – в то время как самим-то нам скульптура внутренне абсолютно чужда, мы бы уже давно заметили исключительность аттического стиля. У египетских и китайских скульпторов и в мыслях не было сделать анатомическое внешнее строение тела базисом выражения, которого они желали достичь. Наконец, и в случае готических скульптур вопрос о языке мускулов никогда не ставится. Этот свитый из человеческих фигур узор, заплетающий исполинские каменные конструкции бесчисленными статуями и рельефными изображениями (в Шартрском соборе их больше 10 000), представляет собой не только орнамент; уже ок. 1200 г. он служит для выражения замыслов, перед которыми меркнут даже величайшие достижения аттической скульптуры. Ибо эти сонмы существ образуют трагическое единство. Здесь Север – еще прежде Данте – сгустил до мировой драмы историческое ощущение фаустовской души, обретшее свое духовное выражение в пратаинстве покаяния[241]241
Ср. с. 805.
[Закрыть] и – одновременно – свою великую школу в исповеди. То, что как раз в то же время прозревал Иоахим Флорский в своем апулийском монастыре – образ мира не как космоса, но как истории спасения в последовательности трех мировых эпох, – возникло в Шартре, Реймсе, Амьене и Париже как последовательность изображений от грехопадения до Страшного суда. Каждая сцена, каждый великий символический образ обретает в священном здании значимое место. Каждая играла в колоссальной мировой поэме свою роль. Отныне и всякий человек ощущал вплетенность его собственной жизни, как орнамента, в замысел священной истории, и он переживал эту личностную связь в формах покаяния и исповеди. Поэтому эти каменные тела не только находились на службе у архитектуры; еще и сами по себе они знаменовали нечто глубокое и уникальное, что все с большей задушевностью выражается также и в надгробных памятниках, начиная с королевских гробниц в Сен-Дени: они свидетельствуют о личности. То, что означала для античного человека совершенная проработанность телесной поверхности – ибо это, в конце концов, и есть окончательный смысл всего анатомического очарования греческих художников: исчерпать сущность живого явления посредством формирования его граничных поверхностей, – для фаустовского человека на вполне законных основаниях стало портретом, самым непосредственным и исчерпывающим раз и навсегда выражением его жизнеощущения. Греческая трактовка обнаженного тела – великое исключение, и лишь в этом единственном случае она привела к возникновению искусства высокого уровня[242]242
Чтобы предупредить особенно несуразные и плоские возражения, следует сказать, что в прочих ландшафтах, таких как Египет или Япония, вид обнаженного человеческого тела был делом куда более заурядным, чем в тех же Афинах, однако современному японскому знатоку искусства навязчивое воспроизведение ню представляется смехотворным и банальным. Обнаженная фигура попадается, подобно тому как мы видим ее в изображении Адама и Евы уже в Бамбергском соборе, однако как предмет, лишенный сколько-нибудь значительных возможностей.
[Закрыть].
То и другое, ню и портрет, еще никем не воспринимались как противоположность, и потому их пока что не поняли во всей глубине их явления в истории искусства. И тем не менее полная противоположность двух миров проявляется прежде всего в противоборстве двух этих идеалов формы. Там существо выставлено на обозрение через осанку внешнего строения его тела. Здесь к нам через «лицо» обращается внутренняя человеческая структура, душа – подобно тому как интерьер собора обращается к нам через фасад. У мечети вовсе нет лица, и поэтому иконоборчество мусульман и христианских павликиан, разразившееся при Льве III также и над Византией, должно было изгнать портретность из изобразительных искусств, обладавших начиная с этого времени лишь основательным запасом человеческих арабесок. В Египте лицо статуи тождественно пилону как лику устройства собора – мощный выступ на каменном объеме тела, как мы видим это на «гиксосском сфинксе из Таниса», портрете Аменемхета III. В Китае лицо – это все равно что ландшафт, изборожденный морщинами и маленькими чертами, которые все что-то означают. Для нас же портрет – это музыка. Взгляд, игра складок рта, посадка головы, руки – это фуга, заряженная нежнейшим смыслом, многоголосо звучащая навстречу взору понимающего зрителя.
Однако, чтобы познать значение западного портрета в противоположность также и египетскому с китайским, необходимо проследить глубинное изменение, которое происходит в языках Запада и возвещает начиная с эпохи Меровингов возникновение нового жизнеощущения. Оно в равной мере захватывает древнегерманский и народную латынь, однако для того и другого это распространяется лишь на языки в пределах материнского ландшафта надвигающейся культуры, а значит, на норвежский и испанский, но не на румынский. То, что словоупотребление возвышается до символа, не может быть объяснено исходя из духа языков или «воздействия» одного на прочие, а лишь из духа человечества. Вместо sum [я есмь (лат.)], готское im, теперь говорят: ich bin, I am, je suis{87}87
То же по-немецки, по-английски и по-французски с заменой синтетической грамматической формы – аналитической.
[Закрыть]; вместо fecisti [ты сделал (лат.)] говорится: tu habes factum, tu as fait, du habes gitan{88}88
То же на народной латыни, по-французски и по-средневерхненемецки, также с заменой синтетической грамматической формы – аналитической, букв. вместо «ты сделал» – «ты имеешь сделанным». Между прочим, немецкое haben этимологически не связано с латинским habeo, хотя оба слова означают одно и то же – «иметь».
[Закрыть], а еще: daz wip [женщина (ср.-в. – нем.)], ип homme{89}89
«Человек»; использовалось в старофранцузском в качестве подлежащего безличного оборота (со временем из ип homme получилось on, которое и используется теперь в качестве подлежащего такого оборота: on dit – «говорят», on pense – «полагают»).
[Закрыть], man hat{90}90
Аналогичный французскому безличный оборот в немецком языке, подлежащее man – «человек» (др.-в. – нем., совр. нем. Мапп).
[Закрыть]. Доныне это представлялось загадкой[243]243
Kluge. Deutsche Sprachgeschichte (1920). S. 202 ff.
[Закрыть], потому что языковые семейства было принято считать отдельными существами. Таинственность пропадает, когда мы открываем в построении фразы отображение души. Фаустовская душа приступает здесь к приспособлению различного происхождения грамматических состояний к собственным потребностям. В этом выступающем вперед «я» содержатся проблески занимающейся зари той идеи личности, которая много позднее создала таинство покаяния и личное отпущение грехов. Это «ego habeo factum» [я сделал (нар. лат.)], включение между деятелем и поступком вспомогательных глаголов haben и sein – вместо feci [я сделал (лат.)], подвижного тела, заменяет мир тел миром функций между центрами сил, статику предложения – динамикой. И эти «я» и «ты» разрешают тайну готического портрета. Статуя эллинистической эпохи – это поза, в ней нет никакого «ты», никакой исповеди перед тем, кто это создал или понимает. Наши портреты отражают нечто уникальное, что было лишь раз и никогда не повторится, историю жизни в выражении мгновения, центр мира, для которого все прочее является его миром, подобно тому как «я» становится центром силы фаустовского предложения.
Мы уже показали, каким образом переживание протяженного происходит из живого направления, из времени, из судьбы. Из совершенного бытия свободно стоящего обнаженного тела переживание глубины исключается; «взгляд» портрета ведет нас в сверхчувственно-бесконечное. По этой причине античная скульптура – это искусство близи, осязаемого, лишенного времени. Поэтому же она так выделяет моменты краткого, кратчайшего отдыха между двумя движениями: последнего мгновения перед броском диска, первого – после полета Ники Пеония, где телесный порыв уже закончен, а реющие одежды еще не опали (это поза, в равной степени удаленная от длительности и направления, будучи изолированной как от будущего, так и от прошлого). Veni, vidi, vici – именно такая поза. Я – пришел, я – увидел, я – победил: становление происходит здесь еще раз в самом строении предложения.
Переживание глубины – это становление, и оно влечет за собой ставшее; оно означает время и вызывает к жизни пространство; оно космично и исторично в одно и то же время. Живое направление обращено к горизонту, как к будущему. О будущем грезит уже Мадонна с портала Св. Анны собора Парижской Богоматери (1230), а позже – «Мадонна с цветком гороха» мастера Вильгельма (1400){91}91
Теперь его называют «Мастером св. Вероники».
[Закрыть]. О судьбе размышляет, задолго до «Моисея» Микеланджело, «Моисей» Клауса Слютера с Колодца пророков в Дижоне (1390), и также сивиллам Сикстинской капеллы предшествуют сивиллы Джованни Пизано с кафедры в Пистойе (1300). Наконец, фигуры на всех готических надгробиях отдыхают от долгой судьбы – в полной противоположности вневременным серьезности и игривости, изображаемым на надгробных стелах аттических кладбищ[244]244
Conze A. Die attischen Grabreliefs (1893 ff.).
[Закрыть]. Западный портрет бесконечен во всех смыслах, начиная с 1200 г., когда он пробуждается из камня, и вплоть до XVII в., когда он становится всецело музыкой. Портрет этот трактует человека не просто как центр природного мироздания, которое обретает образ и значение от человеческого существования; он трактует его прежде всего в качестве центра мира как истории. Античная статуя – это фрагмент наличной природы, и не более того. Античная поэзия воспроизводит статуи в словах. В этом – причина того, что наши чувства склонны приписывать грекам чистую преданность природе. Мы никогда не сможем освободиться от ощущения, что рядом с греческим готический стиль ненатурален, т. е. он – больше, чем «природа». Вот только мы утаиваем от самих себя, что в этом о себе заявляет восприятие того, что у греков чего-то недостает. Западный язык форм богаче. Портрет принадлежит как природе, так и истории. Надгробный памятник, созданный великими нидерландцами, которые начиная с 1260-го работали над королевскими гробницами в Сен-Дени, портрет кисти Гольбейна, Тициана, Рембрандта или Гойи – это биография; автопортрет – это историческая исповедь. Исповедоваться – значит не просто сознаться в проступке, но и изложить судье внутреннюю историю этого проступка. Проступок известен всем; но вот корни его – это личная тайна. Когда протестант и вольнодумец протестуют против личной исповеди, им невдомек, что они отвергают не саму идею, а лишь ее внешнюю форму. Они уклоняются от того, чтобы исповедоваться священнику, однако они исповедуются самим себе, другу или толпе. Вся северная поэзия – искусство прилюдной исповеди. То же самое можно сказать о портрете Рембрандта и музыке Бетховена. То, что Рафаэль, Кальдерон и Гайдн поверяли священнику, они перенесли и в язык своих творений. Тот, кто вынужден молчать, потому что ему отказано в величии формы, пригодной вместить в том числе и самое изначальное, – гибнет, как Гёльдерлин. Западный человек живет с сознанием становления, со взором, постоянно прикованным к прошлому и будущему. Грек живет точечно, аисторически, соматически. Ни один грек не был бы способен на настоящую самокритику. И это также заложено в явлении обнаженной статуи, этом совершенно аисторическом отображении человека. Автопортрет полностью соответствует автобиографии в духе «Вертера» или «Тассо», и оба они в высшей степени чужды античности. Не существует ничего более безличного, чем греческое искусство. Невозможно даже вообразить, чтобы Скопас или Лисипп изваяли свой собственный портрет.
Рассмотрим закругленность лба, губы, посадку носа, слепо обращенные вперед глаза у Фидия, у Поликлета, у любого другого мастера после персидских войн: все это выражение абсолютно безличной, растительной, бездушной жизненной позиции. Спрашивается, был ли в состоянии этот язык форм хотя бы только намекнуть на внутреннее переживание. Никогда еще не бывало искусства, внимание которого с такой исключительностью сосредоточивалось бы на осязаемой глазом наружной поверхности тела. У Микеланджело, который предавался анатомическим штудиям со всей страстью своей натуры, телесное явление, несмотря на это, неизменно является выражением работы всех внутренних костей, сухожилий, органов; живое под кожей заявляет о себе, хотя это и не входило в намерения. То, что им создавалось, было физиономикой, а вовсе не систематикой мускулатуры. Однако это уже делало подлинной отправной точкой ощущения формы личную судьбу, а не материальное тело. В руке какого-нибудь микеланджеловского раба больше психологии (и меньше «природы»), чем в лице изваянного Праксителем Гермеса. В Мироновом «Дискоболе» внешняя форма существует целиком и полностью сама по себе, без какой-либо связи с внутренними органами, уж не говоря о «душе». Сравним с лучшими произведениями этой эпохи древнеегипетские статуи, например деревенского старосту или фараона Пиопи или, с другой стороны, «Давида» Донателло, – и сразу поймем, что значит признавать тело лишь исходя из его материальных границ. Грек изо всех сил старается избежать всего, что могло бы заставить лицо выразить что-то сокровенное и духовное. Это проявляется как раз у Мирона. Но стоит нам заметить это, как даже лучшие скульптурные лица эпохи расцвета, рассмотренные под углом зрения нашего направленного в противоположную сторону мироощущения, станут через какое-то время представляться невнятными и тупыми. Им недостает биографичности, судьбы. Не случайно тогда было запрещено жертвовать в храмы скульптурные портреты. Статуи победителей в Олимпии – это безличные изображения боевой стойки{92}92
Плиний Старший (34, 16) пишет: «Они [т. е. древние] не имели обыкновения создавать изображения людей, разве что тех, которые заслужили долгую память каким-либо славным поступком, прежде всего победой на священных играх, особенно Олимпийских. Всем, кто победил на Олимпиаде, было принято посвящать статуи, для тех же, кто победил трижды, ваяли статуи, повторявшие их телесные черты, которые назывались иконическими (iconicas). Сколько могу судить, афиняне самыми первыми поставили статуи за общественный счет, это были изображения тираноубийц Гармодия и Аристогитона».
[Закрыть]. Вплоть до Лисиппа мы не найдем ни одного по-настоящему характерного лица. Есть только маски. А еще можно обозреть всю статую целиком: с каким мастерством ваятель избегает впечатления, что лицо – это избранная часть тела. Потому-то эти головы так малы, так незначительны по своему положению, так слабо пролеплены. Всякий раз голова трактуется исключительно как часть тела, подобно руке и бедру, и никогда – как седалище и символ «я».
Наконец, мы придем к выводу, что женственное, даже бабское выражение многих из этих лиц, относящихся к V в. и в еще большей степени – к IV[245]245
Винкельман и его современники восторгались и превозносили как изображение Музы хранящегося в Мюнхене Аполлона с кифарой. Еще недавно скопированная с оригинала Фидия голова Афины из Болоньи считалась за изображение полководца. Такие заблуждения были бы совершенно немыслимы в случае такого физиономического искусства, как искусство барокко.
[Закрыть], оказывается результатом, хотя и непреднамеренным, стремления полностью исключить всякую личностную характеристику. Быть может, правильным будет тот вывод, что идеальный тип лица этого искусства, несомненно не совпадавший с народным типом, как это сразу же доказывается позднейшей реалистической портретной скульптурой, возник в качестве совокупности явных отрицаний, а именно личностных и исторических, т. е. из сведения оформления лица к чисто евклидовскому принципу.
Напротив того, портрет времени расцвета барокко всеми средствами живописного контрапункта, которые стали нам известны как носителям пространственных и исторических далей, с помощью погруженной в коричневое атмосферы, перспективы, подвижного мазка кисти, дрожащих цветовых оттенков и света трактует тело как нечто само по себе недействительное, как полную выражения оболочку господствующего над пространством «я». (Техника фрески, будучи всецело евклидовской, напрочь исключает решение такой задачи.) У всей картины лишь одна тема – душа. Обратите внимание на то, как прописаны руки и лоб у Рембрандта (например, на гравюре, изображающей бургомистра Сикса, или на портрете архитектора из Касселя), а под занавес – еще раз у Маре и Лейбля (на портрете госпожи Гедон), как они – вплоть до полного растворения материи – одухотворены, полны визионерства и лиризма, и сравните с ними руку и лоб Аполлона или Посейдона времени Перикла.
По этой причине укутывание тела соответствовало подлинному и глубинному ощущению готики – и не из-за тела, но с тем, чтобы разработать в орнаментике драпировки язык форм, который, подобно фуге жизни, будет в созвучии с языком лица и рук: именно так соотносятся голоса в контрапункте, а в эпоху барокко – генерал-бас с верхними голосами оркестра. У Рембрандта костюм неизменно ведет басовую мелодию, поверх которой звучит мотив лица.
Древнеегипетская статуя, как и готическая задрапированная фигура, отрицает самоценность тела. Первая делает это, удерживая тело (как пирамиду или обелиск) в рамках математической схемы и ограничивая индивидуальное начало лицом, что удается ей с такой проникновенностью, которая не давалась больше никому – во всяком случае, в скульптуре. Второй же это удается посредством трактованной исключительно орнаментально одежды, физиономия которой усиливает язык лица и рук. В Афинах расположение складок должно открывать смысл тела, на севере же оно призвано сводить его на нет. В первом случае драпировка становится телом, во втором же – музыкой: вот глубокая противоположность, приводящая в творениях Высокого Возрождения к скрытой борьбе между тем идеалом, к которому стремится художник, и тем, который бессознательно выходит наружу. В этой борьбе первый, антиготический, идеал довольно часто одерживает победу на поверхности, между тем как второй, пролагающий дорогу от готики к барокко, неизменно торжествует в глубине.
12
Теперь я обобщу противоположность идеала аполлонического и фаустовского человечества. Обнаженная фигура и портрет соотносятся так, как тело и пространство, как мгновение и история, передний план и глубина, как евклидовское число – с числом аналитическим, как мера и отношение. Статуя укоренена в почве, музыка же (а западный портрет – это и есть музыка, сотканная из цветовых оттенков душа) пронизывает безбрежное пространство. Фреска связана со стеной, приросла к ней; масляная картина, как станковая, свободна от привязанности к месту. Аполлонический язык форм открывает ставшее, фаустовский же в первую очередь – еще и становление.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































