Текст книги "Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории"
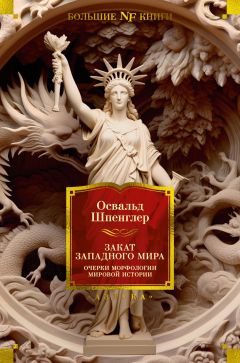
Автор книги: Освальд Шпенглер
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 82 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
18
Я сказал, что в конце XVII в., когда все великие мастера поумирали один за другим, масляная живопись пресеклась. Но ведь импрессионизм в более специальном смысле слова – это порождение XIX в.? Так все же процветала ли живопись на протяжении еще 200 лет, или, быть может, она существует еще и сегодня? Не будем обманывать самих себя. Между Рембрандтом и Делакруа или Констеблем пролегает мертвая полоса, и то, что начинается с последними, несмотря на все имеющиеся связи в плане техники и исполнения, весьма отличается от того, что завершилось с первым. Чисто декоративным художникам XVIII в. нечего делать здесь, где идет речь о живом искусстве, обладающем высочайшей символикой. Не будем обманываться и в отношении характера нового живописного эпизода, который после 1800 г., этой границы культуры и цивилизации, мог вновь пробудить иллюзию великой культуры живописи. Она сама обозначила свою тему как пленэр и тем самым с достаточной отчетливостью выявила значение собственного летучего явления. Пленэр – это сознательный, интеллектуальный и грубый уход от того, что стали вдруг называть «коричневым соусом» и что, как мы убедились, являлось подлинно метафизическим цветом на полотнах великих мастеров. На нем выстраивалась живописная культура школ, прежде всего нидерландской, которая безвозвратно пропала в эпоху рококо. Этот коричневый, символ пространственной бесконечности, превращавший для фаустовского человека картину в душевное Нечто, внезапно стали воспринимать как противоестественный. Что случилось? Не доказывает ли произошедшее изменение, что отсюда исподволь удалилась и душа, для которой этот просветленный цвет знаменовал нечто религиозное, был знаком томления, нес на себе весь смысл живой природы? Материализм западноевропейских мировых столиц подул на угли и вызвал к жизни это необычное и краткое позднее цветение двух поколений живописцев – ибо с поколением Мане все завершилось вновь. Я назвал возвышенный зеленый цвет Грюневальда, Лоррена, Джорджоне католическим цветом пространства, а трансцендентный коричневый – цветом протестантского мироощущения. Пленэр, разворачивающий теперь новую цветовую палитру, знаменует, напротив, безрелигиозность[256]256
Поэтому-то и абсолютно невозможно перейти от пленэра к подлинно религиозной живописи. Заложенное в живописи мироощущение до некоторой степени безрелигиозно и может сойти лишь за «рассудочную религию», так что любая из многочисленных, предпринимавшихся с вполне серьезными намерениями попыток в этом направлении производит пустое и фальшивое впечатление (Уде, Пюви де Шаванн). Одна-единственная пленэрная картина тут же обмирщает церковный интерьер и низводит его до выставочного павильона.
[Закрыть]. Импрессионизм возвратился из сфер бетховенской музыки и кантовских звездных пространств обратно на землю. Пространство это познается, а не переживается, видится, а не созерцается; в нем имеется настроение, а не судьба; то, что вносят в свои пейзажи Курбе и Мане, есть механический физический объект, а не прочувствованный мир пасторальной музыки. В этом умирающем искусстве осуществляется все то, что проповедовал Руссо под маркой трагически удачного выражения «возврат к природе». Так день ото дня все больше возвращается «обратно к природе» старик. Новый художник – работник, а не творец. Он укладывает на полотно, один подле другого, чистые цвета спектра. Тонкий почерк, танец мазков кисти уступает место огрубленным приемам: точки, квадраты, обширные неорганические массивы накладываются на полотно, множатся, ширятся. Наряду с широкой плоской кистью в качестве инструмента появляется шпатель. В качестве средства воздействия привлекается масляный грунт холста, причем местами он остается незакрашенным. Опасное искусство, мучительно холодное, больное, для сверхутонченных нервов, однако беспредельно научное, энергичное во всем, что касается преодоления технических трудностей, программно-заостренное – это просто сатировская драма{105}105
Веселая, комическая пародия на трагедию, с хором, составленным из сатиров. Сатировские драмы ставили на состязаниях драматургов в честь праздника Великих Дионисий как приложение к трагической трилогии. Хотя сатировские драмы писали все знаменитые древнегреческие трагики, полностью уцелела лишь одна, а именно принадлежащий Еврипиду «Киклоп».
[Закрыть] по отношению к великой масляной живописи от Леонардо до Рембрандта. Искусство это могло чувствовать себя как дома лишь в Бодлеровом Париже. Серебристые пейзажи Коро с их зеленовато-серыми и коричневыми тонами все еще грезят о душевном старинных мастеров. Курбе и Мане овладевают голым физическим пространством, пространством как «фактом». На смену мечтательному первооткрывателю Леонардо приходит живописец-экспериментатор. Коро, этот вечный ребенок, француз, а не парижанин, повсюду отыскивал свои потусторонние пейзажи; Курбе, Моне, Мане, Сезанн снимают портрет одной и той же местности вновь и вновь – мучительно, натужно, с обедненной душой: лес Фонтенбло, берега Сены у Аржантейля или ту примечательную долину близ Арля. Мощные пейзажи Рембрандта пребывают исключительно во Вселенной, пейзажи Мане находятся недалеко от станции железной дороги. Пленэристы, эти настоящие жители крупных городов, забрали музыку пространства у наиболее рассудочных испанцев и голландцев – Веласкеса, Гойи, Гоббемы, Франса Халса, – чтобы с помощью английских пейзажистов, а позднее – японцев, этих рассудочных и высокоцивилизованных умов, перевести ее в нечто эмпирическое и естественно-научное. Вот различие переживания природы и естествознания, сердца и ума, веры и знания.
Иначе обстояло дело в Германии. Если Франции предстояло завершать великую живопись, то здесь ее следовало нагонять. Ибо начиная с Ротмана, Васмана, К. Д. Фридриха и Рунге и вплоть до Маре и Лейбля живописный стиль предполагает наличие всех моментов развития; они лежат в основе технической стороны искусства, и всякий раз, как школа желает перейти на новый стиль, она нуждается в завершенной внутренней традиции. Отсюда как сильные, так и слабые стороны немецкой живописи последнего времени. У французов имелась собственная традиция от раннего барокко до Шардена и Коро. Существует живая связь между Лорреном и Коро, Рубенсом и Делакруа. Однако все великие немцы XVIII в. становились, как артисты, музыкантами. Одной из особенностей немецкой романтики оказалось то, что эта музыка, не меняя своей сокровенной сущности, после Бетховена все-таки еще раз обернулась живописью. Здесь она цвела долее всего, здесь она принесла очаровательнейшие свои плоды. Ибо эти лица и эти пейзажи представляют собой потаенную, полную томления и стремления музыку. Нечто от Эйхендорфа и Мёрике можно найти еще у Тома и Бёклина. Вот только то, в чем не было собственной внутренней традиции, нуждалось в заимствованном учении. Все эти художники отправлялись в Париж. Однако по мере того, что они, подобно Мане и его кружку, изучали и копировали также и старинных мастеров 1670 г., они воспринимали и совершенно новые, совершенно иные воздействия, между тем как французы видели в этом лишь воспоминания о том, что давно стало частью их искусства. Так что находящееся вне музыки немецкое изобразительное искусство представляет собой – с 1800 г. – запоздалое явление, поспешное, боязливое, запутанное, пребывающее в недоумении относительно собственных средств и целей. Нельзя было терять ни минуты. Ибо за одно или два поколения живописцев следовало наверстать то, чем стали немецкая музыка и французская живопись за столетия. Угасающее искусство стремилось к своей окончательной форме, что привело к необходимости разом, словно во сне, пролететь сквозь все оставшееся позади. Так здесь появляются такие удивительные фаустовские натуры, как Маре и Бёклин, нестойкие во всем формальном: в нашей музыке с ее устойчивой традицией (вспомним здесь Брукнера) они были бы абсолютно немыслимы. Этот трагизм столь же мало знаком проясненному в программном отношении и тем более обедненному внутренне искусству французских импрессионистов. Однако то же самое справедливо и применительно к немецкой литературе, которая начиная с времен Гёте испытывала потребность каждым своим крупным произведением нечто обосновать и должна была им же нечто завершить. Подобно тому как Клейст чувствовал себя Шекспиром и Стендалем в одно и то же время и с отчаянными усилиями, в вечном недовольстве, изменяя и разрушая, желал сплавить воедино два столетия психологического искусства; подобно тому как Геббель втиснул в единственный тип драмы всю проблематику от «Гамлета» до «Росмерсхольма»{106}106
Пьеса г. Ибсена (1886).
[Закрыть], так и Менцель, Лейбль, Маре пытались уплотнить в одну-единственную форму старые и новые образцы: Рембрандта, Лоррена, ван Гойена, Ватто, Делакруа, Курбе и Мане. Между тем как маленькие ранние интерьеры Менцеля предвосхищают все открытия круга Мане, а Лейбль осуществил многое из того, на чем потерпел поражение Курбе, в их картинах, с другой стороны, метафизический коричневый и зеленый старых мастеров снова приходят к полному выражению внутреннего переживания. Менцель действительно пережил заново и пробудил вновь что-то от прусского рококо, Маре проделал то же самое с каким-то моментом Рубенса, а Лейбль в своем портрете госпожи Гедон действительно возобновил нечто от рембрандтовского портретного искусства. Бок о бок с «коричневым цветом мастерской» XVI в. стояло еще одно искусство в высшей степени фаустовского содержания, а именно гравюра. И в том и в другом Рембрандт оказался первым мастером всех эпох. Также и в гравюре имеется нечто протестантское, и она неизменно удалена от более южных, католических художников сине-зеленой атмосферы и гобелена. Лейбль, как последний художник коричневого, был также и последним великим гравировщиком, чьи листы пронизаны той рембрандтовской бесконечностью, которая позволяет зрителю открывать все новые и новые тайны. Наконец, Маре располагал мощной интуицией великого барочного стиля, которую Жерико и Домье все еще были способны вколдовать в замкнутую форму, но которая, однако, в его случае, а именно в отсутствие крепкой опоры на западную традицию, не могла пробиться в мир живописного явления.
19
С «Тристаном» умирает последнее фаустовское искусство. Это произведение является колоссальным замковым камнем западной музыки. Живопись не добралась до столь мощного финала. Мане, Менцель и Лейбль, в чьих пленэрных этюдах словно бы выходит из могилы масляная живопись в старинном стиле, напротив того, мельчат.
Аполлоническое искусство достигло своего завершения «одновременно», в пергамской скульптуре. Пергам – это двойник Байрёйта. Сам знаменитый алтарь представляет собой позднее и, быть может, не самое значительное произведение эпохи. Следует предполагать наличие здесь (ок. 330–220) длительного, канувшего без следа развития. Однако все то, что выдвинул Ницше против Вагнера и Байрёйта, против «Кольца» и «Парсифаля», вполне можно, используя те же самые выражения, такие как декаданс и фиглярство, применить также и к этой скульптуре, шедевральное творение которой дошло до нас в виде фриза гигантов великого алтаря (также «кольца»). Та же самая театральность, та же опора на старые мифические мотивы, которым больше нет веры, то же безоглядное массированное воздействие на нервы, однако и те же самые сознательный размах, величие и благородство, которые тем не менее не в состоянии полностью скрыть недостаток внутренней силы. Нет сомнения в том, что бык Фарнезе и более старый праобраз группы «Лаокоона» происходят из этого круга.
Что характерно для угасающей творческой потенции, так это отсутствие формы и меры, в которых нуждаются художники, чтобы все-таки создать нечто закругленное и цельное. Я имею в виду не только вкус ко всему исполинскому, который не является выражением внутреннего величия, как это было в готике и в стиле пирамид, а лишь стремится скрыть его отсутствие: это кичение ненаполненными размерами характерно для всех пробуждающихся цивилизаций и господствует начиная с алтаря Зевса в Пергаме и известной как Колосс Родосский статуи Гелиоса, созданной Харетом, вплоть до римских построек императорского времени, точно так же как в Египте в начале Нового царства и теперь в Америке. Куда примечательнее произвол и чрезмерность, насилующие и ломающие все выработанные веками условности. Чего больше не переносят как здесь, так и там, так это надличностного правила, абсолютной математики формы, судьбы медленно вызревавшего языка великого искусства. Лисипп в этом смысле ниже Поликлета, а творцы групп галлов – ниже Лисиппа. Это соответствует пути, проходящему от Баха через Бетховена – к Вагнеру. Ранние художники ощущают себя повелителями великой формы, поздние – ее рабами. То, что совершенно свободно и беззаботно в пределах строжайших условностей удавалось сказать Праксителю с Гайдном, Лисипп и Бетховен создают лишь в результате изнасилования. Верные знаки всякого живого искусства: чистая гармония воли, долга и умения, самоочевидность цели, бессознательность исполнения, единство искусства и культуры – всего этого нет теперь и в помине. Коро и Тьеполо, Моцарт и Чимароза еще владели материнским языком своего искусства. Отныне его начинают коверкать, однако никто этого уже не замечает, потому что никто больше не в состоянии бегло говорить. Некогда свобода и необходимость были тождественны друг другу. Ныне под свободой понимают недостаток выучки. Слишком хорошо знакомая нам драма, когда кто-то «не справляется со своей задачей», была совершенно немыслима во времена Рембрандта и Баха. Судьба формы пребывала в расе, в школе, а не в тенденциях частного лица. Находясь под чарами великой традиции, даже некрупный художник способен достичь совершенства, поскольку его сводит с задачей живое искусство. Сегодня этим художникам приходится желать того, на что они больше не способны, и прикладывать свой художественный рассудок, рассчитывать и комбинировать там, где угас взрощенный школой инстинкт. Все они прошли через это. Маре не удалось осуществить ни один из своих больших замыслов. Лейбль не отваживался расстаться со своими последними работами, пока в результате бесконечных переработок они не делались холодными и черствыми. Сезанн и Ренуар оставили многое из лучшего, что было ими создано, незаконченным, поскольку при всей своей энергии и усилиях они не могли двигаться дальше. Написав тридцать картин, Мане надорвался, и, несмотря на колоссальное напряжение, о котором свидетельствует каждая черточка самого полотна и набросков, своим «Расстрелом императора Максимилиана» он едва ли достиг того, чего с легкостью добился Гойя в картине, служившей ему образцом, «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Бах, Гайдн, Моцарт и тысячи безымянных музыкантов XVIII в. могли достигать совершенства в ходе скорой повседневной работы. Вагнер знал, что поднимется на вершину лишь тогда, когда соберет воедино всю свою энергию и в мучениях воспользуется лучшими моментами своего художественного дарования.
У Вагнера с Мане глубинное родство. Немногие его ощущают, однако такой знаток всего декадентского, как Бодлер, обнаружил его уже очень рано{107}107
В статье «Рихард Вагнер и „Тангейзер“ в Париже» (1861).
[Закрыть]. Выколдовать из цветовых линий и пятен пространственный мир – вот в чем состояло высшее, утонченнейшее искусство импрессионистов. Вагнер добивается того же с помощью трех тактов, в которые у него уплотняется целый мир души. Всего несколькими звуками своего мотива он с совершенной отчетливостью выписывает цвета звездной ночи, проплывающих облаков, осени, жутко-тоскливого рассвета, ошеломляющие виды залитых солнцем далей, мировой страх, приближение рока, безнадежность, отчаянный порыв, внезапно зарождающуюся надежду – все это впечатления, о которых прежде не помышлял ни один музыкант. Здесь оказывается достигнутой крайняя противоположность греческой скульптуре. Все погружено в бестелесную бесконечность; ни одной линеарной мелодии больше не выделяется из неясных звуковых масс, которые диковинными валами вызывают на свет воображаемое пространство. Мотив всплывает из мрачной и чудовищной глубины, когда на него мимолетно падает пронзительный свет; внезапно он оказывается ужасно близко; мотив улыбается, ласкается и грозит; он то исчезает в царстве струнных инструментов, то снова приближается из бесконечной дали, легко варьируемый одним-единственным гобоем, будучи исполнен все новой глубины душевных тонов. Все это не есть ни живопись, ни музыка, если иметь в виду предшествовавшие работы в строгом стиле. Когда Россини спросили, что он думает о музыке «Гугенотов»{108}108
Опера Дж. Мейербера (1836).
[Закрыть], он ответил: «Музыка? А разве там звучала какая-то музыка?» Точно такое же суждение можно было услышать в Афинах относительно нового живописного искусства азиатской и сикионской школ, и немногим отличалось бы то, что произнесли бы в египетских Фивах насчет искусства Кносса и Тель-эль-Амарны.
Все, что сказано Ницше о Вагнере, приложимо и к Мане. Якобы возвращение к элементарному, к природе в противоположность сюжетной живописи и абсолютной музыке, на деле их искусство означает уступку варварству больших городов, начинающемуся распаду, как он выражается в области чувственного через смесь брутальности и утонченности, – шаг, который по необходимости должен быть последним. Искусственное искусство не способно ни на какое дальнейшее органическое развитие. Оно знаменует конец.
Отсюда следует (и это горькое признание), что западное изобразительное искусство пришло к неминуемому завершению. Кризис XIX в. был агонией. Фаустовское искусство умирает, как и аполлоническое, как и египетское, как и всякое другое, – от старческой немощи, после того как оно реализовало все свои внутренние возможности, после того как оно исполнило свое предназначение в биографии своей культуры.
То, что практикуется ныне в качестве искусства – как музыка после Вагнера, так и живопись после Мане, Сезанна, Лейбля и Менделя, – представляет собой бессилие и ложь.
Попытаемся же отыскать великие личности, которые могли бы оправдать утверждение, что искусство, заряженное судьбоносной необходимостью, все еще существует. Поищем самоочевидные и насущные задачи, которые ждали бы своего решения от этих людей. Обойдем все выставки, концерты, театры – и не найдем здесь никого, кроме суетливых дельцов и шумных дураков, которые довольствуются поделками на продажу, хотя внутренне все это уже давно воспринимается как излишнее. На каком низком уровне внутреннего и внешнего достоинства пребывает сегодня все то, что принято именовать искусством и художниками! Да на общем собрании любого акционерного общества или среди инженеров первого попавшегося машиностроительного завода мы отыщем больше интеллигенции{109}109
См. выше, коммент. 11.
[Закрыть], вкуса, характера и мастерства, чем во всей живописи и музыке современной Европы! На одного великого художника всегда приходилась сотня лишних людей, подвизавшихся в искусстве. Однако пока существовала великая условность, а значит, подлинное искусство, даже и из-под их рук выходило нечто порядочное. Существование этой сотни было извинительным, потому все сообща эти люди и были той самой почвенной традицией, которая рождала одного. Но ныне только эти 10 000{110}110
По состоянию на 1976 г. в Союзе писателей СССР было 7833 члена, Союзе художников – 14 538, Союзе композиторов – 1936.
[Закрыть] и занимаются делом, «чтобы как-то жить» (в необходимости чего никакой уверенности у нас нет), и несомненно лишь одно: все художественные заведения можно было бы сегодня позакрывать, само же искусство этого даже и не заметит. Нам было бы довольно перенестись в Александрию в 200 г. до Р. X., чтобы получить представление о создаваемой вокруг искусства шумихе, посредством которой цивилизация мировых столиц умудряется обмануться насчет смерти своего искусства. Там, как и теперь в мировых столицах Западной Европы, шла погоня за иллюзиями дальнейшего художественного развития, персональной самобытности, «нового стиля», «непредвиденных возможностей», звучала теоретизирующая болтовня, привлекали всеобщее внимание претенциозные позы модных художников, подобных акробатам, жонглирующим («ходлирующим»{111}111
Выпад против швейцарского художника Фердинанда Ходлера (1853–1918).
[Закрыть]) гирями из папье-маше, можно было видеть литератора вместо поэта, наблюдать позорный фарс организованного торговцами от искусства экспрессионизма, выдаваемого за главу в истории искусств, познакомиться с воззрением на мышление, чувства и творчество как художественное ремесло. В Александрии тоже были свои драматурги на животрепещущие темы и режиссеры, которых предпочитали Софоклу, были и художники, изобретавшие новые течения и ошеломлявшие свою публику. Что имеем мы сегодня под именем «искусства»? Во-первых, фальшивую музыку, полную деланого шума массированно пускаемых в ход инструментов. Во-вторых, изолгавшуюся живопись, полную идиотических, экзотических и плакатных эффектов. В-третьих, лживую архитектуру, которая каждые десять лет, порывшись в запасниках форм прошедших тысячелетий, «основывает» новый стиль, и уж под его маркой каждый делает, что ему заблагорассудится. Наконец, лживую скульптуру, обкрадывающую Ассирию, Египет и Мексику. И все же во внимание как выражение и знамение времени принимается один только вкус светских кругов. А все прочее, что, напротив, продолжает «держаться» за старые идеалы, становится уделом исключительно одних провинциалов.
Великая орнаментика прошлого сделалась мертвым языком, как санскрит и церковная латынь[257]257
Ср. с. 618–619.
[Закрыть]. Вместо того чтобы служить ее символике, ее мумию, ее наследие используют на готовых формах, размножают, подвергают совершенно неорганичным изменениям. Всякий модернизм почитает отклонение за развитие. На место действительного становления приходят реанимированные старые стили и их гибриды. В Александрии тоже были свои прерафаэлитствующие паяцы – с вазами, стульями, картинами и теориями, свои символисты, натуралисты и экспрессионисты. В Риме себя выдают то за представителей греко-азиатской школы, то греко-египетской, то архаической, а то – по Праксителю – новоаттической. Рельефы XIX династии, этот египетский модернизм, которые массивно, бессмысленно и неорганично оплетают стены, статуи и колонны, производит впечатление пародии на искусство Древнего царства. Наконец, птолемеевский храм Гора в Эдфу невозможно было бы превзойти по пустоте произвольно нагроможденных форм. Это хвастливый и навязчивый стиль также и наших улиц, монументальных площадей и выставок, хотя мы пребываем еще только в начале такого развития.
Наконец, иссякает даже та энергия, которая необходима, чтобы хотя бы только желать чего-то иного. Уже великий Рамсес присваивал постройки своих предшественников, повелевая вырубать их имена с надписей и сцен рельефов и заменять их на собственное. То же самое признание в художественной импотенции подвигло и Константина украсить собственную триумфальную арку в Риме скульптурами, снятыми с других зданий. Много раньше, примерно со 150 г. до Р. X., в регионе античного искусства возникает техника копирования старинных шедевров – не потому, что в них еще хоть что-то понимали, но потому, что никто больше не мог создавать оригиналы. Ибо мы должны как следует усвоить: копиисты эти были художниками той эпохи. Их работы, исполненные в том или ином стиле в соответствии с требованиями моды, знаменуют максимум имевшейся на тот момент творческой потенции. Вообще все римские портретные статуи, будь то мужские или женские, сводятся к весьма малому числу греческих типов позы и жеста, которые, что касается торса фигуры, копировались с большей или меньшей верностью стилю, между тем как лицо делалось «похожим» с помощью примитивной ремесленной способности потрафить заказчику. Так, например, знаменитая статуя Августа в доспехах выполнена по образцу «Дорифора» Поликлета. Примерно в таком соотношении находятся (если называть первые предварительные признаки соответствующей стадии на Западе) Ленбах к Рембрандту и Макарт к Рубенсу. Точно так же на протяжении 1500 лет, от Яхмоса I до Клеопатры, копил все новые и новые скульптуры и египетский дух. Вместо развивавшегося древними вплоть до конца Среднего царства большого стиля здесь господствует мода, заставляющая вновь оживать вкус то одной, то другой династии. Среди турфанских находок{112}112
См. коммент. 431, т. 2.
[Закрыть] имеются остатки индийских драм времени Рождения Христа, нисколько не уступающие созданным Калидасой несколькими столетиями позже. Известная нам китайская живопись на протяжении более тысячелетия демонстрирует непрестанную смену стилевой моды при отсутствии развития, и так, должно быть, обстояло дело уже в эпоху Хань. Окончательным результатом является устоявшийся, без устали копируемый запас форм, как нам это демонстрируют ныне индийское, китайское и арабско-персидское искусство, и в соответствии с ним исполняются картины и ткани, стихи и сосуды, мебель, драмы и музыкальные произведения[258]258
Ср. т. 1, гл. 3, раздел 10; см. с. 241.
[Закрыть], – и это при невозможности по языку орнаментики определить хотя бы век, к которому относится данная работа, уж не говоря о десятилетии, что неизменно удавалось во всех культурах вплоть до завершения позднего времени.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































