Текст книги "Последняя инстанция"
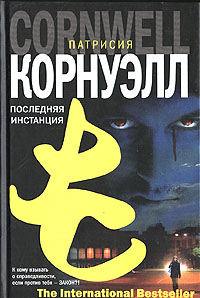
Автор книги: Патриция Корнуэлл
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Прости, Люси. – Потянувшись, беру ее ладонь в кончики торчащих из гипса пальцев. – Я не хочу тебя отпускать. Эгоизм. Прости.
– Я тебя не бросаю, буду приезжать. На вертолете до Ричмонда каких-то два часа лету. Все нормально. – Она глядит на меня. – А почему бы тебе к нам не присоединиться, тетя Кей? – Люси высказала наконец эту мысль, явно не сырую. Очевидно, они с Макговерн часто обо мне беседовали, в том числе обсуждали мою вероятную роль в их компании. Осознание этого дает особое ощущение. До сих пор я принципиально не думала о своем будущем, а тут оно неожиданно встало передо мной большим темным экраном. С одной стороны, умом я понимаю, что прежняя моя жизнь осталась в далеком прошлом, а с другой – это еще надо принять сердцем.
– Разве тебе не хочется поработать на себя, чтобы государство не диктовало, что делать? – продолжает Люси.
– Ну, разве что потом, – отвечаю я.
– Знаешь, «потом» уже настало, – говорит она. – Двадцатый век заканчивается ровно через девять дней.
Глава 7
Уже почти полночь. Сижу у огня в украшенном ручной резьбой кресле-качалке, в единственным сельском предмете мебели в доме Анны. Свое кресло она намеренно поставила так, чтобы я находилась в поле зрения, тогда как мне не обязательно постоянно ее видеть, если вдруг нахлынет особая восприимчивость и я начну открывать запрятанные в глубинах души секреты. В последнее время я узнала, что в разговоре с Анной может всплыть что угодно; так и вижу себя свежим местом преступления, на которое выезжают впервые.
Свет в гостиной выключен, огонь в камине проходит финальную стадию агонии и вот-вот погаснет. Раскаленные угли пышут жаром, который с каждым вздохом переливаются разными оттенками оранжевого. Я рассказываю Анне об одном воскресном вечере. Дело было чуть больше года назад, в ноябре; на Бентона тогда нашла какая-то непонятная, совершенно для него нехарактерная озлобленность.
– В каком смысле нехарактерная? – тихим голосом спрашивает Анна.
– Бывало, мне не спалось и я засиживалась допоздна за работой. Он привык к моим ночным бдениям. В тот день Бентон заснул в постели с книгой. Вполне типичный случай, который для меня служил сигналом, что можно встать и заняться собой. Мне страсть как недостает тишины, хочется остаться в полном одиночестве, когда остальной мир погрузился в забытье и никому ничего от меня не нужно.
– Ты всегда испытывала такую потребность?
– Всегда, – отвечаю я. – Тогда у меня начинается настоящая жизнь. Я становлюсь самой собой только в полном одиночестве. Мне нужно личное время. Оно мне необходимо.
– Так что произошло в ту ночь, о которой ты начала рассказывать? – интересуется Анна.
– Я встала, забрала у него книгу, выключила свет.
– Что он читал?
Своим вопросом Анна застала меня врасплох. Надо подумать. Точно не помню; почему-то кажется, в ту пору Бентон читал о Джеймстауне, первом из постоянных английских поселений на территории Америки, которое находится менее чем в часе езды к востоку от Ричмонда. Он очень любил историю, в университете специализировался сразу по двум направлением: история и психология, а интерес к Джеймстауну в нем разгорелся, когда там начались археологические раскопки и были найдены остатки первого форта. Медленно, но все-таки я припоминаю: перед сном Бентон читал сборник рассказов, по большей части написанных Джоном Смитом. Название вылетело из головы. Книга наверняка до сих пор валяется где-нибудь в доме; больно кольнула мысль о том, что когда-нибудь я на нее наткнусь. Продолжаю рассказ:
– Я вышла из спальни, тихонько прикрыла за собой дверь и направилась в кабинет, который расположен чуть дальше по коридору. Знаешь, когда я провожу вскрытия, то делаю срезы некоторых органов, иногда вскрываю ранения. Ткани отправляются в лабораторию гистологии, где их снимают на пленку. Снимки я впоследствии рассматриваю, записывая наблюдения на диктофон. Времени на записи всегда не хватает, и я частенько забираю папки со слайдами домой. Полицейские об этом уже расспрашивали. Вот что забавно: занимаешься рутинными делами, нисколько не сомневаясь, что так и надо, все нормально, но как только о них начинают спрашивать другие... тут-то и доходит, что живешь не как все остальные люди.
– Почему полицейские интересовались слайдами, которые ты держишь в доме? – спрашивает Анна.
– Ну, они всем интересовались. – Возвращаюсь к той истории с Бентоном, описываю, что сидела в кабинете, склонившись над микроскопом. Я была полностью поглощена нейронами с пятнышками прикрепившихся металлов – уж очень они походили на стайку одноглазых пурпурно-золотистых существ со щупальцами. Почувствовала, что за спиной кто-то есть, обернулась и увидела в дверях Бентона. Лицо его излучало какое-то неестественное негодование, горело зловещим светом, как огни святого Эльма.
– Не спится? – с издевкой поинтересовался он, что было совсем на него не похоже.
Я откатилась в кресле от мощного микроскопа «Никон».
– Если бы эту штуковину можно было научить трахаться, ты бы и без меня спокойно обошлась! – Бентон злобно сверкнул на меня горящим, точно бушующие под микроскопом клетки, взглядом. Он стоял бледный в пижамных брюках, его профиль был резко очерчен светом настольной лампы, грудь вздымалась и блестела от пота, на руках вздулись вены, седые волосы прилипли ко лбу. Я поинтересовалась, чего ради он так негодует, и Бентон, яростно тыча в меня пальцем, скомандовал, чтобы я немедленно отправлялась в постель.
Тут Анна меня останавливает:
– Что-нибудь предшествовало этому случаю? Какая-нибудь ситуация, предупреждение? – Она тоже неплохо знала Бентона. Этот человек не мог так себя вести; возникало ощущение, будто его телом овладел пришелец.
– Ничего подобного. Никаких предупреждений. – Я медленно, без остановки раскачиваюсь в кресле. В камине потрескивают тлеющие угли. – И уж где меньше всего мне хотелось оказаться в тот момент, так это с ним в постели. Бентон, может, и был лучшим судебным психологом ФБР, однако со всем своим умением читать мысли других порой он становился чужим и холодным как камень. Я не собиралась всю ночь пялиться в потолок и слушать, как он молчит, отвернувшись от меня, и почти не дышит. Но чего я за ним прежде не замечала, так это жестокости. Никогда в жизни он не допускал по отношению ко мне такой оскорбительной требовательности. Может, чего-то другого в наших отношениях и недоставало, а вот взаимного уважения всегда было вдоволь.
– Он объяснил, что ты сделала не так? – Анна заставляет меня анализировать.
Кисло улыбаюсь:
– Когда про микроскоп рявкнул, я все поняла. – Мы с Бентоном прекрасно уживались в моем доме, однако он чувствовал себя в нем только гостем. Дом принадлежит мне, как и все, что в нем находится. В последний год своей жизни Бентон разочаровался в работе. Теперь, когда я оглядываюсь на те времена, понимаю, что он устал, в его жизни исчезла цель, он боялся надвигающейся старости. Все это подрывало нашу близость. Секс в отношениях стал сродни заброшенному аэропорту, который на расстоянии выглядит функционирующим, однако в диспетчерской никого нет и нет ни взлетов, ни посадок; мы в него наведывались лишь эпизодически, из чувства долга и по привычке, наверное.
– А когда вы занимались сексом, кто обычно был инициатором? – спрашивает Анна.
– В последнее время он. Скорее из отчаяния, чем по желанию. Может быть, даже от разочарования жизнью. Да, пожалуй, так, – решаю я.
Анна за мной наблюдает, лицо ее остается в тени, сгущающейся по мере того, как остывает уголь. Рукой она опирается на подлокотник, опустив подбородок на указательный палец. Это ее привычная поза, которая неизменно связана с тяжелыми разговорами, изобилующими в последнее время. Ее гостиная превратилась в затемненную исповедальню, где я могу эмоционально переродиться, обнажить всю себя, не испытывая стыда. Наши беседы я не назвала бы лечением, скорее я воспринимаю их как дружеское священнодействие, безопасное и неприкосновенное. Здесь я способна поведать другому живому существу, каково это – быть мной.
– Давай вернемся к той ночи, когда Бентон разозлился, – направляет меня Анна. – Не припомнишь, когда конкретно это случилось?
– За несколько недель до его гибели, – спокойно говорю я, зачарованно глядя на сияющие, словно кожа аллигатора, угли. – Он знал, что мне нужно личное пространство. Даже в те ночи, когда мы занимались любовью, я частенько, дождавшись, когда он уснет, выскальзывала из постели и воровато, словно совершаю клятвопреступление, проскальзывала в кабинет. Он с пониманием относился к моим маленьким изменам. – Чувствую: Анна улыбается в темноте. – Бентон почти никогда не жаловался, если, протянув руку на мою часть постели, нащупывал лишь пустоту. Уважал мои потребности. Знал, что временами мне надо побыть одной. Во всяком случае, так казалось. Я и не подозревала до той ночи, когда он ко мне ворвался, что его бесят мои ночные повадки.
– Просто ночные повадки? – спрашивает Анна. – Или вернее это назвать отчужденностью?
– Да я бы не сказала, что испытывала к нему отчуждение.
– Ты считаешь себя человеком, который легко сходится с людьми?
Я стала размышлять, пытаясь докопаться до столь пугающей правды.
– Ты была открыта с Бентоном? – продолжает Анна. – Давай-ка начнем с него. Он был самой серьезной твоей привязанностью. Во всяком случае, с ним ты оставалась дольше, чем с кем бы то ни было другим.
– Была ли я с ним открыта? – Поигрываю вопросом, как мячом, готовясь его подать, решая, под каким углом бросить, с какой силой размахнуться. – И да и нет. Бентон был лучшим и добрейшим из тех, с кем мне приходилось общаться. Чуткий. Вдумчивый, умный человек. С ним легко было говорить на любые темы.
– И вы разговаривали? У меня сложилось впечатление, что нет. – Анна крепко за меня взялась.
Я вздыхаю.
– Не припомню, чтобы хоть с кем-нибудь разговаривала совершенно обо всем.
– Может, тебе с Бентоном было спокойно? – подкидывает она предположение.
– Пожалуй, – отвечаю. – Но точно знаю, что были у меня свои больные точки, которых мы не касались. Я и не хотела так сближаться, напрягать его. Пожалуй, отчасти в том повинны обстоятельства, при которых начались наши отношения. Бентон был женат и всегда от меня возвращался домой к жене Конни. Так продолжалось долго. Нас будто стена разделяла, мы жили порознь, соприкасаясь лишь время от времени, когда выпадал случай. Боже, никогда так больше ни с кем не поступлю.
– Вина мучает?
– Еще бы, – отвечаю я. – Любому католику знакомо чувство вины. Особенно поначалу совесть здорово грызла. Для меня нарушить правила – смерти равносильно. Я ведь не такая, как Люси. Вернее сказать, она не такая, как я. Если племяшка сталкивается с бездумными правилами, то запросто преступает их. Да о чем тут говорить, Анна, мне даже штрафов за превышение скорости ни разу не выписывали.
Тут она подается вперед и поднимает ладонь. Это сигнал: я сказала нечто важное.
– Правила... А что такое правила?
– Тебе интересно определение?
– Что такое правила для тебя? Как ты это понимаешь?
– Плохо – хорошо, – отвечаю я. – Законно и незаконно. Что морально, а что аморально. Одно гуманно, другое – нет.
– Переспать с женатым человеком аморально, плохо, бесчеловечно?
– Ну, во всяком случае, глупо. Да, плохо. Конечно, не смертный грех, ничего незаконного, но бесчестно. Да уж, бесчестнее некуда. Нарушение правил.
– Значит, ты признаешь, что способна на бесчестный поступок.
– Я признаю, что способна на глупость.
– А повести себя нечестно? – Она не дает уйти от ответа.
– Люди на все способны, и я не исключение. Наша с Бентоном связь была неблаговидна. Косвенно я обманывала, скрывая свои действия и недоговаривая. Держала фасад, создавала обманчивую видимость, в том числе и перед Конни. Ложь. Значит, получается, я способна врать?..
Это признание здорово меня расстроило.
– А как насчет убийства? Что правила говорят об убийстве? Это плохо? Аморально? Запретное действие? Ты лишила человека жизни, – говорит Анна.
– При самообороне. – Тут я совершенно уверена. – Так поступают, когда нет выбора, потому что человек собирается убить тебя или кого-то другого на твоих глазах.
– Ты совершила грех? Ибо сказано – «не убий».
– Ничего подобного. – Теперь я испытываю нечто вроде разочарования, я недовольна собой. – Легко судить о поступках других с отдаленной позиции морали и идеализма. А вот когда убийца приставляет нож к горлу или тянется к пистолету, чтобы тебя застрелить, тогда совсем другое дело. В этом случае грехом будет как раз бездействие, ты совершишь клятвопреступление, позволив погибнуть невинному или себе. Я не испытываю раскаяния, – говорю Анне.
– А что ты тогда испытываешь?
Прикрываю на миг глаза, по векам промчалось красное пламя.
– Тошноту. Каждый раз, как вспомню, наизнанку выворачивает. Я не сделала ничего плохого, у меня ведь выбора не было. Но и правильным это тоже не назвать, если понимаешь, в чем разница. Когда передо мной корчился Темпл Голт, истекая кровью, и молил меня о помощи, словами не описать, каково мне было. Вспомнить страшно.
– Это произошло в тоннеле нью-йоркского метро. Лет пять назад? – спрашивает она, и я отвечаю кивком. – Бывший напарник преступницы Кэрри Гризен. Вроде как ее учитель. Ведь так?
Я снова киваю.
– Занятно, – говорит она. – Ты убила вторую половину Кэрри, а потом она убила твою. Что, если это не случайность?
– Понятия не имею. Никогда в таком ключе не рассуждала. – Удивительно, что такая простая мысль до сих пор мне не приходила в голову.
– Как ты думаешь, Голт заслужил смерть? – вдруг спрашивает Анна.
– О нем кое-кто сказал, что он и свое право на жизнь обманом получил, без него всем только лучше. И все же, упаси Господи, не по своему выбору я стала палачом, Анна, не по своему. У него кровь из пальцев сочилась. В глазах такой ужас застыл, неописуемый, зло его покинуло. Передо мной умирало живое существо, и я тому была причиной. Он плакал, умолял остановить кровотечение... Да, мне по сей день иногда кошмары снятся.
– А Жан-Батист Шандонне?
– Я никому больше не хочу причинять боль.
Гляжу на умирающий огонь.
– Ну он хотя бы остался в живых.
– И что? Такие типы никогда не перестанут причинять людям вред, даже в тюрьме. Зло каленым железом не выжечь. Сложная дилемма. С одной стороны, я не желаю ему смерти, и в то же время он, пока он жив, будет вредить людям.
Анна безмолвствует. У нее свой метод работы: отвечать молчанием, не высказывая свое мнение. Грудь сдавило от горя, сердце частит пугливым стаккато.
– Все одно мне достанется: убила бы Шандонне – виновата, – добавляю я. – И уж точно придется отвечать за то, что я его не убила.
– Ты не могла спасти Бентона от смерти. – Пространство между нами заполняет голос Анны. Качаю головой, к глазам подступили слезы. – Думаешь, ты должна была его защитить? – спрашивает она. Сглатываю ком в горле, спазмы прорывающихся рыданий не дают заговорить. – Ты его подвела, Кей? Может быть, ты наложила на себя епитимью – истреблять монстров? Ради Бентона, потому что позволила его убить, не уберегла?
Беспомощная ярость перекипает через край.
– Он сам себя не защитил, черт побери! Бентон намеренно ушел умирать. Как уходит собака или кошка, потому что время настало. Господи!.. – Меня прорвало. – Он постоянно жаловался на морщинки, на то, что живот отвис, на боль, на беспокойство. С самого начала. Он ведь старше меня, сама помнишь.
Может, еще и поэтому боялся стареть. Не знаю. Только когда ему за сорок перевалило, в зеркало спокойно не мог смотреться: подойдет и головой качает. «Как же не хочется стареть, Кей». Так, бывало, и говорил.
Помню, однажды мы вдвоем лежали в ванной, и Бентон выказал недовольство своим телом. Я ответила, что никто не желает стареть. А он: «Да нет, мне на самом деле не хочется, я этого просто не переживу». «Придется, – говорю я. – Нельзя думать только о себе, дорогой. И кроме того, мы ведь как-то пережили молодость, правда?» Ха, он решил, что я иронизирую. А я-то серьезно. Спрашиваю: когда он был молодым, часто ли ждал завтрашнего дня? Ведь всегда кажется, что завтра будет лучше. Он задумался, притянул меня к себе, лаская под дымящейся пеленой горячей лавандовой воды... Да, в те времена он знал, как меня завести, чтобы все клеточки загудели от одного касания. Хорошие были деньки. «А ведь правда, я всегда ждал завтра, думал, все изменится к лучшему. Это закон выживания, Кей. Если не ждешь перемен к лучшему – завтра ли, через год или десять лет, зачем вообще жить?»
Я умолкаю, покачиваясь в кресле, а затем говорю:
– Ну вот он и перестал ждать и стремиться. Потому и умер: в будущем больше не видел утешения. Не важно, пусть смерть нашел от чужих рук, решение-то он принял сам. – Слезы пересохли, стало пусто на душе, я побеждена и негодую. Смотрю на отблески потухшего пламени, и слабый отсвет касается моего лица. – Пошел ты, Бентон, – бормочу, глядя на курящиеся угольки. – Сдался, слабак.
– Ты поэтому переспала с Джеем Талли? – спрашивает Анна. – В отместку Бентону? Отплатить ему за то, что он умер и оставил тебя одну?
– Если и так, то неосознанно.
– Что ты чувствуешь?
Пытаюсь прочувствовать.
– После того, как убили Бентона?..
Размышляю.
– Я умерла. Просто умерла. Ничего не чувствовала. Думаю, и с Джеем переспала потому, что...
– Не думай. Меня интересует, что ты чувствуешь, – мягко напоминает Анна.
– В том-то и дело. Я хотела почувствовать, мне отчаянно надо было почувствовать хоть что-нибудь, – говорю я.
– Ну и как, с Джеем получилось?
– Получилось понять, какая я дешевка.
– Не надо думать, – снова напоминает Анна.
– Не знаю. Я ощущала голод, желание, злость, эгоизм, свободу. Вот именно, свободу.
– Ты освободилась от смерти Бентона или, может быть, от него самого? Он был человеком сдержанным, правда? С ним было безопасно. Рассудительный, обстоятельный, всегда все делал правильно. На что был похож секс с ним? Он был правильным? – интересуется Анна.
– Рассудительным, – говорю я. – Мягким, внимательным.
– Рассудительным, вот как. Это многое объясняет. – В голосе Анны угадывается ирония, и я волей-неволей обращаю внимание на произнесенные слова.
– Мы не сгорали от страсти. – Я открываюсь все больше. – Должна признать, очень часто в постели я думала о чем-то своем. Знаешь, Анна, ты даже в ходе беседы не разрешаешь думать. Хотя когда люди занимаются любовью, мыслей действительно быть не должно. Только наслаждение, нестерпимое удовольствие.
– Тебе секс нравится?
Я засмеялась от неожиданности. Меня еще о таком никто не спрашивал.
– О да. Естественно, бывает по-разному. Бывало и хорошо, и очень хорошо, и плохо, скучно, утомительно – по-всякому. Секс штука странная. Не знаю даже, что я о нем думаю. Только вот надеюсь, премьер гранд-крю я еще не попробовала, – провожу аналогию с лучшим бордо. Секс во многом напоминает вино, и, говоря по правде, мои любовные встречи до сих пор ограничивались не лучшими сортами: растущими в низине, достаточно распространенными и по умеренной цене. – Думаю, главного удовольствия я еще не испытала, не достигла глубочайшей сексуальной гармонии с другим человеком. Нет, пока еще нет. – Начинаю забалтываться, говорю прерывисто, бросая мысли, тут же опровергая то, что еще только собиралась сказать. – Наверное, не помешает сначала разобраться, насколько это важно, какое ему отводить место.
– Учитывая, чем ты зарабатываешь на жизнь, Кей, тебе должно быть прекрасно известно, насколько он важен. Секс – это власть. Это жизнь и смерть. – Анна констатирует факт. – Разумеется, перед твоими глазами в основном проходят чудовищные злоупотребления такого рода властью. И Шандонне тому ярчайший пример. Он получает сексуальное удовлетворение, причиняя другим страдания, унижая, подавляя; он строит из себя Бога, решая кому жить, а кому умереть и каким образом.
– Вот именно.
– Его эротически возбуждает власть. Как и многих.
– Самый сильный афродизиак, – соглашаюсь я. – Правда, не все согласны это признать.
– У нас и другой пример перед глазами: Диана Брэй. Красивая соблазнительная женщина эксплуатировала собственную сексапильность, дабы подавлять людей и руководить ими. По крайней мере у меня такое сложилось впечатление, – говорит Анна.
– Такое впечатление она и производила, – киваю я.
– А ее к тебе не тянуло? – спрашивает Анна.
Пытаюсь дать беспристрастную оценку. От одной такой мысли уже становится не по себе, я отстраняюсь и смотрю на вопрос со стороны, будто это орган на операционном столе.
– Мне такое никогда не приходило в голову. Так что скорее всего ничего не было, иначе я бы хоть какие-то признаки заметила.
Анна не отвечает.
– Хотя, может, что-то и было... – увиливаю я.
Собеседница не покупается на уловку.
– Не ты ли сама мне рассказывала, что она пыталась сойтись с тобой с помощью Марино? Хотела вместе где-нибудь перекусить, пообщаться, узнать тебя поближе, и все это пыталась устроить его руками?
– Да, так Марино рассказывал, – отвечаю я.
– Может быть, ты ее все-таки интересовала в эротическом плане? Если бы ты клюнула, она полностью подчинила бы тебя своей воле, так? Ей мало было испортить тебе карьеру, она хотела попутно угоститься твоим телом и таким образом присвоить все стороны твоего существования. Разве не то же самое делают Шандонне и ему подобные? Они, между прочим, тоже испытывают к жертве притяжение. Просто действуют иначе, не так, как остальные. Нам с тобой известно, что ты с ним сделала, когда он попытался осуществить свои желания. И совершил огромнейшую ошибку. Жан-Батист взглянул на тебя с вожделением, и ты его ослепила. По крайней мере на время. – Анна умолкает, опершись подбородком на руку и не сводя с меня глаз.
Смотрю на нее в упор. Меня вновь посетило то странное чувство – можно сказать, предостережение, хотя точного слова не подберешь.
– А если бы Диана Брэй все-таки стала добиваться от тебя взаимности, ты как бы тогда поступила? – продолжает раскапывать Анна.
– У меня есть способ отвадить неподходящие притязания, – отвечаю я.
– Применимый и к женщинам?
– К представителям обоих полов.
– Надо понимать, от женщин все-таки были предложения?
– Бывало от случая к случаю, на протяжении многих лет. – Простой вопрос, на который имеется очевидный ответ. Я ведь не в пещере живу отшельницей. – Ну разумеется, некоторые женщины проявляли ко мне чувства, на которые я ответить взаимностью не могла.
– Не могла или не хотела?
– И то и другое.
– А что ты чувствуешь, когда женщина испытывает к тебе желание?
– Ты пытаешься выяснить, как я отношусь к однополым связям?
– Ну так как?
Размышляю. Заглядываю в самую суть себя, пытаясь понять, не испытываю ли я отвращения к гомосексуалистам. Люси я неизменно заверяла, что к однополой любви отношусь совершенно спокойно, если, конечно, не принимать во внимание связанных с ней осложнений.
– Да нет, вроде бы все в порядке, – отвечаю Анне. – Честно. Просто я предпочитаю другие формы общения. Это не мое.
– А разве такие вещи выбирают?
– В некотором смысле да. – Тут я совершенно уверена. – Точно знаю – людей часто тянет не к самым лучшим вариантам, и поэтому они предпочитают не давать чувствам ход. Я прекрасно понимаю Люси. Я пристально наблюдала за ее отношениями с любовницами и даже в некотором смысле завидовала их близости. Пусть таким людям трудно идти против большинства, зато их дружба особенно прочна. Такая бывает только у женщин. Представителям противоположного пола труднее достичь полного душевного контакта, стать настоящими друзьями. Это я осознаю. По-моему, главное различие у нас с Люси в том, что я жду, когда мужчина разглядит во мне родственную душу; ее же сильный пол подавляет. Настоящая близость возможна лишь при балансе сил между индивидуумами. Поскольку у меня подобных сложностей нет, я предпочитаю сближаться именно с мужчинами. – Анна молчит. – Больше я об этом не думала, – добавляю. – Не все на свете поддается объяснению. Вот и Люси с ее привязанностями и предпочтениями тяжело объяснить. Как и меня.
– Ты на самом деле считаешь, что не способна к душевному сродству с мужчиной? Может, у тебя слишком низкие ожидания? Возможно такое?
– Запросто. – Я чуть не рассмеялась. – Если уж у кого и низкие ожидания, так это у меня, после всех романов, которые я завалила.
– Ты никогда не испытывала притяжения к женщине? – Наконец Анна подбирается к главному вопросу. Я так и знала, что она к этому клонит.
– Ну нет, бывали, конечно, женщины крайне притягательные, – соглашаюсь я. – Помню, еще в юности я западала на учительниц.
– Это твое «западание» носило сексуальную окраску?
– В том числе. Хотя увлечения были невинными и наивными. Многие девчонки вожделеют к своим учительницам, особенно в приходских шкалах, где преподают в основном женщины.
– Монахини.
Улыбаюсь.
– Да уж, представь, каково это – одуреть от монахини.
– Кстати, и монахини друг от друга «дуреют», – замечает Анна.
Какое-то неприятное, сквозящее неуверенностью чувство пеленой наползает на рассудок, и где-то в глубине осознания зажигается предупреждающий огонек. Не знаю, почему Анна так сосредоточилась на сексе, в особенности на однополом. Даже закралось подозрение, уж не лесбиянка ли она, раз так и не вышла замуж. А что, если после стольких лет знакомства она собралась раскрыться, поведать о себе правду и прощупывает возможную реакцию? Обидно, если Анна могла, пусть из страха, утаить от меня столь немаловажную деталь.
– Помнится, ты рассказывала, что в Ричмонд тебя занесло по любви. – Теперь моя очередь докапываться. – Тот человек оказался пустой тратой времени. Так почему же ты не вернулась в Германию? Зачем осталась здесь, Анна?
– Я училась в Венском медицинском колледже, я австрийка, а не немка, – говорит она. – Я выросла в замке, по-нашему это называется «шлосс», который принадлежал моей семье сотни лет. Мы жили неподалеку от Линца на Дунае и во время войны принимали в своем доме нацистов. Мать, отец, две старшие сестры и младший братишка. Из окон мы видели дым, поднимавшийся от крематория, который располагался милях в десяти от нас, в Маутхаузене, печально известном концлагере. Заключенных заставляли работать на каменоломне и поднимать огромные глыбы гранита на сотни ступенек вверх. Если кто-то оступался или падал, их избивали, а то и сталкивали в пропасть. Там держали евреев, испанских республиканцев, русских, гомосексуалистов.
Изо дня в день смертные клубы дыма чернили горизонт. Я часто заставала у окна отца; он смотрел и вздыхал, думая, что никто его не видит. Чувствовалось, что ему больно и стыдно. Предпринять он все равно ничего не мог, куда легче было делать вид, что ничего не происходит. Так поступали большинство австрийцев: мы изображали, будто не видим, что творится в нашей маленькой прекрасной стране. Отец был влиятельным богатым человеком, однако выступить против нацистов означало оказаться в лагере или быть расстрелянным на месте. До сих пор слышу смех и звон бокалов в нашем доме: мы принимали этих чудовищ как лучших друзей. Один из пьяной компании начал приходить по ночам ко мне в спальню. Мне тогда было семнадцать. Это продолжалось два года. Отцу я не рассказывала – он все равно был не в силах ничего изменить. К тому же, подозреваю, он и сам прекрасно знал о происходящем. Да, я больше чем уверена... После войны я закончила образование и повстречалась с американцем, который учился в Вене музыке. Он был замечательным скрипачом, неотразимым остроумным человеком, и я поехала с ним в Штаты. Главным образом потому, что не считала возможным оставаться в Австрии. Я больше не могла жить с осознанием того, что моя семья шла против веления совести. И даже теперь, когда я вижу сельский пейзаж моей родины, в глазах стоит тот страшный черный дым.
В гостиной стало прохладно, рассыпавшиеся угольки с красными тлеющими точками похожи на дюжину беспорядочно разбросанных глазок, мерцающих в темноте.
– А куда делся американский скрипач? – спрашиваю я.
– Наверное, вмешалась горькая правда жизни. – В ее голосе сквозит грусть. – Одно дело влюбиться в молоденькую австрийку-психиатра в одном из красивейших и романтичных городов мира. Совсем другое – привезти ее в Виргинию, в бывшую столицу Конфедерации, где люди до сих пор вешают у себя на домах стяги южан. Сначала я устроилась в ординатуру при Виргинском медколледже, а Джеймс несколько лет играл в Ричмондском симфоническом оркестре. Потом он переехал в Вашингтон, и мы расстались. Я благодарна судьбе, что до свадьбы так и не дошло. По крайней мере обошлось без осложнений – детей у нас не было.
– А твои родные? – спрашиваю я.
– Сестер нет в живых. В Вене у меня остался брат. Он, как и отец, занимается банковским делом. Пора бы ложиться, – говорит Анна.
Забираюсь под одеяло, ежась от холода. Подтягиваю к себе коленки и подкладываю под больную руку подушку. После разговора с Анной я сама не своя, точно старые раны разбередила. Части моей души, которые давно ушли в небытие, отзываются фантомной болью, из-за рассказа о делах давно минувших на сердце добавилось тяжести. Конечно, такие факты из прошлого Анна не станет рассказывать первому встречному. Быть пособником нацистов – страшное клеймо даже в наше время. Теперь ее привилегированный образ жизни и манера держаться видятся совершенно под другим углом. Пусть у Анны не было возможности решать, кому гостить в их семейном особняке, а кому – нет, как и решать, с кем семнадцатилетней девушке ложиться в постель, от чужих прощения ей все равно не будет.
– Боже мой, – бормочу я, лежа в гостевой комнате и глядя в темный потолок. – Боже ты мой.
Поднимаюсь с кровати и, снова минуя гостиную, направляюсь по темному коридору в восточное крыло здания. Комната хозяйки расположена в самом конце, дверь приоткрыта, из окна просачивается слабый лучик лунного света, мягко очерчивая фигуру под одеялом.
– Анна? – тихонько зову я. – Ты не спишь?
Она шевелится, затем усаживается на кровати. Подхожу ближе, едва различая ее лицо. По плечам рассыпались седые волосы. Она выглядит лет на сто.
– Все в порядке? – спрашивает Анна заспанным, чуть встревоженным голосом.
– Прости, – говорю я, – ты не представляешь, как мне жаль. Я никудышная подруга.
– Ты – моя самая надежная подруга. – Она тянется за моей рукой и пожимает ее, и я чувствую под тонкой кожей хрупкие кости, будто Анна вмиг стала древней слабенькой старухой, а не титаном, каким я ее всегда представляла. Наверное, это потому, что теперь я знаю ее тайну.
– Ты столько выстрадала, носила в себе столькие годы, – шепчу я. – Прости, что меня вовремя не оказалось рядом. Прости, – повторяю я. Склоняюсь к ней и неуклюже, из-за гипса, обнимаю, а потом целую в щеку.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































