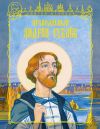Текст книги "Андрей Рублев"
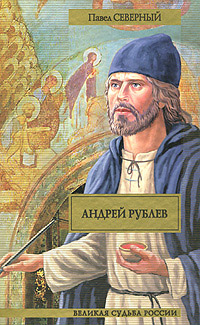
Автор книги: Павел Северный
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава вторая
1Хмурое летнее утро. Да и время раннее. В церквах Москвы допевают заутреню. Ветерок с прохладой шевелит листву на деревьях, шершавит гладь реки Москвы, сгруживая к берегам куделю тумана.
По берегу едет великий князь Дмитрий в сопровождении конников. Из Кремля выехал Боровицкими воротами, направившись в сторону кузнечной стороны. Под Дмитрием угорьский[3]3
Угорьский (угорский) – происходящий из Венгрии, венгерский.
[Закрыть] конь гнедой масти. Следом за князем кметы в полной воинской справе. Их шестеро. Кони под ними одной масти, вороные. Они дробно колотят копытами мокрую землю, злятся на седоков, не дающих им воли для бега.
Дмитрий задумчив, оттого и кметы молчат, только покашливают. Одет князь в кафтан и порты, скроенные дельным мастером из синего фряжского сукна, на плечах алое корзно княжеского достоинства. На голове Дмитрия шапка с мехом голубой лисицы. Подарок Мамая. Сшита княжеская шапка татарками, в знак того, что Мамай князя Дмитрия выделяет из всех подвластных Орде удельных князей. На прогулки по Москве Дмитрий чаще всего надевает эту шапку, чтобы соглядатаи Мамаевы да удельных недругов меньше брякали языками о Дмитриевой строптивости, не судачили о его неуважении к ханской власти. Хотя хан и понимает, что московский князь не очень услужлив, но сам Дмитрий все же соблюдает видимость своей покорности перед Золотой Ордой.
Умыл дождь Москву.
Дмитрий слышал, как он начался на рассвете. Окна в опочивальне были распахнуты настежь. Дождь в Кремле поднял на крыло голубей и галок, а от их галдежа Дмитрий проснулся. Встав с постели, он прикрыл створы окон, чтобы раньше времени не проснулась княгиня Евдокия Дмитриевна, хотя знал, что у нее под утро на удивление крепкий сон. Дмитрий всякий день вставал рано, но всегда ему не хотелось покидать постель с живым теплом жениного тела. И сейчас, прежде чем покинуть опочивальню, он, улыбаясь, оглядел спящую жену. Лежит она, вольготно раскинув руки, будто начинает лихой бабий пляс.
Миновав сени, князь вошел в покой, где уже ждали заспанные отроки. Наказал одному сбегать на конюшню, чтобы оседлали коня. Отроки знали, что для князя нет большей охоты, как быть на воле в дождливую погоду. Но утро по-прежнему хмурится, а лицо Дмитрия оживляет улыбка. Радует его умытая дождем Москва, радует князя, что жизнь стольного города с каждым годом набирает буйство. Москва умеет все подчинять своим обычаям и своим порядкам. Оттого к ней и протоптаны тропы, наезжены дороги со всех уделов, со всех других городов, которые в государстве нужны людям не меньше, чем Москва. В каждом из них ритм народного сердца и разума Великой Руси. Богатеет Москва, расползаясь слободами и посадами, как перекисшее тесто из квашни. Улицы становятся шире, но все-таки в иных в зимнюю пору из-за узости обстукаешь отводами саней избы и полисадники, а пожарам в них просто раздолье: запаливай все подряд.
Дмитрий любит Москву с той поры, как стал понимать, что на солнышке так же тепло, как на по-доброму истопленной печи. У родителя мальцом был любимцем. Слышал, как мать ревниво выговаривала отцу, что лишает ее сыновьей ласки. В Москве при родителе все шесть лет было тихо. В княжеских хоромах люди не толпились. Отец любил во всем покой, потому с татарами не задирался, вовремя откупаясь положенной данью. В часы досуга слушал пение желтых пташек, привозимых из теплых стран. Дмитрий благодарен отцу, что, несмотря на слезы матери, на седьмом году посадил его в стремя. С девяти лет княжит. Мальчиком, согнав с лица румянец, взял повод власти над Москвой, после робкого родителя унаследовав ее стол со всей суматошностью, с боярской, купеческой и поповской спесивостью.
Но в тот же час, выполняя завет усопшего отца, рядом с великим князем-мальчиком встал суровый его пестун и охранитель митрополит Алексий. Он растил в князе характер не по книжной мудрости, а настойчиво твердил, что Дмитрию надо готовиться к тому, что смирять уделы ему придется чаще всего не словами, а мечом, обучал крепче держать булатный меч в споре за Русь с татарами и со всякими удельными князьями. Любой из них Дмитрию – недруг. Всякому удельному правителю лестно вместо Дмитрия возле себя собирать единство Руси и богатеть уделом, возвеличиваясь над Москвой.
Несмотря на юность, Дмитрий наставления запоминал, и все на Руси выходило по пророчеству митрополита. Сколько походов и битв минуло, и большая их часть – с удельными склочниками. Почитай, за четырнадцать лет владения Москвой всю Русь в седле обскакал. Побывал, усмиряя мечом, в Переяславле, Владимире, Галиче, Новгороде, Рязани, в Нижнем Новгороде, в Твери. Их князья стали сговорчивыми и покорными только после пролитой крови. Одни начинали слушаться Дмитриева слова, а иные, присмирев, все же держали камень за пазухой, скашивая взгляды то в сторону Литвы, то на татар, надеясь с их помощью скинуть Дмитрия с московского стола.
Дольше всех и злее ерепенился обильно обрызганный кровью князь Дмитрий Суздальский. Преклонил колена перед Москвой, когда выторговал себе за послушность княжение в Нижнем Новгороде. Совсем присмирел, когда отдал московскому князю в жены дочь Евдокию в знак полной покорности, но Дмитрию мнилось, что сделал это из-за старости, ссадившей тестя с коня. Знал Дмитрий, что и в суздальском споре приложил руку митрополит Алексий. Он высватал Дмитрию жену. Князю было семнадцать, когда повенчался с Евдокией в Коломне. Счастлив Дмитрий, что досталась ему завидная жена не только по прелести женского облика, а по характеру под стать ему, стойкая в мыслях, справедливая и ласковая. Трех сыновей родила, и только бы хватило ума у отца с матерью их вырастить, посеяв в разумах стремление к главенству Москвы во всей Руси.
Покой у Дмитрия в семье, но нет покоя во всем государстве. Да и как быть покою, когда татары в страхе держат: чуть замучается дурью хан – начинают творить набеги. А от набегов – кровь, слезы, пепелища. Литва к добру Руси руки тянет. Новгород задирает нос, хотя и из него кровь текла. Кроме того, моровые язвы про Русь не забывают. Заносят их ветры, а может быть, и люди с черными, гнилыми душами. При княжении Дмитрия больше четырех лет моровая язва калечила смертью. Хворость нападала разом, как ястреб на голубя, била ножом в сердце – но долго не мучила, смерть наступала скоро.
Но даже и та моровая беда не останавливала удельных князей и бояр от вражды между собой. Чаще всего из-за земельных угодий, то из-за сословных обид, а главное, из-за злобной зависти. Иной раз молотились из-за сущих пустяков: из-за голосистых диаконов, изза бабьих сплетен.
Десять лет ушло у Дмитрия на уговоры и на драки с князьями, чтобы поверили ему, что сила Руси в единстве всех уделов с Москвой. Все же теперь будто стали понимать. Искренне понявшие пользу Дмитриева слова сами супротивники приходили мириться из-за старых споров, по-доброму сговаривались о дружбе без всяких для себя выгод. Это понемногу освобождало Дмитрия от оглядов по сторонам, позволяло пристальней смотреть на восток, на запад, на Литву, где после смерти старого Ольгерда его сыновья дерутся из-за власти.
В Золотой Орде неспокойно. Дмитрию от этого радостно. Пока враги теребят друг друга, он крепит спаянность и единодушие среди князей. От этого уже есть прибыток. Князья поняли, что стоять им за спиной Москвы сподручнее и безопаснее, чем с глазу на глаз с Половецким полем. Теперь Дмитрий почти уверился, что нагрянь какое нашествие по прихоти хана, у него под рукой будет не малое войско удельных князей.
Один Рязанский удел не смиряется. Князь Олег,[4]4
Князь Олег, одержимый завистью… – Олег Иванович (?–1402) – с 1350 г. великий князь рязанский. Успешно противостоял не только Литве и вторгавшимся в рязанские земли татарам, но и политике подчинения русских земель Москве. В Куликовской битве Олег не участвовал, хотя имел с Мамаем и великим литовским князем Ягайлой договор о совместных действиях против Москвы. К концу своей жизни Олег стал своего рода символом, объединявшим русских князей и бояр, недовольных московским князем. Незадолго до смерти он принял иночество и, находясь в Солотчинском монастыре, до своих последних дней носил под власяницей кольчугу, что может свидетельствовать о том, что князь опасался за свою жизнь.
[Закрыть] одержимый завистью, скалит зубы на Москву, надеется дружбой и угождением хану получить ярлык на княжение в Москве. Но волчья злоба рязанца Дмитрия не страшит, потому если даже и укусит, то не больней крысы.
Страшны Дмитрию татары. Дмитрий дважды любовался ханом в Сарае, когда возил подарки, договариваясь о дани. Это дало возможность покорить болгар, а в прошлом году Казань привести к покорности. Ныне еще не отослал обговоренной дани, и Орда, конечно, ее ждет. Дмитрий верит словам игумена Сергия Радонежского, что Господь благословил для Великой Руси светлое время для вызволения от порабощения кочевниками.
Потому Москва при Дмитрии опоясала Кремль поясом каменной стены, а ее огнем не спалишь.
Строится Москва после пожара по-новому. Не старается ставить новые срубы по старому, сгоревшему обличию. Дмитрий задумал и в Кремле обновлять строительство. Будет еще размашистей украшаться Москва всякими хоромами, теремами и избами. Дмитрий без устали любуется Москвой из Кремля. А сейчас то и дело переводит взгляд на Заречье. Не может оторвать глаз от пестроты и всякой росписи на причудливых строениях.
Смотрит Дмитрий на деревянные чудеса Заречья, и обручем сжимает его разум мысль, что весь город, как Кремль, надо строить из камня. Одиннадцать лет ставили каменную стену Кремля, но на ней по сей день все еще не все дубовые стрельницы заменены каменными. И не напрасно, глядя на них, ворчит воевода князь Боброк, не отставая от митрополита Алексия. Дмитрий уже задумал, что Москва обязательно станет строиться в камне, но сейчас пока до этого недосуг. Сейчас главная забота об опояске всей Руси поясом с булатным мечом да на всю ее грудь отковать кольчугу.
2В Кремле в думном покое владычных палат лучи зарева прожгли чешую слюды в стрельчатых окнах, вонзившись в столешницу длинного дубового стола, укрытого багряным аксамитом. Там, где на материю упали солнечные пятна, ее пушистый ворс стал похож на каленые угли.
Покой узкий. Бревенчатые стены расписаны изречениями из Евангелия, и путаются золотые буквы в листве и цветах, коих на Божьем свете нигде нельзя увидеть – они плод фантазии вдохновенного изографа.
По обеим сторонам стола – широкие лавки. Придвинуто к столу кресло с высокой спинкой, увенчанной крестом.
В покое сумрачно. Пахнет ладаном и нагаром масла из лампад перед образами в переднем углу. Выделяется среди них большая икона Ильи-пророка, громовержца, подателя земле дождя, заступника и избавителя от пожара.
Икона писана новгородским живописцем. Лик и тулово пророка по пояс на пламенно красном фоне. Писано красками на яичном белке без золота. Волевое лицо пророка решительно и холодно. Но, по слову Церкви, он милостив к тем, кто истово молит его о помощи от всего сердца. Живописец придал лицу и глазам резкое, пронзительное выражение.
На столе оловянные свечники с толстыми восковыми свечами. В трех углах покоя дубовые кади с водой на случай пожара. Возле стен окованные медью сундуки с тяжелыми навесными замками, в которых хранятся «проклятые грамоты», написанные знатными боярами, призывающими на себя Божье проклятие, если не сдержат они того или иного обещания, данного князю, Церкви и друг другу.
В кресле у стола сидит митрополит Алексий. В покое душно, а на плечах старца накидка из меха зимней белки, подбитая черным аксамитом. Перед сидящим раскрытое Евангелие в серебряном под позолотой окладе со вставками из драгоценных каменьев. Придвинут к нему свечник с горящей, сильно оплывшей свечой. Склонившись над книгой, митрополит, прищурившись, осторожно перелистывает страницы, пробегая по строчкам со стройными буквицами. Поля у страниц широкие и украшены узорами, будто кружевами. Переплетаются в узорах две краски: голубая и бледно-алая. Евангелие – вклад в Чудов монастырь богатого московского купца, отдавшего в монастырь одного из сыновей.
Митрополит доволен книгой. Знает, что для написания ее чернецу-грамотею понадобилось девять месяцев усидчивого труда.
Открылась в покое створа низкой, узкой двери. Вошел, пригнувшись, дородный монах, а митрополит, услышав его сопение, спросил, подняв голову:
– Кого прислал Господь? Кажись, ты, Иосаф?
– Гонец со свитком от тарусского епископа, – сообщил монах.
– Подай.
Митрополит протянул руку, в которую монах, поцеловав ее, вложил свиток с восковой печатью на шнурке. Старец, не взглянув на свиток, положил его на стол.
– Еще что скажешь?
– Скажу, что того молодца привезли, за коим, по твоей воле, конскую справу посылали.
– Какого молодца?
– Монастырского служку, людям ведомого Андрея из родительского рода Рублевых.
– Где же привезенный? – спросил митрополит, откинувшись к спинке кресла.
– В ожидальне.
– Веди сюда.
Выполняя приказание, монах с непривычной проворностью для своего дородного тела проскользнул в дверь, а через минуту вошел вновь. Следом за ним появился Андрей Рублев.
Войдя в покой, Андрей тотчас опустился на колени и земно поклонился сидящему митрополиту. Старец оглядел склоненного в поклоне. На Андрее черный подрясник, широкий и не по росту длинный.
– Встань!
Митрополит остановил взгляд на Андрее, заметил, что в глазах юноши нет привычной робости, которая всегда появляется у людей любых званий при встрече с главой Православной церкви. Старец видел перед собой скромного молодца, серые глаза которого переполнены удивлением и любопытством. Прочертив в воздухе крест, митрополит благословил Андрея, но для поцелуя к руке не допустил, спокойно сказал:
– Вели, отче Иосаф, принести образ Спаса.
Монах, получив приказание, исчез из покоя и через миг уже протиснулся в дверь, держа в руках большой образ, завернутый в парчу. Положив его на стол, Иосаф удалился, кланяясь.
Митрополит не торопясь развернул парчу, сказал Андрею:
– Погляди.
Андрей, перекрестившись, наклонился над иконой и, рассматривая ее, сокрушенно качал головой.
– Чему дивишься? – спросил митрополит.
– Дивлюсь, что опалилась краска на образе. Видать, близехонько к иконе лампаду приладили.
– Опалилась, говоришь?
– Истинно так.
– Может, только прикоптилась?
– Обожглась, да в таком месте, под самым оком.
– Разумеешь, кем писана?
– Из Царьграда образ. Не наше рукотворение.
Андрей снова наклонился над иконой, а митрополит перенес к ней свечник с горящей свечой.
– Снять бы надобно оклад.
– Стало быть, коснешься хворого места на лике Спаса?
Андрей от вопроса вздрогнул, смотря на старца, ответил:
– От скорого слова уволь, святитель. Погляда мало, надобно время, чтобы распознать творение.
– Вижу, боязно тебе?
– Робость моя в эдаком деле не помеха, а польза. Чай, не ноне писана.
– Византийская древность.
– Чую.
Андрей, низко склонившись над иконой, дотронулся рукой до пятна на лике.
– Темно тута. Поутру дозволь вынести на волю, чтобы при солнышке поглядеть.
Митрополит в знак согласия кивнул. Андрей завернул икону в парчу.
– Решишь исправить мою докуку, краски любые дам, – сказал митрополит.
– Со мной краски-то. Наставник в обители, отец Паисий, будто в воду глядел, когда приказал всю живописную справу с собой прихватить.
– Ну так что, осмелишься?
– Дозволь подумать. Скорое слово даже в песне не к месту, а тут – святой образ Спасителя!
– Может, послать тебе в помощь моих изографов?
– Обойдусь.
– Иной раз и в чужом совете зерно пользы.
– Обойдусь.
– Что ж, ступай!
Андрей вышел из покоя.
Митрополит, смотря на мерцающие перед образами лампады, размашисто перекрестился, спросил себя вслух:
– Неужли не убоится? Иосаф, слыхал, как речь ведет?
– Зело молод.
– Разумей, что разум и у младенцев водится. Господню искру в нем узрел игумен Сергий.
– Оно так. Только зело молод.
– Затвердил. Поутру обрядите его в мирское. Не инок. Оболоките во все новое. А то глядеть чудно.
– Как велишь, так и будет.
Гневный огненный закат уже давно погас, а в сумраке покоя от огоньков лампад бликовали краски на иконах…
3По слову митрополита Андрея Рублева определили на постой в Симонов монастырь, в келью книгописца отца Елисея, монаха, не старого годами, пришедшего в обитель из мира и по рождению бывшего боярским сыном.
По утрам, отстояв в монастыре раннюю обедню, Андрей приходил на владычный двор и, потрапезничав, шел в свечной покой и принимался за работу над поновлением иконы.
После снятия с иконы откованного из серебра оклада Андрей, оглядев ее, убедился в ветхости доски, на которой был написан лик Христа. После этого осмотра Андрея охватило волнение, напрягая память, он старался вспомнить все, что знал о законах древнего иконописания. Не в силах перебороть страх и сомнения Андрей после тревожных, бессонных ночей только на третье утро велел сказать митрополиту о своем согласии прикоснуться к древнему образу.
Получив благословение митрополита, Андрей два дня с трепетом стирал опаленную краску песком, прокипяченным в молоке. Очистив поврежденную краску до левкаса, Андрей похолодел: от старости, а может быть, от ожога на левкасе во все стороны расползались паутинистые нити трещинок, из-за которых краска, того и гляди, могла начать крошиться.
Растерявшись от неожиданного открытия, Андрей искренне пожалел, что отказался от предложения митрополита воспользоваться советами изографов. Исправить дело и отказаться от необдуманного решения теперь было невозможно, не заставив митрополита усомниться в умении Андрея выполнить поновление образа.
Раздумывая над тем, как поступить, Андрей только на шестое утро, стоя на ранней обедне, наконец-таки принял смелое и, по его мнению, необходимое решение – очистить на иконе всю левую часть лика Христа.
Придя на владычный двор, Андрей уединился в свечном покое и заперся на засов.
Византийская икона лежала на широком дубовом столе. Сняв оксамитовое покрывало, юноша склонился над ней. Решение было принято, но Андрей все еще никак не мог приступить к его осуществлению.
Неожиданно в запертую дверь кто-то настойчиво постучал. Андрей вздрогнул, подойдя к двери, отдернул засов и, оторопев, увидел перед собой митрополита. Старец, заметив испуг Андрея, положил руку на его плечо:
– Пришел взглянуть на содеянное.
Они вместе подошли к столу. Митрополит, оглядев икону, спросил:
– Изъял пятно?
– Надобно всю ошую[5]5
Ошую – левая сторона (одесную – правая).
[Закрыть] сторону лика удалить. В левкасе изъян. Мыслю, от долгого перегрева.
Говоря это, Андрей не отводил взгляда от лица митрополита, на лбу которого после сказанного прочертились резкие морщины, а брови над сощуренными до щелок глазами изогнулись. Андрея била дрожь. Он, кажется, больше всего боялся того, что владыка не дозволит выполнить задуманное.
Митрополит спокойно спросил:
– Может быть, изъян в левкасе от ветхости?
– От нагрева трещинки на нем заводятся.
– А ежели они подо всем ликом?
Андрей на вопрос не ответил, так как не мог пошевелить пересохшим языком. Митрополит смотрел на икону, пытаясь не выдать волнения. Сокрушенно вздохнув, он, выпрямившись, благословил Андрея и пошел к двери, но, открыв ее, остановился и тихо, но твердо сказал:
– Блюди веру в себе. Господь поможет.
Митрополит вышел, но дверь за собой не закрыл.
Лицо Андрея покрылось крупными бусинами пота, он не мог отвести глаз от дверного проема, все еще ожидая услышать голос митрополита…
4Жизнь кое-что уже не скрывала от Андрея. Он знал про тоску, про одиночество. Знал, что люди живут больше кривдой, чем правдой, и чаще всего по разным причинам затаивают друг против друга злобность и ненависть. Знал Андрей и про то, что при встречах его с бессонницей ночные минуты текут так же медленно, как из сот капли густого меда.
В эту ночь темноту в келье отца Елисея спугивают две горящие восковые свечи на столе и огонек в лампадке перед иконой.
За столом, склонившись над листом пергамента, Елисей уже которую ночь старательно исписывает страницы деяний апостолов. Пишет без устали по наказу игумена Симонова монастыря. Андрею с лежанки хорошо виден очерченный светом силуэт монаха. В тишине кельи порой слышит его хриплое дыхание! У монаха хворь в груди.
Андрей повстречал бессонницу. Она перед ним всегда, как видение. Облик ее он запомнил в то утро, когда его с матерью угоняли в полон и злая половчанка больно хлестала его плетью за то, что он не переставая голосил. Половчанка в шелковом зеленом халате, как змея, извивалась перед ним. Запомнилась эта половчанка, стала для него обликом бессонницы, вся зеленая, а на загорелом лице синие глаза, лучистость которых и отгоняет от Андрея сон.
Не может Андрей в эту ночь прогнать бессонницу. Лег рано, но не заснул от тревожной радости, что окончил поновление иконы.
Древняя византийская краска, стертая с левой половины лика Христа, вновь ожила под его кистью и срослась с нетронутой правой половиной, как будто никогда и не была стерта. Однако после окончания этой работы у Андрея родилась первая тайна его. Она и не давала заснуть, заставляла мучительно искать решение, как ему поступить: оставить ли тайну только в своей памяти или, расставшись с ней, сказать о ней митрополиту. Но как поведать о ней князю Церкви, о суровости коего он успел наслышаться?
Перед владыкой сам великий князь Дмитрий дышит вполгруди, и вдруг он, Андрей, скажет о таком, о чем даже грешно думать. Что сотворит с ним митрополит, узнав его тайну, и в порубе какого глухого монастыря заставит до седых волос отмаливать греховность?
Тайна у Андрея завелась оттого, что по-новому написал глаза Христа. Не захотел верить византийскому изографу, что у Спасителя во взгляде только холодная исступленность. У Андрея иное разумение о Христе – вот он и осмелился осветить его взгляд лучистостью душевного тепла, схожего с теплом людских взглядов. Теперь на поновленной иконе глаза Нерукотворного Спаса под прозрачностью лака излучают византийскую строгость, но согретую живым теплом, и влилось оно в них с кисти, которую держала рука Андрея. Это тепло, это одухотворение все больше внедрялось в живописание икон на Великой Руси.
Андрей показал поновленную икону отцу Елисею. Монах смотрел на нее долго, а Андрей встревоженно наблюдал за лицом Елисея, за тем, как нависшие над его глазами кустистые брови стали вздрагивать от волнения. Елисей шепотом высказал самую великую похвалу Андреевой смелости. Сказал он шепотом, а Андрей услышал, будто говорил монах полным голосом, и запомнил каждое слово:
– Чую, Господь допустил тебя к правде глаз Спасителя. Очи Сына Человеческого будто вопрошают о совести у всякого, кто зрит икону.
Обрадованный Андрей низко поклонился Елисею, уже хотел сказать ему о своей тайне, но, укротив пылкую искренность, смолчал. Переполненный радостью Андрей дотемна бродил по Москве. Ночью не мог спать. Слушал стукоток сердца, напоминавшего о медленном ходе ночного времени, уверявшего, что у него в жизни будет много разных тайн, о которых он научится молчать.
Елисей, закашлявшись, оторвался от письма. Пересилив удушие, сощурив глаза, обернулся, смотря в темноту, в которой на лавке лежал Андрей, и спросил:
– Чую, не спишь?
– Разум не стынет покоем.
– Не разум тому виной. Душевная боль в тебе гнездо вьет. Видать, занозил память поглядом.
– Каким поглядом?
– На цветок цветом в бирюзу, его в миру зовут незабудным.
– Да когда я его повидал?
– Память о том поспрошай. Ей ведомо, когда увидал бирюзовый цвет в глазах молодицы. Стерегись памяти, потому велика ее сила над разумом. А главное – помни, что душевная боль – самый хмельной мед в мирской жизни.
Елисей вздохнул:
– Меня душевная боль на колени поставила. Она же меня и в монашество привела.
– С чего завелась твоя душевная боль? Прости Христа ради за мое любопытство.
– Бог простит! Молодость любопытна. Но ежели спросил, то слушай. Услыхав, позабудь.
Монах, обернувшись к иконе, освещенной лампадой, долго молчал и, не оборачиваясь, громко сказал:
– Очи Христа, тобой написанные на древнем образе, спросили в сей день мою совесть, отрешился ли памятью от всего, покинутого в мирском бытие. Совесть моя созналась, что водятся еще в памяти и в душе следы о земной любви к той, кою татары сгубили.
– Убили?
Монах, помолчав немного, ответил:
– Сама сотворила Анюта себе кончину, не дозволив насильникам опоганить свою непорочность. Клятву дал я не дружить памятью со всем тем, что оставил перед порогом кельи. Ты былое привел ко мне в келью. Напомнил о пережитом в миру счастье, отнятом страшной бедой.
При зрачках свечей Андрей приметил на глазах монаха блеск слез и, не говоря ни слова, повинуясь его безмолвной просьбе, ушел из кельи.
Андрей, осиливая волнение, смотрел на небо с притухающими звездами. Занималась заря. Приближалось утро. Митрополит увидит поновленную икону. Каково бы ни было его решение, тайну о написанных глазах Андрей сохранит.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?