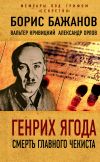Читать книгу "Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование"
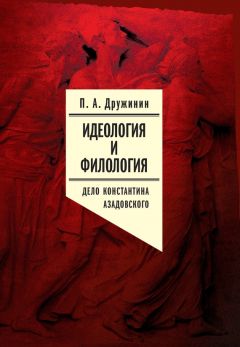
Автор книги: Петр Дружинин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
16 марта 1981 года
День суда для заключенных, которых конвоируют из СИЗО, всегда был (и кажется до сих пор остается) крайне трудным. Красочное описание процедуры сборов в суд можно почерпнуть из записок Альфреда Мирека (1922–2009), который проделал этот путь в 1985 году:
Ежедневно утром, кроме субботы и воскресенья, с четырех часов до пяти хлопают кормушки: дежурный произносит фамилию – остальное говорит тот, кого должны сегодня вызвать в суд. День вызова в суд сообщается заранее, и обычно к нему начинают готовиться с вечера, обдумывая: чей возьмет матрац, какую миску и кружку…
В районный суд, где дело оканчивается обычно одним заседанием, забирают все – и казенные, и свои вещи. В городском суде заседание не одно, и можно брать с собой только необходимые для суда документы, остальное остается в камере.
Наступило время и моих поездок. Процедура эта долгая и довольно изматывающая: ранний подъем и вывод из камеры, ожидание, пока вызовут и соберут всех; очередь в «обезьяннике», где сдают матрацы и прочие казенные вещи. И, наконец, «собачник» – одна из камер, в которую собирают отправляющихся в суд…Называют их «собачниками», очевидно, потому, что они мрачные, темные, обычно набиты людьми и в них стоит шум, как в собачьих клетках, в которых животных возят на живодерню.
Приезжает автозак, и конвой забирает группу заключенных для развоза по городу. После прибытия в тот или иной райнарсуд подсудимого конвоируют в специальное небольшое помещение для ожидающих решения своей участи.
Заседание в Куйбышевском райсуде, назначенное на час дня, началось с заметным опозданием. В коридоре теснилось множество людей, и Азадовский, пока его вели в зал заседаний, успел заметить несколько знакомых лиц.
«Встать! Суд идет!» Молодой и уверенный судья Александр Сергеевич Луковников, выпускник юрфака ЛГУ, занимает свое место под гербом РСФСР. Азадовский первым делом подает председательствующему ходатайство о переносе судебного заседания в связи с состоянием здоровья (рассказывает о нанесенном ему по голове ударе дверью). Судья вызывает по телефону доктора из Крестов. Приезжает доктор – тот самый, что несколько дней назад поставил диагноз «сотрясение мозга», измеряет подсудимому давление и письменно свидетельствует, что «гражданин Азадовский практически здоров» и может участвовать в процессе.
Как проходил этот «открытый суд»? Это, конечно, был суд в лучших советских традициях абсолютного бесправия обвиняемого и торжества союза судьи и прокурора, когда адвокату отведена роль статиста, а судьба обвиняемого предрешена заранее.
Желая присутствовать в зале суда, пришло около сорока человек – друзей и знакомых Азадовского. Однако попасть на это заседание удалось не многим. Зал был забит полностью, так что большинство пришедших осталось за дверью. Писательница Нина Катерли, которая тоже пришла на суд, вспоминала впоследствии:
Этот суд я хорошо помню. Точнее, то, что происходило под дверью зала заседаний, куда мне попасть не удалось. Я пришла заранее и была растрогана, увидев в коридоре множество молодых людей. «Студенты. Волнуются. Пришли “поболеть” за своего преподавателя».
Однако перед самым началом заседания «студенты» как по команде поднялись и сгруппировались, загородив дверь. Я подошла к этой двери раньше них и стояла к ней вплотную. Но войти в зал мне не удалось. У «студентов» были крепкие локти, меня притиснули к стене, а чтобы не дергалась, один из них стиснул в руке цепочку кулона, что был у меня на шее, и так потянул, что я чуть не задохнулась. А пока он меня душил, вся команда «студентов» мгновенно заполнила зал. О заседании и приговоре я узнала потом от Якова Гордина, который все-таки проник в зал, предъявив членский билет Союза писателей, которого у меня тогда не было.
Исправим небольшую неточность – это были на самом деле не студенты, а курсанты школы милиции. В результате из друзей подсудимого в зал попали пятеро, да и то чудом: Яков Гордин и Поэль Карп предъявили удостоверения членов Союза писателей СССР, а Генриетта Яновская проявила находчивость:
Воспользовавшись сумятицей, я тоже попробовала рвануть вперед. И вдруг (не знаю, как это случилось, не понимаю, почему?) я крикнула офицеру в дверях, который их пропускал, что я своя, и пролезла у него под рукой. Уселась в зале и стала вокруг себя занимать места – шарфиком, сумочкой, перчатками. Вдруг вижу в дверях близко Каму, подскакиваю к офицеру, опять говорю: «Это свой, это со мной», хватаю его за рукав и с силой втаскиваю в зал. Но всех наших ребят, кроме меня с Камой, в зал так и не пустили, сказали: «Вы не помещаетесь».
Пятой «просочилась» в зал приятельница Азадовского – специалист по истории костюма Алена Спицына. Этими пятерыми, собственно говоря, число сторонников Азадовского на суде и ограничилось.
Такой принцип наполнения зала был испытанным средством и применялся, как правило, в процессах над диссидентами. И это обстоятельство опять-таки добавляло происходящему «политическую» окраску.
Итак, оглашаются участники процесса. Помимо судьи Луковникова, заседатели – Иванов И.П. и Запорожец Г.Р. Государственное обвинение представляет прокурор В.А. Позен – тот же, который прокурорствовал на суде над Светланой. Адвокат – Розановский С.М. От Мухинского училища – «общественный обвинитель» В.И. Шистко. Обвинение – статья 224-3: незаконное приобретение и хранение наркотических веществ без цели сбыта.
О том, что происходило в тот день в зале суда, долго потом говорили в Ленинграде; об этом сообщали «Хроника текущих событий», «Материалы Самиздата», а также «вражеские голоса». Мы же хотим здесь поместить документ, который ранее не публиковался, но может считаться объективным описанием процесса Азадовского 1981 года. Речь идет о записи, сделанной свидетелем этого действа, известным переводчиком, искусствоведом и публицистом Поэлем Мееровичем Карпом. С Азадовским они познакомились в переводческой секции Союза писателей и, в частности, на почве немецкой поэзии – Поэль Карп был талантливым переводчиком с немецкого; в 1978 году в «Литературных памятниках» вышел его перевод поэмы Гейне «Атта Тролль», а в 1970 году в журнале «Звезда» была напечатана рецензия Азадовского на переведенный Поэлем Карпом с немецкого том стихотворений Йозефа Эйхендорфа.
Пытавшийся что-то фиксировать в блокноте по ходу процесса (ему, высокому и статному, выглядевшему внушительно и солидно, не били по рукам), Поэль Карп вечером того же дня переведет сделанные им пометы в связный текст, убористо перепечатав его затем на машинке. Мы не беремся утверждать, что эта запись лишена неточностей, не пытаемся обсуждать и некоторые оценки автора записи. Однако в ней много деталей, не зафиксированных в других материалах.
Прежде чем дать слово летописцу, два слова про сам этот жанр – «запись судебного процесса». Это ни в коем случае не стенограмма, которую ведет секретарь суда и которая часто не слишком отражает реальность, особенно после судейской редактуры. Речь идет именно о журналистской записи судебного процесса. Начало этому специфическому литературному жанру было положено у нас Фридой Абрамовной Вигдоровой (1915–1965), записавшей в 1964 году суд над Иосифом Бродским. Итак, слово Поэлю Карпу:
Уже с двенадцати в коридоре толпа, – частью знающие подсудимого преимущественно люди лет сорока, частью – молодые люди и девушки, явно из одного коллектива. Понемногу число последних нарастает, и они перетекают ближе к двери. Около двух, когда заседание с опозданием на час начинается, десяток молодых людей, появившись из соседней с залом комнаты, оттесняя публику, занимает передние ряды. Потом они сдвигаются, оставляя толпе лишь узкий проход, пропуская к двери своих и тормозя прочих. Двое стоят в дверях, перекрыв их полностью, девушки проскальзывают между двумя крепкими телами, которые, ощутив прикосновение, раздвигаются. Лишь немногим посторонним удается пройти в зал, вместивший человек сорок. Когда зал заполняется, милиция, спокойно наблюдавшая за происходившим, берет на себя наблюдение за порядком, и он немедленно устанавливается. Милиционеры безупречно вежливы и на просьбу пропустить в зал отвечают: «Мест нет!» или «Там полно!». Между тем, речь идет о сугубо уголовном обвинении: приобретение и хранение пяти граммов наркотического вещества без цели сбыта.
Обвиняемый не признает себя виновным. Он просит отложить суд, поскольку у него сотрясение мозга. 10-го вечером при обыске в камере ему, по его словам сознательно, был нанесен удар железной дверью по голове. 11-го утром тюремный врач установил сотрясение мозга, назначил строгий постельный режим на две недели, – суд происходит 16-го. Обвиняемый просит наказать виновных и передает судье список сокамерников, готовых подтвердить его слова. Объявляется перерыв. После перерыва судья сообщает, что врач, осмотрев обвиняемого, счел, что давать показания он может. Факт избиения не обсуждается и не оспаривается. В конце, огласив приговор, судья сообщит, что суд вынес частное определение. Определение он не только не зачитывает, но даже не укажет, в чей адрес оно вынесено, и лишь это даст основание предположить, что все же в адрес тюрьмы.
Обвиняемый дает отвод общественному обвинителю, проректору Мухинского училища Шистко. Повод: проректор только что, как председатель конкурсной комиссии, голосовал за утверждение обвиняемого заведующим кафедрой на следующее пятилетие и предлагал ему обдумать вопрос о вступлении в Коммунистическую партию, а сегодня приходит в суд с характеристикой порочащей его прежнюю жизнь. По мнению обвиняемого, это беспринципно. Прокурор, однако, указывает, что если и можно тут говорить о беспринципности, то лишь о сугубо личной, а в суде обвинитель выступает от имени общественности, чему личная беспринципность помешать не может. Отвод отклоняется.
Поводом для проведения утром 19 декабря у обвиняемого обыска, завершившегося арестом, было задержание вечером 18-го неподалеку от его дома его сожительницы Лепилиной, у которой при досмотре обнаружили наркотическое вещество. Обвиняемый возражает против слова «сожительница». Признавая, что Лепилина в течение нескольких лет была его фактической женой, хотя она и тогда проживала отдельно – в одном из соседних домов, он заявляет, что с августа близкие отношения прекратились. При этом дружба сохранялась, Лепилина по-прежнему располагала ключами от квартиры и продолжала в ней бывать, часто навещая мать обвиняемого даже в его отсутствие. Обвиняемый также утверждает, что в ходе предварительного следствия неоднократно требовал очной ставки с Лепилиной и сейчас так же настоятельно просит вызвать ее в суд как свидетеля. Суд ходатайство отклоняет.
Итак, обнаружение у Лепилиной наркотика имело, по мнению обвинения и суда, столь прямое отношение к обвиняемому, что правомерно повлекло за собой немедленный обыск у него, а удачные результаты этого обыска, обнаружение наркотика у обвиняемого, не только не повели к естественному рассмотрению дела о наркотиках как общего дела обвиняемого и Лепилиной, но повлекли за собой разделение дел и, более того, вопреки всякой логике выяснения истины даже категорический отказ обвинения и суда вызвать Лепилину хотя бы в качестве свидетеля.
Обвинение основано на том, что при обыске инспектор милиции обнаружил на книжной полке пакетик из фольги с пятью граммами коричневого вещества, признанного экспертизой за анашу. Инспектор был вызван в суд в качестве свидетеля, но не явился, находясь, согласно справке из милиции, в командировке. Суд счел возможным рассматривать дело в его отсутствие, учитывая, что он дал показания в ходе предварительного следствия. По ходу процесса выяснилось, что этот инспектор не числился среди направленных для производства обыска и принял в нем участие по личному приглашению другого инспектора, туда направленного.
Согласно цитировавшимся показаниям инспектора, он, обнаружив на полке пакетик из фольги, перенес его на следующую полку, а затем стол, где его и раскрыли. Обвиняемый подтверждает, что инспектор действительно переставил пакетик из фольги с полки, где он появился сначала, на следующую, а затем на стол. Он лишь подчеркивает, что ему неясно, откуда пакет вообще появился, – ему он не принадлежал, он не открылся, когда убрали стоявшие впереди книг, а возник на чистом месте, хотя обвиняемый и не видел, чтобы инспектор доставал пакет из кармана или из рукава.
Первый свидетель, которого, по его словам, пригласили быть понятым около метро, пообещав показать при обыске редкую фотографию Есенина, утверждает, что инспектор, обнаружив пакет, передвинул его по той же полке, а затем перенес на стол, где выяснилось, что в пакете коричневое вещество. Второй понятой, из квартиры в том же доме, показывает, что увидел пакет уже на столе и что в нем было серое вещество. Этот же свидетель рассказывает, что, прежде чем идти к обвиняемому, милиция и понятые задержались на нижней площадке, а один милиционер поднялся, позвонил в соседнюю квартиру и попросил вышедшую женщину позвонить к обвиняемому и сказать, что ему телеграмма. Когда обвиняемый открыл, милиционеры и понятые поднялись в его квартиру.
В ходе заседания выяснилось также, что обыск был сосредоточен в кабинете обвиняемого, остальная часть квартиры, в том числе аптечка, содержащая наркотики, употребляемые престарелой матерью обвиняемого для облегчения болезней, практически не осматривались. Выяснилось также, что во время обыска в помощь к четырем производившим его сотрудникам был приглашен и прибыл пятый, специально исследовавший бумаги обвиняемого, но не упомянутый в протоколе обыска.
Обвинение предъявило суду написанную в тюрьме записку обвиняемого Лепилиной, находившейся в той же тюрьме. Подлинность записки обвиняемый не отрицал. Согласно записке, обвиняемому стало известно о показаниях Лепилиной на суде над ней, происходившем ранее, в которых она якобы признала, что спрятала пакетик из фольги на четвертой полке в кабинете обвиняемого, и обвиняемый просил держаться в дальнейшем этих показаний. Обвинение, толкуя записку как попытку убедить Лепилину взять на себя вину за хранение наркотика, утверждает, что сама такая попытка является доказательством вины обвиняемого. Но подсудимый мог с одинаковой вероятностью стремиться свалить на другого свою действительную вину и вину, лишь приписанную ему обвинением. Предположив, что подсудимый мог стремиться свалить на другого только свою действительную вину, суд наперед признал как доказанное то, что на самом деле обвинению надлежало доказать. Несколько раздраженный тон записки, хотя и наполненной ласковыми словами, мог бы скорее дать повод подумать, что обвиняемый сам подозревал Лепилину в употреблении наркотиков (ее первый муж умер от отравления наркотиками) [эти слова прокурора были ложью, так как В. Лепилин (1949–1973) умер от пищевого отравления, что подтверждено медицинскими документами. – П.Д.] и теперь в подтексте сам упрекает ее за несчастья, которые по ее вине на него свалились. Но как записку ни толковать, пусть даже предельно невыгодно для морального облика обвиняемого, сама по себе она ни в малейшей степени не подтверждает его вины в хранении наркотика. Она лишь побуждает тщательнее выяснить отношения обвиняемого и Лепилиной по поводу наркотиков и должна бы стать дополнительным стимулом для вызова. Искренняя горячность, с которой судья Александр Сергеевич Луковников, все остальное время пребывавший в состоянии с трудом скрываемой досады, указал обвиняемому на то, что он начинает записку со своих нужд и только потом поздравляет близкую женщину с днем рождения, сама отчасти свидетельствовала, что судья, молодой, но явно неглупый, вполне сознавал отсутствие доказательств, необходимых для обвинительного приговора.
И судья, и прокурор, и общественный обвинитель много говорили о моральном облике подсудимого. Прокурор даже воскликнул: «Что говорить о моральном облике человека, который, дожив до сорока лет, ни разу не был женат!» Общественный обвинитель, отдавая подсудимому должное как ученому и преподавателю, обвинил его в двойной жизни, проявлявшейся в частой смене женщин. Упреки такого рода, не опровергавшиеся обвиняемым, создавали атмосферу обличения, в которой не нужны доказательства конкретной вины. Эту атмосферу нагнетали и многократные ссылки на привлечение подсудимого в 1969 году к делу Славинского, называвшего его в числе употреблявших наркотики, хотя утверждения эти тогда судом не проверялись, поскольку наркомания рассматривается как преступление лишь с 1974 года.
Адвокат принял дело за два дня до заседания. Дело вел известный в городе адвокат по политическим делам Хейфец, выступавший в процессе Марамзина и др., он неожиданно отказался от защиты ввиду занятости в другом процессе. Новый адвокат просил оправдать подсудимого, поскольку его вина не доказана. Оспорив утверждение прокурора, что обвиняемого непременно надо подвергнуть реальному лишению свободы, и указав, что закон предполагает по данной статье и более мягкие наказания, адвокат подчеркнул, что не углубляется в вопрос о возможном наказании потому, что подсудимый невиновен и обвинение построено не на доказательствах, а на предположениях. «Моего подзащитного, – сказал адвокат, – обвиняют в том, что он приобрел у неизвестного лица и хранил наркотическое вещество. Можно допустить, что обвинению не удалось установить, у какого именно лица приобретен наркотик, но на каком основании утверждается, что он приобретен? Я понимаю, что не улучшаю этим положение моего подзащитного, но ведь он мог и сам изготовить наркотик. А раз такое тоже возможно, обвинение, прежде чем что-то утверждать, обязано выяснить, какая из возможностей на деле осуществилась. Оно этого не делает, не считая нужным проверять и доказывать свои утверждения. И так во всем».
Адвокат подробно анализирует характеристику, выданную Мухинским училищем, отмечая, что при таком мнении о подсудимом руководство училища не могло бы накануне ареста рекомендовать его для переизбрания на должность заведующего кафедрой, а, между тем, оно его рекомендовало, и переизбрание его, как и ряда других лиц на аналогичные должности, было задержано лишь в связи с приходом нового ректора, а не по каким-либо другим причинам. Адвокат указал и на прямое искажение фактов, в частности на то, что обвиняемому ставится в вину грубое нарушение дисциплины одним из сотрудников, который как раз был уволен именно по настоянию обвиняемого, что подтверждается материалами гражданского дела по иску этого сотрудника о восстановлении на работе. Тут судья, державшийся достаточно корректно, резко оборвал адвоката: «Я не разрешаю ссылаться на материалы, затребование которых было судом отвергнуто».
В последнем слове обвиняемый повторил, что не считает себя виновным, не берется утверждать, что наркотик был ему подложен милицией, поскольку не видел, как это было сделано, и не может до очной ставки с Лепилиной сказать, что наркотик принадлежал ей. Он, однако, твердо знает, что наркотик и самый пакет из фольги не принадлежали ему, что он не прятал пакет на книжной полке, что он никогда не хранил и не употреблял наркотиков, что и двенадцать лет назад, когда он привлекался по делу Славинского, он не употреблял наркотиков и утверждение прокурора, что, будь закон 1974 года принят до 1969 года, он был бы осужден еще по делу Славинского, неправомерно, поскольку и тогда не было доказано, что он употребляет наркотики. «Возможно, я совершил в своей жизни много ошибок, – сказал обвиняемый, – но я общался со Славинским не ради наркотиков, они мне не были нужны тогда и не нужны теперь. Я не знаю, – сказал он далее, – о чем просить суд, ибо каждое мое слово здесь поворачивают против меня. Но я должен сказать о матери. Дело не в 39 рублях ее пенсии, а в ее 77 годах. Поэтому приговор, который суд вынесет, будет вынесен не мне, а ей».
После двухчасового совещания огласили приговор, соответствующий требованию прокурора: два года в местах заключения общего режима. Судья повторил: «Приговор может быть обжалован в течение семи суток» – и переспросил обвиняемого: «Вам понятно? Семь суток». Приговоренный кивнул, и его увели. Секретарь суда, торопя публику к выходу, внятно произнес: «Концерт окончен!»
Впрочем, были в тот день еще возгласы. Запомнились присутствующим как минимум два. Первый – когда общественный обвинитель В.И. Шистко, представлявший Мухинское училище, с пафосом завершил свою речь восклицанием: «Дайте ему побольше! Я прошу уважаемый суд: дайте ему побольше!»
Второе – когда уже после оглашения приговора Азадовского выводили через толпу, он успел выкрикнуть: «Позаботьтесь о маме!»