Текст книги "Жизнь М. Н. Муравьева (1796–1866). Факты, гипотезы, мифы"
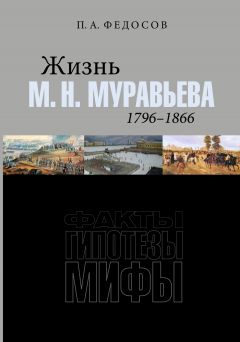
Автор книги: Петр Федосов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
IX. Брат Александр
Проведя медовый месяц в родовом имении Шаховских Белая Колпь, Александр Муравьев поселился с женой в Москве в доме тещи – княгини Елизаветы Сергеевны. Александр был без ума от Параши и своего нового статуса женатого человека. «Я счастлив, – писал он Николаю, – …совершенство в виде жены – что более могу тебе сказать… Порадуйся со мною. <…> Достижение почестей мирских приятно, но никак и ни в чем с супружеством сравниться не может»[180]180
Муравьев А. [Александр] Н. Указ. соч. С. 211.
[Закрыть].
Наряду с супружескими радостями Александр занимался благоустройством Ботово – имения в 9 верстах от Волоколамска, принесенного женой в приданое. В начале 1820-х годов супруги переселились туда на жительство.
Александр погрузился в управление имением. Зная его антикрепостнические убеждения, можно предположить, что, подобно своему современнику и едва ли не ровеснику Евгению Онегину, он пробовал заменить «барщину старинную» «оброком легким», но результаты, видимо, были плачевны. Несколько лет спустя Александр будет с жаром предостерегать свою тещу от эмансипаторских экспериментов. «…[К]рестьяне хотят вас обмануть, обещаясь заплатить оброки, – напишет он ей как-то. – И коль скоро вы уничтожите или убавите запашку, то они опять немедля откажутся от платежа, землю же возьмут себе… <…> Пахотную деревню под Москвою гораздо выгоднее иметь, чем оброчную… <…> Сверх того, ужасная безнравственность, воровство, праздность, пьянство суть удел непросвещенных оброчных деревень»[181]181
Там же. С. 268–269.
[Закрыть]. Мне сдается, что в этих словах чувствуется горечь собственного печального опыта…
Сводить концы с концами из года в год становилось труднее. Отец, получивший большое наследство от своего отчима и охотно тративший деньги на училище колонновожатых, годами не давал старшим сыновьям ни копейки. Переписка братьев полна горьких сетований на эту тему. Безденежье подталкивало к мысли о возвращении на службу, которая могла дать какой-то заработок.
Семейного благополучия тоже не получалось. Супруги жили душа в душу в тесном духовном и нежном супружеском общении, и Бог посылал им детей, но они один за другим умирали в младенчестве. Первенец Михаил, родившийся 15 июня 1819 года за две недели до срока, прожил два с половиной года. Вторая дочь, Александра, – всего 6 часов, сын Николай – 12 дней, еще одна дочь, Елизавета, – год. «Всякое состояние в жизни, как бы оно счастливо и красно ни казалось, сопряжено с великими огорчениями и болезнями и страданиями, для того, чтобы мы не влюблялись в оное и не забывали долга своего перед богом. Вот я имел пятерых детей, теперь осталась у меня одна дочь Сонечка», – грустно и смиренно сообщал Александр брату в августе 1824 года, вскоре после смерти Лизоньки[182]182
Там же. С. 242.
[Закрыть]. (Забегая вперед, сообщим, что еще одна дочка уйдет из жизни в 1832 году на шестом году жизни. Соня умрет от чахотки 23 лет от роду. Из семи детей переживет отца только один сын Иван.)
Несчастные родители искали утешения у Бога. В душе Александра возрождение глубокой православной религиозности, происходившее под влиянием жены, каким-то загадочным образом непротиворечиво сочеталось с активизацией его масонских увлечений. Он настойчиво постигал глубинные основы масонства, регулярно посещал собрания вольных каменщиков и приобретал все более высокие позиции в их сообществе.
Так прошли шесть с половиной лет, в течение которых общение Александра с былыми соратниками по тайному обществу носило исключительно случайный и спорадический характер.
События 14 декабря застали Александра Муравьева в Москве. В первые же дни после начала следствия он был упомянут в качестве одного из основателей «первоначального» тайного общества сначала Сергеем Трубецким, чуть позже Павлом Пестелем. 11 января Александр был арестован, спешно доставлен в Петербург и помещен в Петропавловскую крепость. В ходе следствия А. Муравьев не скрывал своего участия в создании тайного общества. Но он оспаривал, что был единственным его создателем и руководителем, и назвал имена 20 других «сочленов» общества. Среди названных числился и брат Михайла. При этом Александр в пылу раскаяния не очень следил за формулировками, в результате его первичные показания при буквальном прочтении могли быть истолкованы весьма опасным для Михаила образом: Александр сообщал, например: «В продолжение 1817 и до начала 1819 году я в обществе был. <…> Члены тайного общества, бывшие, когда я был членом… [следует перечисление 20 имен, среди которых назван] брат мой родной Михаил Николаевич Муравьев»[183]183
ВД 3. С. 6, 10.
[Закрыть]. Получается, что Михаил был в обществе изначально, а значит, должен был знать о московском заговоре. Александр не мог знать, что этим опрокидывалась вся конструкция защиты Михаила. Непродуманным было и специальное заявление Александра о непричастности Михаила к преступным замыслам: «…брат мой родной, отставной Подполковник Михаил Николаевич Муравьев, всегда удалялся, или с омерзением прекращал всякие преступные разговоры. Он всегда держался прямой писанной цели общества, которая была распространение Просвещения и Добродетели; и когда мне случалось увлечену быть страстью, то он всегда приводил меня к порядку. О сем теперь торжественно объявляю. 17 января 1826 г.»[184]184
Там же. С. 10–11.
[Закрыть]. Значит, Михаил не раз присутствовал при «преступных разговорах», знал о них… Правда, несколькими днями позже, видимо, поняв опрометчивость своих прежних показаний, Александр сообщал, что брат его «Михаил Николаевич Муравьев, Иван Григорьевич Бурцов, Петр и Павел Иванович Колошины и Алексей Васильевич Семенов… ни один из них также не был членом первого общества, названном здесь Союзом Спасения»[185]185
Там же. С. 21–22.
[Закрыть].
Сознался Александр и в участии в роковом собрании в сентябре 1817 года, на котором обсуждался план цареубийства. Эти признания сопровождались выражением искреннего и полного раскаяния с упором на то, что покаяние перед Богом он принес еще в 1819 году, был наказан за свои преступления смертью детей и сестры и с тех пор ничем не усугублял своей вины.
«В уважение полного и искреннего раскаяния» Александр Муравьев, которому, судя по некоторым его письмам, в начале следствия угрожали чуть ли не смертной казнью, был приговорен всего лишь к шести годам каторжных работ с последующим бессрочным поселением. Жена Прасковья Михайловна сразу же отправилась за мужем. Ее сопровождали две сестры – одна из которых, Варвара, была невестой также сосланного декабриста Муханова, а другой – Марфе было суждено спустя много лет стать супругой овдовевшего Александра Николаевича.
Уже в Сибири их нагнала новая царская милость. Каторга отменялась, как и лишение дворянства, званий и чинов. Оставалась только высылка и запрет покидать указанное для проживания место, но и тут суровый Якутск был заменен на более сносный Верхнеудинск. Еще через некоторое время царь вернул А. Н. Муравьеву право поступать на гражданскую государственную службу. В апреле 1828 года он был назначен иркутским городничим.
Невелика честь для 36-летнего человека, который в 23 стал полковником Генерального штаба. Муравьев тяготился незначительностью своей должности. «Начальников имею много, кроме генерал-губернатора и губернатора. Ибо все присутственные места мне повелевают, а я всем по умению повинуюсь. Признаюсь, что нет для гордости лучшего исправителя, нет против нее сильнейшего лекарства, как быть городничим в Иркутске», – писал он с горечью. Однако надежды не терял: «Молю бога, да поможет мне и в сей должности показать свою ревность к службе: беспристрастием, деятельностью и толковатостью [то есть толковостью]». Это из его письма шурину Валентину Шаховскому[186]186
Муравьев А. [Александр] Н. Указ. соч. С. 280.
[Закрыть]. В том же письме он сообщает, что жалованья ему назначено «кажется[,] только шестьсот рублей», и формулирует свое кредо относительно любых левых доходов: «все прочее есть беззаконие, корыстолюбие, лихоимство, воровство, грабеж. Мы, кажется, любезный друг, всегда так разумели, так навсегда и будет, и хотя бы мне пришлось для существования своего продать последнее свое платье, но я с помощью божиею устою в своих правилах вышеозначенных»[187]187
Там же. С. 280–281.
[Закрыть]. Звучит как клятва, которой он останется верен во все последующие 30 лет своей службы.
Устоять было трудно. Кругом чиновники разных рангов «брали» и катались как сыр в масле. Муравьевы же вечно бедствовали, одалживались и по мелочам и по-крупному и все больше увязали в долгах. Взаймы им давали и из искренней симпатии, и из уважения к громкому имени князей Шаховских, но многим кредиторам приходилось потом годами, а то и десятилетиями напоминать Александру Николаевичу о его денежных обязательствах, а ему, стиснув зубы, писать бесконечные обещания уплатить при первой же возможности и пускаться в самые невероятные проекты, чтобы раздобыть денег. Он то строил лесопилки и пилил лес на продажу, то брал в аренду имение Радзивиллов, но, не имея деловой сметки и готовности давать и брать взятки, постоянно оставался в прогаре.
Но мало того, что Муравьев не брал. Он неустанно и непрерывно обличал взяточников, причем делал это независимо от занимаемых ими должностей. Это превращало его в смертельного врага чиновного мира, спаянного годами общей работы и общего лихоимства.
В особенно трудное положение он ставил себя тогда, когда прямо или косвенно обвинял в покровительстве нечистым на руку служакам их начальников, которые, как правило, были начальниками и самого Александра Муравьева.
Во время службы Муравьева в Иркутске пост генерал-губернатора Восточной Сибири занимал А. С. Лавинский – человек опытный, честный и высокообразованный. К тому же он был сводным братом С. С. Ланского, товарища Муравьева по масонской ложе. Александр Степанович покровительствовал Муравьеву. Иркутским гражданским губернатором был честный и добродушный И. Б. Цейдлер, который также был лоялен к нему. Таким образом, в своей борьбе с лихоимством мелких чиновников иркутский городничий мог рассчитывать на поддержку губернского начальства. Оно, в свою очередь, было довольно работой Муравьева на его скромном посту и продвигало его по службе. Довольно скоро он был назначен начальником иркутского губернского правления, то есть стал третьим по значимости должностным лицом губернии.
Осенью 1832 года Муравьев был переведен на ту же должность в Тобольск. Должность губернатора была вакантна, и на Муравьева легли все губернаторские обязанности. Теперь он получал 9 тыс. руб. жалованья и 1,5 тыс. руб. квартирных. К тому же на 3 тыс. верст ближе стала Европейская Россия, куда он стремился всеми своими помыслами. Грела душу и весточка, полученная в то же время от брата. Николай писал, что государь поручил ему сообщить Александру, что доволен его службой. «Я перевел его в Тобольск с тем, чтобы опять его через несколько времени перевесть в Россию», – сказал будто бы император.
Все вроде бы складывалось неплохо, но в Тобольске Александра встретили совсем иные условия, чем те, которые благоприятствовали ему в Иркутске.
Генерал-губернатором Западной Сибири, столицей которой был Тобольск, состоял Иван Александрович Вельяминов – отпрыск древнего боярского рода, генерал от инфантерии, герой войны 1812–1814 годов. Ему был вверен край, простиравшийся от Ледовитого океана до Алтая и от Урала до Енисея – 1/7 часть территории России с более чем миллионным населением. Кроме того, Вельяминов был командиром Отдельного Сибирского корпуса численностью 15 тысяч солдат и офицеров, размещенных в нескольких пунктах от Омска до Семипалатинска. Управлять лично таким огромным хозяйством было невозможно. Приходилось препоручать управление кругу доверенных чиновников. И такой круг сложился из людей, очень далеких от идеалов служения и бескорыстия. Уже через пару месяцев Александр Николаевич убедился в этом прискорбном факте. Но когда он попытался доложить о своих наблюдениях генерал-губернатору, тот встретил его неласково и посоветовал не затевать кляузы, едва прибыв на новое место службы. Реакция ожидаемая: Вельяминов исправлял должность генерал-губернатора с 1827 года, и признать правоту Муравьева означало бы для него расписаться в собственной несостоятельности.
Казалось бы, надо угомониться, выждать, хорошенько обдумать ситуацию. Но осторожность, анализ возможных последствий своих слов и действий были не в характере Александра Муравьева. В сложившихся условиях он находит способ исполнять им самим на себя возложенный долг обличения воров и взяточников, способ, небесспорный в моральном отношении и самоубийственный в отношении карьерном. Александр Николаевич решил сделать своим союзником грозное Третье отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, где одну из высших должностей занимал его родственник – двоюродный брат по матери А. Н. Мордвинов. Ему-то и доносит А. Муравьев о беспорядках в Тобольске. «Мною раскрыты важные беспорядки в счетоводстве денег и душ по здешней казенной палате, – пишет он, например, 3 июня 1833 года. – Если вы меня поддерживать станете, то ручаюсь вам, что я исправлю эту хаотическую Тобольскую губернию»[188]188
Штрайхер С. Кающийся декабрист // Красная новь. 1925. № 10. Нояб. С. 155.
[Закрыть].
По своему статусу Третье отделение имело право вмешиваться везде, где замечалось нарушение закона и угроза безопасности империи, а его начальник, всесильный А. Х. Бенкендорф, не питал ни симпатии, ни иллюзий в отношении русского чиновничества, особенно чиновничества провинциального. «Чиновники. <…> Это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищение, подлоги, превратное толкование законов – вот их ремесло. <…> Они ненавидят тех, кто преследует взяточничество, и бегут их, как сова солнца», – написал он как-то[189]189
Россия под надзором: отчеты Третьего отделения 1827–1869. М.: Рос. Фонд культуры [и др.], С. 23.
[Закрыть]. На это и рассчитывал Муравьев, направляя в Третье отделение свои «сигналы». Результатом стала присылка в Тобольск жандармского полковника Маслова, с которым Муравьев отправил в Петербург обстоятельную записку «О злоупотреблениях и злоупотребителях в Тобольской губернии». Копию этого документа он переслал через брата Николая министру внутренних дел Блудову. Записка была написана почему-то от третьего лица, что еще сильнее придавало ей форму доноса. Может, таким способом Александр Николаевич пытался замаскировать свое авторство?
Наивная уловка. Все письма Муравьева перлюстрировались, и о его «сигналах» тут же становилось известно тем, против кого они были направлены. Сразу были приняты контрмеры. В Петербург полетели жалобы на кляузный характер бывшего заговорщика и просьбы избавить Тобольск от его несносного присутствия. А тут еще Муравьевых поймали на попытке незаконно переслать из Тобольска в Иркутск ссыльному декабристу Муханову письма от Прасковьи Михайловны и ее сестры Варвары Шаховской, невесты Муханова. И хотя обнаружили эти письма не в Тобольске, а в Иркутске, произошло это так «своевременно», что трудно избавиться от ощущения – в Иркутске знали, что и где искать (письма были спрятаны в двойное дно ящика с семенами). Не был ли завербован кто-то из тобольской прислуги Муравьевых?
Как бы то ни было, Муравьев получил письменное замечание от Бенкендорфа, и его убрали из Тобольска: с понижением по службе перевели в Вятку на должность председателя уголовной палаты.
Накануне отъезда в Вятку умирает младшая дочь Муравьевых Лиза. Это пятый ребенок, которого теряет бедная мать. Обостряется ее давнишняя болезнь, безжалостная чахотка. А тут еще долгий и трудный переезд и холодный климат. Муравьев умоляет перевести его из Вятки в какой-нибудь южный город, где жена могла бы получить шанс на выздоровление. Но поздно: в январе 1835 года Прасковьи Михайловны не стало.
А жизнь продолжается. Новое место службы – Таврида, должность та же – председатель уголовной палаты. И та же линия поведения: Александр Николаевич продолжает разоблачать «злоупотребителей». Главной мишенью его разоблачительного рвения оказывается таврический гражданский губернатор А. И. Казначеев, но доставалось и другим чиновникам. Сигналами о злоупотреблениях Муравьев бомбардирует генерал-губернатора Новороссии М. С. Воронцова…
Большинство наших современников узнает о Михаиле Семеновиче Воронцове из эпиграммы Пушкина: «Полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда, полу-подлец, но есть надежда, что будет полным наконец». Здесь «наше все» зло клевещет, вымещая личную обиду. М. С. Воронцов – герой русско-турецких войн начала XIX века, герой 1812 года, командовавший дивизией при Бородине и раненный штыком в рукопашной схватке, командир русского оккупационного корпуса во Франции, генерал-губернатор Новороссии, украсивший пустынный край садами и дворцами, библиофил, покровитель искусств – вряд ли заслуживал такой характеристики.
К 1836 году, когда А. Н. Муравьев прибыл в Симферополь, Воронцов руководил Новороссией уже 14 лет. Половину этого срока под его руководством работал таврический губернатор Казначеев. Понятно, что атаки на Казначеева Воронцов воспринимал как атаки на себя самого. Но на «сигналы» только что прибывшего Муравьева Воронцов поначалу реагировал спокойно и даже доброжелательно. Он советовал Казначееву встретиться с неутомимым обличителем и обсудить его претензии спокойно, в конструктивном духе. Но Александр Николаевич отказывается от встречи. Тогда Воронцов запретил Муравьеву писать ему и рекомендовал обращаться прямо в Петербург к министру юстиции (по ведомственному подчинению уголовной палаты). В одном из писем того периода Воронцов сетовал на «несчастную его [Муравьева] наклонность к подозрению и удалению против таких людей, которые хотя как и все люди, и как он сам, часто могут ошибаться, но в прямом усердии к добру и к пользе службы ему[,] конечно[,] не уступают. <…> [Б]оюсь, что господин Муравьев… в странном уверении, что кроме его в губернии нет ни одного честного человека… все будет продолжать удаляться, доносить и тем более и более портить все дела, которых коснется»[190]190
Из письма графа М. С. Воронцова к С. Д. Нечаеву. Алупка, 31 марта 1836 г. // Из бумаг С. Д. Нечаева: письма к нему Александра и Андрея Николаевичей Муравьевых, графа М. С. Воронцова [и проч.] // Русский архив. 1893. № 5. С. 145–146.
[Закрыть]. Когда спустя некоторое время Воронцова спросили, можно ли назначить Муравьева губернатором (в смысле справится ли он с этой должностью), Михаил Семенович ответил кратко, но емко: «Только не у меня в Новороссии»…
С такой-то вот репутацией человека способного, честного, но неуживчивого и склонного к кляузе А. Н. Муравьев в конце 1837 года получил назначение на должность архангельского гражданского губернатора. Александр уже давно думал об отставке. Он принял назначение потому, что «выгоднее выйти в отставку губернатором, чем председателем (уголовной палаты)», и, наученный горьким опытом, не собирался особенно активничать. «Губерния запущена. Дела делать невозможно, ибо хотят, чтобы все дурное называли прекрасным. А как сего по совести сделать нельзя, то приходится все оставить в текущем порядке или беспорядке. Оно покойнее для всех», – писал он брату. Наивный человек. Он искал покоя, но об оценке работы своего нового начальника, военного губернатора Сулимы, писал открытым текстом: «Губерния запущена». Похоже, он так и не понял, что все его письма тайно прочитываются, так что его оценки всегда могут дойти до оцениваемых.
Он искал покоя, но не тут-то было. Ровнехонько ко времени прибытия Муравьева в Архангельск достиг критической точки конфликт, о котором уже давно было известно в Петербурге. В тысяче верст от Архангельска на границе Большеземельской тундры находилось (и находится сейчас) село Ижма. (В 2010-м это не очень-то известное поселение напомнило о себе удачной аварийной посадкой самолета Ту-154 на взлетно-посадочную полосу давным-давно заброшенного аэродрома.)
В XIX веке население села составляли ижемские коми – особая этническая группа православного исповедания, сложившаяся путем смешения коми (зырян), северных великороссов и лесных ненцев (самоедов). Конфликт возник в 1833 году, когда ижемские крестьяне (1975 душ мужского пола во всей Ижемской волости) наотрез отказались выполнить распоряжение губернского начальства – отправить людей и подводы на строительство новой дороги между Мезенью и Пинегой. Начальство ссылалось на высочайше утвержденное решение о прокладке этого тракта и на закон о привлечении к устройству дорог государственных крестьян, проживающих в уезде, где ведется строительство. Ижемцы как раз и были государственными крестьянами Мезенского уезда. Со своей стороны ижемские мужики упирали на то, что от их деревень до места работ 900 верст, то есть полтора месяца пути, так что отправка туда работников и подвод неизбежно разорит десятки хозяйств, лишит их средств к существованию и возможности уплаты подушной подати и оброка. Ижемцы не просто упирались, они писали прошения в Петербург, отправляя туда грамотных, щедро профинансированных и опытных в таких делах ходоков.
Сегодня непросто понять, кто был в ижемском конфликте прав, а кто виноват. В советские времена такого вопроса не вставало: правы, конечно, были угнетенные, то есть крестьяне. Но ведь крестьяне эти явно хитрили, утверждая, что у них нет средств исполнить законный приказ начальства. Возможно, были правы те, кто докладывал в Петербург, что едва ли 1/3 ижемских крестьян может быть признана достаточно обеспеченными. Но эта треть ворочала большими капиталами. Дело в том, что наиболее зажиточные ижемцы уже в начале XIX века освоили оленеводство. Спаивая и запугивая своих соседей-ненцев, они постепенно вытесняли их с наиболее привлекательных оленьих пастбищ. Если в конце XVIII века у ижемцев было 10 тыс. голов оленей, а у ненцев Большеземельской тундры 124 тыс., то к концу 1830-х годов ижемцы владели уже 150 тыс. голов, а ненцы всего 30 тыс. Дело зашло так далеко, что для предотвращения физического вымирания самоедов правительство издало в 1835 году указ, ограничивающий права ижемцев по продаже ненцам водки и аренде их оленьих пастбищ.
К тому времени в Ижме и окрестных деревнях действовало более 80 мастерских, в которых ежегодно перерабатывалось на замшу 40 тыс. оленьих шкур. Замша вывозилась на всероссийские ярмарки и даже попадала за границу. На «замшевые» деньги ижемские богатеи построили в селе огромную по местным масштабам церковь, завели первую в губернии сельскую школу, платили многотысячные взятки уездным чиновникам.
Власти предлагали ижемцам поднанять для строительства тех 12 верст дороги, которые были им разнаряжены, крестьян из ближайших к Мезени деревень, и такие крестьяне нашлись. Оплатить такой поднаем за все сельское общество вполне могли местные богатеи. Могли и даже были обязаны, так как за выплату податей и исполнение повинностей государственными крестьянами по закону отвечал не каждый отдельный крестьянин, а сельское общество в целом. Но ижемские богатеи упорно отказывались, надеясь на присылку петербургских чиновников, которых можно будет убедить в том, что они едва сводят концы с концами, и заодно добиться отмены тех ограничений, которые были наложены на них в отношении спаивания и вытеснения ненцев.
К 1838 году, когда А. Н. Муравьев прибыл в Архангельскую губернию, ижемский конфликт достиг уже того этапа, на котором все средства убеждения и уговоров ослушников казались исчерпанными. Оставалось последнее законное средство – введение в непокорное село воинского контингента. Планирование операции ложилось на должностное лицо, ответственное за поддержание порядка в губернии, то есть на Муравьева.
Александр Николаевич спланировал операцию так, чтобы минимизировать вероятность реального применения военной силы. План был доложен министру Блудову и утвержден им. 17 августа 1838 года отряд численностью 200 человек выступил из Архангельска в Мезень. Здесь он должен был остановиться и ожидать зимнего пути в надежде, что ижемцы испугаются приближения войск и покорятся. В случае, если этого не произойдет, предполагалось продолжить движение к Ижме и по прибытии на место не пускать сразу в ход военную силу, а сделать все возможное, чтобы привести крестьян в повиновение мирными средствами. Предварительно предполагалось арестовать главного «вожака» ижемцев Дмитрия Бадина и отрешить от должностей наиболее ненавистных крестьянам уездных чиновников. План, как видим, совсем не людоедский, но дальнейшие события сделали его бессмысленным.
Дело в том, что к тому времени в Петербурге ижемский конфликт уже вышел на уровень спора двух могущественных министров: министра внутренних дел Д. Н. Блудова и министра государственных имуществ П. Д. Киселева. Блудов руководствовался принципом: законные требования государства должны исполняться. Киселев во главу угла ставил принцип недопустимости обложения государственных крестьян повинностями, подрывающими их хозяйство, и их способность в полном объеме выплачивать государству подушную подать и оброк за пользование казенной землей. Киселев был склонен верить сообщениям ижемцев о злоупотреблениях волостных и уездных чиновников. Блудов сомневался в правдивости слезных заверений ижемцев об отсутствии у них средств для исполнения требований начальства. В конце концов министры договорились направить в Ижму совместную комиссию двух министерств. Министр Киселев входил в то время в ближайший круг доверенных лиц государя. По его просьбе царь включил в состав комиссии своего флигель-адъютанта свитского полковника Н. И. Крузенштерна – сына командира первой русской кругосветной экспедиции. Накануне этого назначения Николай Крузенштерн сопровождал царскую семью в ее заграничном путешествии, хорошо показал себя и был в фаворе у императора. Он-то и возглавил комиссию как представитель самодержца.
Получив новое назначение, расторопный Крузенштерн, не заезжая в Архангельск, поскакал в Ижму. Обеспокоенные приближением воинской силы, ижемцы встретили блестящего полковника, посланника самого государя, изъявлением полной покорности. В качестве материального доказательства Крузенштерн потребовал в кратчайшие сроки выставить сто подвод с работниками. Подводы были выставлены и милостиво распущены по домам. Крузенштерн же поспешил в Мезень, чтобы на месте осмотреть место прокладки тракта, и пришел к выводу, что строить дорогу через бесконечные болота нет никакого смысла. 28 декабря Крузенштерн прибыл в Архангельск, где Муравьев тщетно пытался убедить его в том, что губернские власти действовали в соответствии с высочайше утвержденными указаниями и складывающимися обстоятельствами. Но у Крузенштерна уже сложилось мнение о предвзятости Муравьева. К тому же он спешил в Петербург: ему предстояло сопровождать немецких августейших особ в их путешествии по России.
Через полгода Александр Муравьев был уволен с должности архангельского губернатора без прошения, то есть не по своей инициативе, а по решению высшего начальства. Что же произошло? Сами по себе действия Муравьева в ижемском конфликте хотя и были признаны неэффективными, но соответствовали утвержденным инструкциям, и вряд ли за них его могли наказать так строго и унизительно. Есть, однако, одна деталь, которая, кажется, проливает свет на эту загадку. В письме брату Николаю Александр Николаевич сообщает, что, защищаясь от обвинений Крузенштерна, он был вынужден писать Бенкендорфу, прося его доложить государю, что Крузенштерн дезинформировал его. В том же письме брату Александр упоминает о том, что имеет надежное известие, будто Крузенштерн взял с крестьян «чтобы оправдать их[,] 15 000 рублей во взятку». Если он передал это сообщение Бенкендорфу, а Бенкендорф царю, то ответом, скорее всего, был взрыв гнева самодержца в адрес «кляузника и клеветника» Муравьева, настолько невероятно выглядела тогда и выглядит сейчас картина передачи блестящему свитскому полковнику взятки от крестьян в глухой зырянской деревне. В пользу этой версии говорит и то, что Николай I не восстановил Муравьева в должности губернатора даже тогда, когда Комитет министров после долгого разбирательства признал все обвинения, выдвинутые против него комиссией Крузенштерна, необоснованными.
После отставки Александр Николаевич поселился в своем Ботово и занялся хозяйством, надеясь расплатиться с многочисленными долгами. Но надежды оказались тщетными. Не помогло и наследство, полученное после смерти отца в 1840 году. Он был вынужден вновь поступить на службу – сначала гражданскую, а с 1851 года – военную, в том же звании полковника, в котором покинул ее 33 года назад. 60-летний полковник в те времена был экзотикой. Это чувствовалось в отношении к нему со стороны многих сослуживцев и начальников. В 1855 году А. Н. Муравьев наконец стал генерал-майором и в том же году подал в отставку: быстро прогрессировавшая катаракта почти лишила его зрения.
И самому Александру Николаевичу, и всем окружающим казалось, что карьера его окончательно завершена. Но наступило новое царствование, под ули новые ветры, старый друг Сергей Степанович Ланской был назначен министром внутренних дел. К тому же катаракту удачно прооперировали, зрение восстановилось. Муравьев снова рвался в бой. По протекции Ланского он был назначен военным и гражданским губернатором в Нижний Новгород, то есть получил самый значительный пост за всю свою так неудачно складывавшуюся до тех пор карьеру.
Здесь он круто взялся за дело. Для начала отказался явиться на приветственный бал в свою честь, прослышав, что деньги на его проведение взимали с чиновников в принудительном порядке. Скоро полетели головы со взяточников. В ответ в адрес «проклятого Мураша» полетели анонимные эпиграммы, пасквили и доносы в столицу. Но зато воспряли духом обиженные всех сословий. «Пользуюсь только шестью часами сна в сутки (и то не всегда), я весь день напролет занят делами управления весьма сложного и разнородного, ибо я вместе военный и гражданский губернатор над 1 250 000 жителями, которые, найдя во мне человека, доступного всякому, заваливают меня своими просьбами после долгого угнетения… что продолжаться будет… доколе не сотру главы Гидры злоупотреблений, взяток и неимоверного корыстолюбия», – писал Александр Николаевич брату в начале 1857 года[191]191
Муравьев А. [Александр] Н. Указ. соч. С. 343–344.
[Закрыть]. Не укатали сивку крутые горки!
Годы губернаторства в Нижнем Новгороде (с сентября 1856-го по октябрь 1861-го) стали едва ли не самым удачным периодом почти пятидесятилетней службы Александра Николаевича. Население ценило в губернаторе его доступность, справедливость, готовность решать проблемы людей. Начальство – как непосредственное (министр Ланской), так и высшее (Александр II) благоволило ему.
Это было время ожесточенной борьбы между сторонниками и противниками крестьянской реформы. Эмансипаторским усилиям царя-освободителя и высшей имперской бюрократии противостояла консервативная оппозиция подавляющего большинства поместного дворянства. В этой борьбе нижегородский губернатор энергично поддерживал государя, хотя подвергался жесточайшим атакам со стороны антиреформаторского большинства нижегородских помещиков. Поддержать А. Н. Муравьева и помочь ему сломить бойкот со стороны противников реформы – такова была политическая задача посещения августейшей четой этой важнейшей губернии Поволжья в сентябре 1858 года. Спустя годы, но со слов живых свидетелей, В. Г. Короленко описал, как мастерски решил эту задачу царь: в своей речи перед дворянским собранием он изрядно нагнал страху на противников реформы, обвинив их ни много ни мало в измене[192]192
Короленко В. Г. Легенда о царе и декабристе // Континент: Москва – Париж / публ. и примеч. Т. Г. Дмитриевой. 1994. С. 272.
[Закрыть]. С губернатором же государь и императрица были «очень милостивы и ласковы»[193]193
Из писем М. Н. Муравьева брату Н. Н. Муравьеву (Карскому) // ОПИ ГИМ. Ф. 254. Оп. 1. Ед. хр. 507. Л. 91.
[Закрыть]. В назидание консервативным критикам Муравьева его работа была отмечена орденом. Впрочем, другой свидетель встречи Александра II с нижегородским дворянством описывает ее совсем иначе и не упоминает о том, что царь обвинил нижегородцев в «измене»[194]194
Левшин А. И. Достопамятные минуты в моей жизни: Записка Алексея Ираклиевича Левшина // Русский архив: ист. – лит. сб. М.: Универ. тип., 1885. № 8. С. 547–550.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































