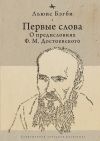Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1"
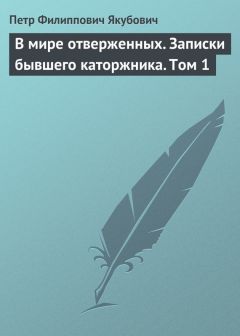
Автор книги: Петр Якубович
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
XVII. Обычная развязка
Началось мрачное, тяжелое время. Чувствовалось, что население тюрьмы разделилось на две партии, враждебные одна другой. Одна из них, менее, правда, численная, но зато более сильная влиянием, состояла из людей, безусловно одобрявших поступок Шах-Ламаса и выражавших сожаление лишь о том, что ему не удалось отправить на тот свет Шестиглазого. К этой партии принадлежали, между прочим, и все магометане, хотя они держались, как всегда, обособленно от русских и, не высказывая громко сочувствия своему единоверцу, ходили сосредоточенные, печальные и таинственные. Затем шли «иваны», тюремные воротилы и бывалые люди, горой стоявшие за поддержание старинных арестантских обычаев и порядков и с озлоблением смотревшие на то, как постепенно разлагаются и падают освященные преданием устои и на развалинах славного прошлого воцаряется «новый род» трусов, «хвостобоев» (подлипал) и «язычников» (шпионов). Часть этих вожаков, вроде Семенова и Гончарова, были, несомненно, люди искренние, и убежденные; но. многие другие оправдывали Шах-Ламаса вовсе не потому, чтобы верили в его правоту или чтобы внутри их действительно горел огонь непримиримой вражды и ненависти, а потому только, что искали в толпе 'Популярности и первенства. Большинство тюрьмы составляла безличная масса, шедшая туда, куда ее влекли и толкали поводыри; из страха перед ними она первое время таила в глубине души свои истинные (трусливые) взгляды и симпатии, высказываясь неопределенно, смотря по тому, чей голос громче и увереннее раздавался вокруг. Но вскоре заявила о своем существовании и крайняя правая, состоявшая большею частью из благочестивых старичков и других, рвавшихся в вольную команду; они недолго скрывали свое озлобление и негодование против виновника новых репрессии. Однако левые, неблагонамеренные, опираясь на безличную, трусившую перед ними шпанку, одержали вначале решительную победу, и старички принуждены были прикусить язык и съежиться. Н одном номере арестанты хотели даже побить своего старосту, слишком близко к сердцу принявшего наставления Лучезарова… Несмотря на запертые двери, вожаки успели тотчас же обменяться паролями и лозунгами предстоявшей кампании, и скоро во всей тюрьме господствовало мнение, что «кориться». Шестиглазому отнюдь не надо, товарища выдавать не следует.
– Что он может с нами сделать? – кричали главари. – Котлы отнял, чай? Да душа из него вон и с чаем-то вместе! В кандалы заковал? Так на то мы арестанты, на то и в каторгу шли. Вольную команду отымет? А начхать нам на его вольную команду! Это им она нужна, старичкам благословлённым, тем, у кого хвост да язык долги, а мы, коли что задумаем, и в тюрьме можем сделать!
– А я так полагаю, братцы, – ораторствовал кто-то в другом углу, – что еще сам же Шестиглазый ответит. Потому он не имеет никакого полного права всех за одного наказывать. Приедет же какое ни есть начальство следствие сымать; заявим тогда все, как один человек: так и так, мол, ваше превосходительство, житья нет, утеснение большое. И, помни: ему нагорит! Все его злодейства можно раскрыть и объяснить. Наше дело и по закону правое, братцы, чего нам кориться? Может статься, еще и черкесу ничего не будет, потому закона такого нет вынуждать человека парашки таскать.
Но в армии крайних была одна брешь, один слабый пункт, которого в начале никто не замечал: это то, что Шах-Ламас был не свой, а "татарин". К татарам же, то есть магометанам, русские арестанты относятся вообще крайне враждебно. Вражда эта взаимная, и причин ее множество (среди них играют, быть может, некоторую роль и перешедшие в инстинкт исторические воспоминания). Нельзя вполне отрицать, например, того, что кавказцы, сарты и другие инородцы, непривычные к тяжелому физическому труду, всеми силами стараются от него увильнуть и, где можно, "проехаться на спине" русских; но последние преувеличивают этот их недостаток и обвиняют нередко в лености и желании лодырничать даже самых трудолюбивых из магометан, на чьей спине сами ездят. Незнание магометанами русского языка и явное нежелание учиться говорить на нем также поддерживает взаимное недоброжелательство. Магометане держатся в тюрьмах обособленными кучками, раздражая русских своим гортанным наречием, монотонно-певучим, несколько гнусавым чтением Корана и обрядами омовения, которые и мне внушали, помню, брезгливое чувство. С своей стороны, и "татары" мало имеют причин любить русских, видя на каждом шагу высокомерное отношение к себе, слыша постоянные окрики: "У, зверь! татарская лопатка!" и пр. Восточная вспыльчивость берет иногда свое, и в ход пускаются ножи. В дороге довольно нередки кровавые столкновения между русскими и черкесами.
Что касается Шах-Ламаса, то, несмотря на общее нерасположение к его единоверцам, он лично пользовался в тюрьме популярностью и уважением. Все хорошо знали, что он человек, не раз бегавший с каторги и вообще умеющий за себя постоять, что он в самом деле болен, а не притворяется только негодным к работе. Старик отличался, кроме того, веселостью характера, сносно говорил по-русски и, будучи в Шелайской тюрьме единственным кавказцем, дружил больше с русскими, чем с татарами. В этом отношении с ним мог соперничать разве только узбек Маразгали, которому я посвящу одну из следующих глав. Когда случилась история Шах-Ламаса, в первые минуты никому даже и в голову не пришло вспомнить о том, что он "татарин", а не русский. Но под влиянием репрессалий и малодушного страха за будущее об этом вскоре вспомнили.
Послышалось легкое шушуканье по углам; начались косые взгляды на татар, киргизов и сартов, и скоро последним житья не стало.
– У, зверь! Татарская лопатка! – слышалось повсюду по делу и без дела.
В кухне произошло столкновение между поварами, кандидатами в вольную команду, и сартами, приходившими брать кипяток. Один из сартов в ответ на плевок брызнул в него горячей водой и был за это побит кухонинками и другими присутствовавшими в кухне арестантами. Плевок русского как-то замяли, а о том, что сарт облил того кипятком, говорила вся тюрьма, утверждая, что "их всех за это проучить надо". Замечательно, что даже Семенов, который был настолько умен, что мог бы, казалось, сообразить, к чему клонится, в сущности, вся эта агитация против татар, и тот увлечен был общим движением и тоже скрипел зубами при виде двух комичных киргизов, живших в нашей камере под его нарами и раздражавших его своим неумолкаемым "гыр-гыр-гыр", как называл он их разговор друг с другом.
И действительно, не успели очнуться подобные Семенову арестанты, как обострившаяся вражда к "татарам" перенеслась уже на Шах-Ламаса и его поступок, беседы в этом смысле стали вестись открыто и безбоязненно.
– Подумаешь, какой барин! – ворчал Яшка Тарбаган. – Парашек не захотел таскать!
– У них там, на Кавказе, все ведь бояры да князья, – сочувственно подтверждал Гандорин.
– И ведь всегда так эти нехристи, – вмешивался Малахов, – скажи ты не по ем одно слово, сейчас он за кинжал или за нож хватается.: Секим-башка!
– У, звери лесные!
– Вредный старичонко этот Шах-Ламас. Я давно замечал за им… Глаза так и прыгают, словно стреляют. Нехороший тот человек, братцы, у которого глаза стреляют!
– А теперь вот страдай из-за него… Котлы даже отняли! – жаловался Никифор, особенно близко принимавший к сердцу отнятие котлов.
Буренков был страстный любитель чая и мог выпивать один чуть не целое ведро. Перед вечерней поверкой он приносил из кухни свой котелок, наполненный, горячим кирпичным чаем, и плотно закутывал халатом. Как только проходила поверка, котелок вытаскивался на стол и начиналось священнодействие чаепития, которого уже не могли потревожить ни звонок на работу или поверку, ни окрики надзирателей. Не знаю, каким образом, но даже и в это опальное время Никифор примудрился достать себе какой-то завалящий котелок, и однажды с ним произошла по этому поводу прекомичная история. Только что выволок он из потайного места свой котелок и стал над ним священнодействовать, как надзиратель Безымённых подошел к дверной форточке и закричал:
– Буренков! Ты чай пьешь?
– Какой чай! Сырую воду!
– Да разве я не вижу – пар идет?
– Это, ей-богу, от холодной воды… с морозу…
И в доказательство Никифор зачерпнул из водяного бака под столом чашку холодной воды и выпил одним духом. Надзиратель не отходил и наблюдал. Никифор еще зачерпнул чашку и опять всю выпил… И так выпил он по крайней мере пять чашек подряд, считая почему-то возможным убедить этим путем надзирателя в своей невинности! Надзиратель, однако, не убедился и, отомкнув камеру (ключи не были еще отнесены на ночь к начальнику), при общем хохоте кобылки забрал и унес котел с чаем, оставив обескураженного "назудившегося" сырой воды Буренкова с носом…
– Знаете что, братцы, – вдруг вскрикивал теперь Никифор, весь встрепенувшись, – я так полагаю, что лучше всего нам покориться… Потому из-за чего же похмелье в чужом пиру терпеть? Мы ведь совсем тут сторона… То ли было дело, как прежде жилось? Миколаич читал нам, мы учились… Камеры отворены были… Котлы опять…
– Да душа из тебя вон и с котлами вместе! – не сдержавшись, закричал на него Семенов – Корись, коли хочешь. Обвешайся хоть весь котлами своими, разбей об них лоб!
– Ну и покорюсь. Ты чего? Мне что? Мне ведь не в мольную команду выходить. Я об себе разве? Я за правду…
– Праведник выискался, честный!.. – злобно захихикал Гончаров, грузно поднимаясь с места и поддерживая Семенова.
– Ты не будь честным, тебя ведь не приглашают, – огрызнулся против него Никифор. – По мне, хоть в магометанскую веру переходи, хоть замуж за себя своего Шах-Ламаса бери!
Завязалась крупная перебранка, во время которой Гончаром с Семеновым кричали:
– Да коритесь, коритесь, кто вас держит! Душа из нас всех вон! И из вас и из татар ваших вместе. Нашли с кем в дружбе обличать нас. Не за татар, а за правила арестантские стоим мы. Коритесь, души благочестивые, бейте хвостами!
Но события предупредили намерения благочестивых душ. По тюрьме скоро разнесся слух, что приехал чиновник особых поручений, очень важное, чуть не титулованное лицо, снимать с Шах-Ламаса допрос. Через день иди два "лицо" действительно появилось в тюрьме. Это был совсем еще молодой и очень любезный человек, приятно улыбавшийся и в каждой камере осведомлявшийся, нет ли у арестантов каких-либо претензий или жалоб. Кобылка отзывалась, по обыкновению, что всем и вполне довольна. Отыскался один только смельчак из всех ста пятидесяти человек, до тех пор неизвестный большинству даже по фамилии, но тут вдруг нарушивший общее молчание и принесший жалобу на пищу. У любезного молодого чиновника сдвинулись тотчас же брови, и голос стал сух и серьезен.
– Чем же плоха пища? – спросил он холодно, сквозь зубы. – Не сполна выдаются продукты, что ли? Ты, братец, подумай хорошенько, прежде чем приносить такую претензию.
– Пищу часто в рот нельзя брать, – смело продолжал безвестный арестант, – одно время совсем гнилую картошку давали…
– Это дело будет расследовано, – оборвал чиновник и поспешно вышел из камеры.
Лучезаров чувствовал себя глубоко оскорбленным. Как! Он, бравый штабс-капитан, не сполна выдает продукты? Он кормит арестантов гнилью?.. Вместе с чиновником он спустился немедленно в кухонный подвал и освидетельствовал хранившуюся там картошку (перед тем в кухню прибежал опрометью запыхавшийся эконом и велел поварам сгрудить в сторону весь подозрительный пищевой материал). Картошка оказалась превосходнейшего качества. Поданный для пробы начальству арестантский обед (словленный сверху котла жирный навар) также найден был и вкусным и необыкновенно питательным.
– У меня дома не варят таких славных щей! – торжественно заявил молодой чиновник и тут же назначил поварам от себя по полтиннику на чай и сахар.
На вечерней поверке того же дня было громогласно объявлено, что арестант, предъявивший ложную жалобу на свое начальство, подвергается заключению в темпом карцере на один месяц, с закованием в ручные кандалы. А на следующее утро сановное лицо вызвало в канцелярию Юхорева и всех камерных старост и сделало им строгое внушение относительно лежавших па них обязанностей. Рассказывали после, что многие старички, в том числе и наш Гандорин, падали в ноги и тут же называли имена разных "неблагонадежных" товарищей. После этого лицо уехало, отдав предварительно приказание перевести Шах-Ламаса, до решения дела, в Зерентуйский рудник. Больной старик был вынесен почти недвижимым из карцера, брошен на подводу и, несмотря на большой мороз, еле прикрыт халатом. Я слышал впоследствии, что вскоре по прибытии в Зерентуй он и умер, не дождавшись своего осуждения, которое, несомненно, было бы очень строго.
Кобылка после всех этих событий окончательно перетрусила, и каждый помышлял только о спасении собственной шкуры. Всякий раз, как Лучезаров являлся в тюрьму, то в той, то в другой камере к нему обращались с мольбами о выпуске в вольную команду и уверениями в благонамеренности. С надзирателями также происходили у многих таинственные беседы и шушуканье. Язык приходилось крепко держать за зубами…
XVIII. В штольне
В это тяжелое время рудник являлся для меня единственным местом отдохновения и сравнительного душевного покоя. Уйти возможно дальше от ненавистных стен тюрьмы, из этого царства гнета и всяческой злобы, уйти па возможно долгое время и погрузиться всем существом, всеми силами души и тела в физическую работу, Бить без передышки молотком по буру, мерить и считать готовые уже вершки и потом снова махать и махать молотком опять сделалось для меня на время наслаждением, в котором было что-то болезненное, почти мучительное… Петр Петрович давно уже дал мне другое назначение, переведи из шахты в так называемую штольню, где было и теплее и камень значительно мягче. Здесь даже я мог без особенного утомления выбуривать восемь-десять вершков в день. Трудна была только обивка, и потому в товарищи мне назначался в такие дни кто-нибудь из силачей, вроде Семенова, но буривал со мной обыкновенно Ракитин.
Не мешает, быть может, объяснить, что такое штольня. Так назывался горизонтальный подземный коридор, направлявшийся от светлички к шахтам. До нашего прибытия в Шелайскую тюрьму в нем было прорыто, тридцать лет назад, около семидесяти сажен. Но работа в этом узком коридоре требовала не много рук: нужны были только два бурильщика и один откатчик, вывозивший в особо устроенном вагончике на отвал взорванную породу. По мере углубления штольни в гору требовались еще изредка плотники, ставившие новые подпорки (крепи) и удлинявшие мостки, по которым откатчик возил свой вагон. Таким образом, работать мне приходилось большею частью в полном одиночестве, так как товарищи мои по буренью оканчивали свой урок значительно раньше и, отработавшись, уходили в светлячку; я же, не торопясь и подолгу отдыхая, стучал молотком иногда вплоть до самого ухода арестантов в тюрьму.
В одном отношении штольня была, без всякого сравнения, лучше шахты; зимой в ней было гораздо теплее, чем на открытом воздухе, а летом не струилась со всех боков, как в шахтах, холодная вода, попадавшая за шею и в сапоги.
Живо и отчетливо рисуются мне эти долгие-долгие часы, которые просиживал я один-одинехонек в своем подземном мире. Слабо мерцала сальная свеча, прилепленная к камню, ежеминутно оплывая и тускнея; слева и справа, на расстоянии сажени один от другого, возвышались гранитные бока коридора; над головой висел неровный каменный потолок, который, казалось, вот-вот должен обрушиться… Но он держался прочно; мелкие каменья при обивке отлетали прочь, и оставался сливной камень, имевший слишком много точек опоры. Впереди стоял тот же мрачный гранит, в который приходилось стучаться; а позади свет моей свечки боролся с тьмою, переходил скоро в беглые тени и наконец совсем тонул среди вечно царствовавших там сумерек. В отдалении только, в самом конце штольни, виднелось небольшое оконце – выход на свет божий; с ним приходилось соображаться, чтобы вести штольню всегда по прямому направлению. Иногда, случайно погасив свечу в забое, я видел, как этот далекий просвет отражался на передовой каменной стене в виде небольшого светлого пятна, производившего самую полную иллюзию лунного света… В штольне, несмотря на ее сравнительную теплоту, чувствовалась постоянная сырость, и даже глазами можно было видеть испарения, плававшие вдоль стен. Бывало, задумаешься, глядя на этот туман, и вот он принимает постепенно в воображении смутные, странные очертания, говорящие о забытом всеми мире страданий, уже отживших, отошедших в вечность, но, однако, все еще как будто живых и реальных. Неясные сначала образы принимают постепенно резко определенные формы, и вот уже мерещатся бледные лица и костлявые фигуры людей, когда-то терпевших здесь действительно нечеловеческие муки – муки, перед которыми теперешняя каторга – пустая игрушка, проливавших здесь не только пот, но и кровь, полагавших живот свой… Во имя чего? Кто были эти люди? Бессознательные жертвы общественных несовершенств, нищеты, невежества и диких вожделений. или же носители каких-либо высоких идеалов? Я не знал; но все, все без различия представлялись мне в эти минуты одинаково страдавшими и потому равно казались братьями и товарищами по несчастию. Я видел глаза, полные слез и ужаса, с недоумением вопрошавшие меня: "За что?" Видел поднятые кулаки, тиснутые бессильной злобой и точно искавшие врага, которого следовало бы растерзать; мне явственно слышались и вздохи отчаяния, вылетавшие из впалой, истомленной груди, и хриплый смех ярости, жаждавшей упиться местью…
Бледные тени, ужасные тени!
Злоба, безумье, любовь…
Даже кандальный звон чудился по временам… вздрогнув, я спешил оторваться от страшной галлюцинации. Это все прошло ведь, этого больше не будет. Теперь остается уже бледная тень того, что было, и нужно надеяться, что и эта последняя тень исчезнет с первыми лучами солнца… Но тут я снова вздрагивал, хотя совсем уже от другой – реальной причины: в глубине горы прокатывался слабый глухой гром, явственно доносившийся, однако, до слуха, благодаря царившему кругом гробовому безмолвию. Эти голоса горных духов первое время пугали меня, потому что казались предвестниками землетрясения; но они повторялись так часто, что скоро я перестал даже обращать на них внимание. При мне в Шелайском руднике не было ни одного настоящего землетрясения, но в старину они были нередки и породили целые легенды. Одну из таких легенд рассказал мне светличный старик сторож. Подобно кобылке, и он утверждал, что в Шелае был однажды обвал, похоронивший под землею несколько десятков каторжных; только старик относил этот случай к еще более давнему времени, которого сам не запомнил. – Вот работают раз ребята в горе, – рассказывал. – работают, ни о чем не думают. Вдруг прибегает нарядчик, кричит: «Вон выходите скорее, гора идет!» Все побросали сейчас же инструмент и побежали вон.
Выходят – им нарядчик навстречу: "Куда, мерзавцы, идете? Чего работу бросили?" Они: "Так и так, говорят, ты сам сейчас приходил звать: гора, мол, идет". – "Да что вы, говорит, очумели, што ли? Или пьяны напились? Гора и не думает трогаться. Над вами кто-нибудь из каторги подшутил. Я все время в светличке был. Нечего лясы точить, ступайте работать". Что тут делать? Помялись-помялись, да и пошли назад в гору. Тогда ведь не те права-то были… Только успели в гору войти, за инструмент опять взяться, а она и пошла… и пошла!.. Так все и пропали. Шестьдесят, сказывают, человек пропало.
– Кто ж это приходил к ним, дедушка?
– А бог его знает. Стало быть, горный хозяин.
– А вы сами видывали его, хозяина-то?
– Я-то не видал, а люди видали… Почему же и до сих пор вот, где большие выработки есть, строго-настрого запрещается рабочим петь и свистать в горе.
– Это почему же?
– Ну, стало быть, потому. Стала, он не любит! Со стариком, который показался мне. вначале несимпатичным и плутоватым и которого арестанты называли "горным духом", с течением времени я сблизился и нашел в нем жалкое, забитое, покинутое всеми создание, невольно внушавшее к себе сожаление. Умственный мир его был очень неширок и незамысловат: в прошедшем – Разгильдеев, а в настоящем и будущем – постоянная тревога за те несчастные десять рублей в месяц, которые платил ему уставщик Монахов за исполнение обязанностей сторожа. К счастью, закаленный в огне разгильдеевщины, семидесятилетний старик был еще здоров и крепок, несмотря даже на то, что питался одним черным хлебом и кирпичным чаем. Мы подолгу болтали с ним в те дни, когда у меня рано оканчивалась работа. Страшные вещи рассказывал старик о временах разгильдеевщины, о том, как тяжела и непосильна была работа на Каре, как колодники болели и мерли, точно мухи осенью, и как во время холеры их живыми еще таскали сотнями на кладбище… Несправедливости и обиды чинились каторге возмутительные. Во время работы даже отдыхать, курить и есть запрещалось; приходилось украдкой, вынимая из-за пазухи, кусать ломоть хлеба. Забитое и запуганное было времечко…
– Неужели же Разгильдеев никогда добрым не бывал? – спросил я однажды, и старик оживился. Морщинистое лицо покрылось приятной улыбкой, и потухшие, поблекшие глазки засверкали.
– Как не бывать! И на зверя, бывает, пора находит дачная. "Вот раз… Как сейчас помню… Дождливый-дождливый был день. Мы с товарищем вдвоем по колено весь день в воде простояли на шурфах; промокли, прозябли, насилу-насилу урок к вечеру сробили. Вот идем, и говорит товарищ: "Давай-ка, брат, песню с горя затянем". Взяли и затянули:
За тихим бродом речки-переправою
Не ковыль-то трава во поле шатается:
Зашатался я, удал добрый молодец…
Загнала-то меня служба царская,
Служба царская, государская.
Тяжела-то мне служба царская,
Та ли служба с утра день до вечера,
С вечера до самой до полуночи!
Со полуночи с неба звезды сыплются…
Рассыпалася наша сила-армия,
Сила-армия, разгильдеева партия.
И по падям-то, падям широкима,
И по шурфам-то, шурфам глубокима!
Долгая она песня, не помню дале. Вот поем это мы, вдруг…слышим:
– Кто там поет? Сюда!"
Смотрим, на крыльце дома человек стоит. Подходим, шапки сымаем и видим – сам полковник. "Пьяные, што ли?" – спрашивает. "Никак нет, отвечаем, наше высокородие, с работы в казарму идем". – "С какой же радости вы поете?" – "Как с какой, говорим, радости? Вот промокли мы, иззябли до костей, проголодались, а теперь урок кончили. Придем в казарму, обогреемся, обсушимся". – "Ступайте, говорит, за мной!" – и ведет нас обоих к себе на квартиру. Ну, думаем, беда! Приводит нас в большую горницу, показывает на стол: "Садитесь, говорит, гостями будете". Зовет потом повара и велит нам ужинать дать, тащить все, что только в доме… А сам выносит нам по большому бокалу вина. "Пейте! – говорит. Ослушаться нельзя. Выпили мы. С перепугу не знаем, что и делаем. А он, глядим, еще по одному же бокалу подает: "Пейте еще". – "Нет, говорим, довольно, ваше высокородие, не то захмелеем, завтра на разрез не сможем выйти". – "Ничего, говорит, я в ответе. Помните, как Разгильдеев свою силу-армию угощал". Потом берет бумагу, пишет какую-то записку и кладет мне за пазуху: "Покажи, говорит, утром дежурному". Как мы домой добрели, я уж и не знаю. Пьянехоньки оба, потому много ль надо ослабевшему человеку? Поутру раным-рано на работу будят. Меня тоже толкают, а я ничего и понять не могу. Язык не ворочается, за пазуху только руку сую: "Тут", – говорю. Посмотрел дежурный на записку и рот разинул: "Да ты, говорит, самим Разгильдеевым освобожден на сегодня от работ". Около этого же времени познакомился я и с уставщиком Монаховым. Толстопузый, с красным опухшим лицом и благодушным смехом, выходившим скорее из упитанной утробы, чем из горла, внешним видом он мало напоминал то слово, от которого происходила его фамилия. Казалось, никакие житейские заботы и никакие умственные интересы не занимали его и из всех чувств, способных волновать человеческую душу, ему было доступно одно – чувство всеодуряющей скуки, от которой днем он искал спасения в светлячке, в болтовне с арестантами и казаками, а по вечерам и ночам в картах и выпивке. В последнем отношении он славился по всему Шелайскому округу: решительно никто, не исключая и бравого штабс-капитана, мало уступавшего ему в дородстве, не мог его перепить. Если когда-нибудь и существовали у Монахова высшие интересы и стремления, то он давно уже позабыл о них; прочитывал случайно подвернувшийся обрывок газеты, журнала, статейку, в которой, по слухам, был намек на известные ему местные дела и отношения, и дальше этого не шел. Политические взгляды его во всякий данный момент определялись взглядами ближайшего горного начальства, к которому он ездил время от времени представляться и делать доклады о ходе работ в Шелайском руднике. Монахову, конечно, прекрасно было известно, что никаких результатов и плодов от этих работ горное ведомство не ожидает, и потому он не сильно о ник заботился, предоставив все ведать и за все отвечать нарядчику; сам же следил только за успешностью и продуктивностью работ столяра, бондаря, слесаря и кузнеца, которые снабжали его мебелью, шкафами, столами, самоварами, оковывали казенным железом его сундуки, телеги и пр. За исключением тех случаев, когда накануне бывало бесшабашное пьянство, Монахов не пропускал ни одного дня, чтобы с раннего утра не забраться в светличку и не болтать там с конвоем и арестантами обо всем, что взбредет в голову, рассказывать анекдоты, подшучивать, острить, одним словом, употребляя арестантское выражение, тереть волынку. Он вскоре узнал, конечно, кто я такой, был со мной утонченно вежлив и даже пытался вести разговоры иного рода, но я чувствовал, что разговоры эти тяготят его, что этому ожиревшему мозгу трудно подниматься на давно забытые вершины, и торопился уйти в штольню, хотя бы там у меня и не было никакого дела. Кончала кобылка свои уроки, выходила из светлички выстраиваться – выходил вслед за нею и толстопузый Монахов. И долго-долго стоял на одном месте и смотрел вслед за нами, словно раздумывая о том, идти ли ему домой обедать или закатиться куда-либо в гости. Но круг шелайского бомонда был невелик, и, подумав и поколебавшись, Монахов начинал карабкаться в гору, в свое холостое и неприветливое гнездо. Но вот по дороге к тюрьме нам попадалась навстречу гремевшая бубенцами тройка, в которой летел к нему какой-нибудь гость из завода, горный или другой чиновник.
– Ну, теперь пропал наш Монахов, – говорила промеж себя кобыл, – с неделю глаз не будет казать.
Неловко чувствовал я себя в те дни, когда в штольне происходила обивка. Тут я видел полнейшую свою беспомощность и бесполезность, видел, что сижу па плечах у другого. Самое большое, что я мог делать, это держать свечку или наставлять кирку; балдой же работал Семенов. или кто другой из силачей. Никто из них, правда, не роптал на меня; но мне самому бывало жалко и противно мое бессилие, мое дворянское худосочие. Слушая, как стонет гора под могучими ударами Семенова и как сам он при каждом взмахе молота рычит, подобно голодному тигру, видя, как трясутся и падают под его балдой увесистые глыбы гранита, казавшиеся мне несокрушимыми твердынями, я, сидя где-нибудь в сторонке на корточках со свечкой в руках, съеживался, скорчивался, душевно и физически превращаясь в настоящего ребенка, которого пугала эта стихийная, всесокрушающая сила… Мне казалось, что сила эта может при желании раздавить меня, как червяка, и что всякое сопротивление с моей стороны будет и смешно и бесполезно. И думалось мне в минуты отчаяния: вот правдивый образ народа и интеллигенции! Как он могуч и как вместе темен и слеп, этот несчастный труженик народ, и как жалка ты, зрячая интеллигенция, пылающая горячей любовью к нему, мечтающая о вселенском братстве и счастье, но имеющая такие слабые руки, такую ничтожную волю для осуществления высокого идеала! Кричи, плачь, взывай – твои вопли бесплодно замрут в глухом лабиринте действительности и не будут услышаны титаном, оглушаемым дикой музыкой своей повседневной работы, этими звуками, от которых вздрагивает мать-земля и с нею наше бессильное, пугливое, сердце. Титан ничего не слышит, весь обливаемый собственным потом и кровью. Он только рычит, как лев, при каждом взмахе своей исполинской руки, и горе, горе тебе, если ты сумеешь оторвать его от этой работы и первый будешь замечен им! Лев растерзает тебя – и что же останется от твоих светлых мечтаний, от твоего горячего, любящего порыва?.. Одни паразиты останутся, чтоб продолжать свое гнусное дело…
– Будем продолжать наше дело, Иван Николаевич! – кричит во все горло Ракитин, появления которого, занятые работой, мы с Семеновым и не заметили. Он кончил свой урок в шахте и теперь прибежал посмотреть, что я делаю.
– Давай-ка, Петруша, мне балду. Вот как развернусь я да ударю, тряхну своей старинушкой дорогой, так ажио искры посыплются…
– Из глаз, – говорит Семенов, подавая ему балду. Ракитин действительно ударяет раз пять-шесть, но скоро ему надоедает это занятие, и, усевшись, он принимается болтать о чем попало.
Не без удовольствия вспоминаются мне те дни, когда я работал в штольне вдвоем с "осиновым боталом". Работа подвигалась тогда медленнее, но зато было веселее. Даже когда Ракитин находился в меланхолическом настроении и склонен бывал к философским и лирическим излияниям, и тогда одно какое-нибудь слово его, одна выходка разгоняли во мне сразу всякую меланхолию. Однажды он был в истинно трагическом положении. Выбурив уже вершков семь, он сделал вдруг самое плачевное открытие:
– Иван Николаевич! А Иван Николаевич, – жалобно позвал он меня, – ведь у меня беда.
– Какая беда?
– Камень-то, смотрите-ка, шатается!.. Того и гляди совсем отпадет.
– Ну так что ж? Тем лучше. У Петра Петровича патрон сохранится. В другом месте забуритесь.
– В дру-гом?! А эти чтоб семь верхов так и пропали? Все труды, то-ись, мои? Что вы, Иван Николаевич! Да они разве поймут? Разве они способны? Они мне же еще строжайший выговор сделают, что забурился неладно; еще с запиской, чего доброго, в тюрьму пошлют.
– Ну, этого до сих пор не случалось. Петр Петрович, кажется, не такой человек.
– Все они до поры до время хороши! А по-моему, Иван Николаевич, что белая овца, что черная – дух один. Не заплакал бы я, кабы и все они сегодня к вечеру подохли, а завтра к утрию пропали! Нет-с, почтеннейший господин мой, на этих людей завсегда удобнее с опаской поглядывать. Беречь себя надо, чтобы все, значит, в исправности было.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.