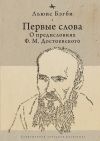Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1"
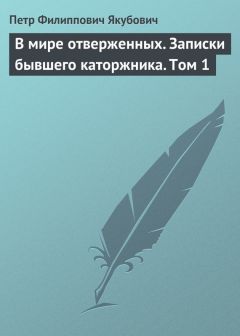
Автор книги: Петр Якубович
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Железный Кот сам повалился набок.
– А где поболе толчок, там мой мертвяк и вовсе из тачки скок. Что тут делать? Поднимаю тачку, опять его туды кладу.
Рассказчик при этом опять подымается на колени; вся камера заливается смехом, глядя на это живое представление.
– Ну и Железный же Кот! Прямо – два сбоку… Это не Кот, а объеденье.
– Еду, братцы мои, дале. Сделаешь шага три ли, два ли – кувырк опять мой татарин!
Железный Кот опять ложится набок, приводя зрителей в неистовое веселье.
– И долго так я бился, покамест через болото к пруду не спустился. Ну, думаю, теперь слава богу! Спущу туды и назад в путь-дорогу. Бросаю в пруд, А завод-то ночью не работал,[57]57
Действие происходит в Пермской губернии, (Прим. автора.)
[Закрыть] воды в пруде оказалось мало, две четверти всего до дна; не тонет мой татарин, да и на!
Я его на один бок, на другой – торчит, ничего не поделать. Пришлось снова вытащить, в тачку мокрого посадить, опять тащить. Привез наконец к золотомойной яме. Яма будет с нашу камеру, на дне вода. Мне бы его вверзить туда, да бока-то у ямы неровные. Мертвяк мой покатился да где-то сбоку и зацепился. Не захотелось мне туда, лезть. Осерчал я, плюнул, махнул рукой и пошел домой. Наутро пошел к Агапову, фартовцу одному, и сговорился с ним об товаре, куда принесть его. На. грех подслушай нас его баба. Как попался татарин мой в яме на глаза, у Агапова в числе прочих сделали обыск и нашли ситцу полштуки. Его сейчас же, чубчика, и в руки. Цоп в тюрьму, во кромешную во тьму! Баба его испужайся и покажи на меня, что вот, мол, слышала разговор мужа с кузнецом об товаре, меня, молодчика, тоже забрали. Приходит моя баба мне на свидание, рассказывает, когда да кого еще забирают. Клюкина, мол, тоже зарестовали, нашли аршин ситцу, и свидетели показывают, что татарин к нему в тот день заходил, а он, дурак, отпирается. Я думаю себе: нам в пользу этот аршин. Ты ему, баба, еще подкинь. А тут еще и другое славное дельце наклевывалось у нac с Агаповым. Солдат один высидочный соглашался в сухарники идти, снять на себя убивство. Уж сговорись, как и что: семьдесят пять рублей денег, сапоги, шаровары плисовые, две рубахи шелковых, красную и синюю. Не будь моя баба разинею – оказался бы я на волe. Жду ее на другое свидание. День проходит, и два, и три, и неделя целая. Нейдет баба. Вызывает меня следователь: "Твоя, говорит, жена созналась". Читает мне ее показание; все, как было, в самую точку сказано. У баб, известное дело, щель во рту не задана.
– Вот стерва! Что ж это ей в башку взбрело? Надоумил, знать, кто?
– Вестимо, надоумили. После-то сама ревма ревела, в ногах у меня валялась. Думала, вишь ты, мне лучше будет, коли сознаюсь во всем! Что тут делать? Поругал ее, поругал, в зубы малость посовал, душу облегчил, да и простил. "Пусть, говорю, дети не пропадают, на меня жалобы после не имеют, я тебя от греха отстороню, все возьму на себя". И точно: такое показание дал, что суд ее вполне оправдал, мне одному двадцать лет накачал. Только баба-то шельмой оказалась. Я рассчитывал, она по гроб жизни мне обязана, после этого в каторгу за мной пойдет. Пока тянулись суд, она, и точно, на шее у меня висела, посулами, да обещаньями тешила меня, а как вынул ее из огня, она не пришла и проститься. Посиживай теперь милок, засадила я тебя в хороший мешок!
– Ха-ха-ха-ха-ха!
– А что, Миколаич, – обратился внезапно ко мне Железный Кот, – могу ль я ее, гадину, силой к себе привести?
– Как это силой? – удивился я.
– А так. Нет ли закону такого, чтобы муж и в каторге мог жену к себе по этапу вытребовать?
– Нет такого закона. Да если она нехорошо с вами поступила, зачем она вам? И жалеть ее нечего!
– Да мне чего ведь жалко? Приди она сюды – прошлась бы по ей моя палка! Так бы славно прошлась, что попомнила бы наперед, каков я есть Железный Кот. Нельзя ли как, Миколаич, письмецо такое ей сварганить, притвориться, будто скучаю я по ей шибко, чтобы обманом то есть вызвать?
– Такого письма я, Водянин, не напишу.
– Ха! Да почему ж? Что тут такого?
– То, что я был бы участником обмана.
– Да обман-то не ко злу ведь был бы? Не насмерть же я ее забил бы? Так, поучил бы только легонько, для памяти. А потом опять стали бы жить да поживать. Мне детей пуще всего жалко. Теперь бы старшего к ремеслу пора приучать. И сам бы я в вольную команду ране вышел, человеком опять стал бы. Цель бы у меня была… А теперь я что? Пропащая душа – одно слово. Выду на волю – либо бродяжить пойду, либо в новую втюрюсь беду. А без бабы как сюда детишек достанешь?
Впоследствии я убедился, что Водянин был отчасти прав. Будь у него какая-нибудь цель в жизни, он еще мог бы стать на честную дорогу. В характере его были некоторые очень хорошие черты. На слово, данное им товарищу, можно было смело положиться; лицемерия в нем совсем не было. Детей своих он очень любил, иногда со слезами вспоминал о них и, не желая писать жене, осведомлялся о них через тестя и посылал им гостинцы. Отсутствие жадности также приятно бросалось в глаза в этом человеке. Зарабатывая в качестве кузнеца порядочные для арестанта деньги, он делил их пополам с молотобойцем Ефимовым, что вовсе не полагалось по правилам мастеровых.
II. Ефимов – тюремный софист и Мефистофель
Заговорив о Железном Коте, обрисую уж вкратце и его молотобойца Ефимова. Это был совсем другого рода тип. Водянин сошелся с ним, как с земляком; сблизило их также и мастерство. Как-то случайно надзиратели назначили их вместе в кузницу и потом, по привычке, не разрознивали в течение нескольких лет. Странным даже показалось бы всем, если бы Водянина и Ефимова назначили в разные места. Даже во время новых размещений по камерам их всегда помещали вместе. Вместе обедали они из одного бака, вместе пили чай, поровну делили все заработанные деньги. Одним словом, можно было подумать, что это друзья закадычные. А между тем на деле было совсем другое. Ефимов действительно вел себя с Водяниным осторожно, ни в чем ему не переча и во всем уступая; но простой расчет заставлял его поступать так… Железный Кот уделял ему половину своего заработка, тогда как обыкновенно кузнецы дают молотобойцам лишь ничтожную часть, и он мог сыскать себе десяток других таких же молотобойцев, отнюдь хуже.
За это Водянин, человек вообще очень покладистый и мягкий, не стеснялся высказывать Ефимову в глаза такую горькую правду, которой тот, с его самолюбием, ни от кого другого не стал бы спокойно выслушивать. Я уж сказал, что это была натура совсем особого склада. Родом он также был пермяк, и хотя из местности более глухой, земледельческой, но тоже достаточно уже развращенной. В работу пришел за убийство двух проезжих торговцев. По словам Ефимова, идея убийства явилась у него совершенно внезапно, благодаря глухому лесу, в котором он встретил свои жертвы. При гигантском росте и силе он живо с ними управился и всe следы скрыл самым тщательным образом. Подозрение никогда бы не пало на него, и погиб он только по чисто сумасшедшей случайности – ложному оговору и ложной улике. Одна женщина, встретившая купцов в день убийства, показала, что встретила также и Ефимова, осторожно выходившего из того же лесу; а между в действительности она видела совсем другого человека, только похожего на него ростом. Кроме того, при обыске нашли у Ефимова рубашку со свежим пятном крови, которая на самом деле была не человеческая, а телячья… Еще несколько других таких же мнимых улик сложились вместе столь роковым образом, что Ефимов, до конца не сознавшийся в убийстве, осужден был на пятнадцать лет каторги. Это обстоятельство сильно его поразило. Он много раз говорил миг. что хорошо испытал, как невыгодно быть мошенником, и что впредь станет жить только честным трудом.
– Ведь вот все, кажется, следы укрыл, чисто все обделал, ни одной справедливой улики не оставил, а в каторгу попал! И сколько я ни наблюдал, редко-редко какое убивство неоткрытым оставалось.
– А раньше вы, Ефимов, занимались какими-нибудь мошенничествами?
– Ни боже мой! И вся семья у нас честная!
– Чего ж ты, Еграха, врешь? – оборвал его Чирок. – А зачем же брат у тебя по Якутскому грахту сослан?
– Ага! Поймал тебя Чирок на крючок! – загоготала радостно вся камера, почему-то крайне недоброжелательно относившаяся к Ефимову.
– Брат мой совсем по другому делу сослан, – смущенно отвечал Ефимов, – не по мошенницкому.
– По святому небось? – ядовито продолжал приставать Чирок.
Ефимов молчал; все ехидно улыбались и переглядывались между собою. Мне становилось ясным, что только мы с Чирком не понимаем, в чем дело.
– Да они скопцы! – не выдержал наконец Железный Кот, давно уже сердито ерзавший на своих нарах. – У них вся деревня скопческая… И брат его за это ж по Якутскому пошел… Один Еграшка каким-то чудом не оскопился…
– Тьфу! Тьфу! – отплевывался Чирок. – Вот ненавижу этих людей… Самые супротивные люди! Чтоб свое тело я стал резать, себя увечить? Да лучше ж совсем помереть. Из чего ж тогда и жить, коли это… отрезать? Я почти старичонко уж, а и то в надеже еще живу, что на волю выду – опять человеком стану.
– Ты судишь, Чирок, как все мирские люди судят, – робко вступался за скопцов красный как рак Ефимов, – они люди особого сорту… Они об небе думают, потому писании сказано…
– Паскудники вы окаянные! – перебивал его Чирок, удерживаемый общим одобрением. – Об небе вы думаете? Гадов таких, как ваши скопцы, и свет не создавал. Самый двуликий народ. И жадности в их сколько, жадности этой сколько сидит! Об небе они думают… тьфу!.. Ты-то почему ж уцелел?
– Так как-то, не пришлось. Рано женился. Ведь не неволят тоже, по доброму изволенью печать принимают. 'Было и у меня, конечно, желание, только бес пересилил, мир пленил.
– Вот дурак!.. Бес, говорит, пересилил. Да где ж и бесов-то искать, как не в вашей сехте? Знаю я ее хорошо. Что у вас там делается, как на богомолье тайное сходитесь!
– Ничего дурного не делается, это все поклепы одни. Слыхал я!
– Ты, вестимо, своих застаивать будешь. Да меня, брат, не проведешь! Я тоже из тех ведь местов. Самое поганое племя – скопцы.
– Что верно, то верно, – опять не выдержал Железный Кот, – и что скопленые у них, что не скопление – одна порода тавреная! Жадные, лицемерные! Посмотрите хоть на Еграфа. Ведь другого такого жида с огнем сыскать трудно. Над кажной копейкой трясется, ровно осиновый лист, на деньгах, ровно пес цепной при амбаре, сидит!
При последних словах Ефимов, видимо страшно оскорбившись, но не желая заводить ссоры с Железным Котом, с сердцем махнул рукой и, весь пылая как огонь, выбежал из камеры. А за глаза его еще сильнее начали ругать и костить на все корки.
Действительно, Ефимов был страшно скуп. В дороге он держал майдан; теперь, будучи немного грамотным, вел счет издержанных вместе с Железным Котом денег и цепко хватался за каждый грош. Если случалось потихоньку от начальства купить молока или мяса, никогда не приглашал к своей трапезе товарищей, и этой скупостью своей, видимо, стеснял кузнеца, имевшего более открытый нрав и щедрое сердце. Мне кажется, только слабость характера мешала последнему порвать с Ефимовым всякие отношения; он страшно не любил его и часто, не вытерпев, высказывал в глаза резкие обличения.
Жена Ефимова решила приехать к нему в каторгу и, уже отправившись в дорогу по этапам, выслала мужу на хранение несколько десятков рублей, вырученных от продажи имущества. Я посоветовал Евграфу отправить ей заказные письма в Красноярск, Нижнеудинск и Иркутск-города, Находившиеся на ее пути. Ефимов задумался.
– Конечно, не мешало бы послать, – согласился он наконец, – только можно, я думаю, и простенькие…
– Вестимо, лучше простенькие, – поддакнул Железный Кот так, что я и не приметил сначала тонкого яда в его словах, – три заказных письма – ведь это лишних двадцать одна копейка… На двадцать одну копейку можно семью в течение двух дней прокормить!..
По наивности я стал даже спорить с Железным Котом, доказывая ему, что нечего быть столь расчетливым, когда дело идет о спокойствии одинокой женщины с тремя маленькими детьми на руках, едущей в неведомый край и на неведомую жизнь трудным этапным путем.
– А все же лучше простенькие-то, Миколаич, – возразил серьезно Железный Кот, – простенькие, по-моему, куды лучше.
И вдруг разразился громким насмешливым хохотом, который поддержала и вся камера, опять страшно переконфузив Ефимова.
Ефимов держался всегда солидно и деловито; он считал себя неиспорченным, честным человеком, гораздо выше и лучше всех других арестантов. Он страшно всегда обижался, когда ему напоминали, что и сам он две души на тот свет отправил. Свое убийство он считал почему-то неважным проступком, чем-то вроде несчастного эксперимента, который со всяким может случиться, и убежденно заверял, что в другой раз не наживет себе каторги. Я тоже склонен думать, что в другой раз Ефимов семь раз отмерит, прежде чем решится отрезать кому-нибудь голову: "выгоды" не нашел он в этом ремесле… Однако я никогда не поручился бы, что мой Евграф устоит против соблазна преступления, если будет иметь полную гарантию того, что оно пройдет вполне безнаказанно и принесет очень большой барыш.
Из новых моих сожителей был один арестант, давно уже привлекавший мое внимание. Фамилия его была Сокольцев. Прежде всего он бросался в глаза самой внешностью: плотный, небольшого роста брюнет лет сорока, он отличался такого рода красотой, какая совершенно чужда типу русского крестьянина. В тонких чертах лица, правильном, почти изящном очерке чувственных губ, в тонкости бледно-матовой кожи, бархатистом выражении больших черных глаз, в мраморной шее и ко всех движениях было что-то истинно аристократическое, что создается только десятками холеных, не занимающихся физическим трудом поколений. А между тем Сокольцев был простой неграмотный крестьянин одной из внутренних русских губерний, рано свихнувшийся с пути и попавший в Сибирь. Впрочем, по его словам, он был из дворовых одного богатого графа, и это обстоятельство невольно наводило на мысль об истинном его происхождении… Среди обитателей тюрьмы Сокольцев пользовался репутацией одного из самых умных арестантов, отнюдь не "дешевых" и видавших на своем веку виды. Каторжный срок его был сорок четыре года, и дело, которым он заработал этот срок, было одно из самых кровавых, о каких когда-либо мне приходилось слыхивать. Глядя на это красивое умное лицо, слыша этот мягкий голос, говорящий всегда так осторожно и вкрадчиво, я с трудом иногда верил, что передо мной стоит тот самый Сокольцев, который мог с спокойным духом проделывать подобные вещи; а между тем страшные разбойничьи подвиги его были истинной, невымышленной историей.
Сокольцев жил на поселении в Иркутской губернии, в качестве работника у одного зажиточного "челдона". Последний занимался скупкой, золота у "хищников" и приисковых рабочих. Дознавшись однажды, что в доме хозяина скопилось около двух пудов золота, Сокольцев подговорил одного товарища-поселенца и, впустив ночью в дом, придушил общими силами хозяина, его жену и пятерых малюток. Потом, забрав золото и наличные деньги, которых также было немало, спрятал их в лесу в заранее приготовленном месте. Товарищ после этого ушел к себе, а Сокольцев, вернувшись в дом, запер его изнутри, запалил хорошенько и, вылезши в окно, улегся в сенях, притворясь спящим. Когда сбежался народ, пожар разлился уже такой волною, что не только не было никакой возможности потушить его, но даже и войти в комнаты. Кое-как удалось проникнуть лишь в сени, тоже объятые пламенем и наполненные дымом, и вытащить оттуда, казалось, крепко спавшего и несколько уже опаленного Сокольцева. Зверски совершенное преступление так было ловко обставлено, что ни тени подозрения не могло упасть на работника, который сам казался пострадавшей жертвой. Трупы убитых сгорели к тому же дотла. Предполагали чью-то злодейскую руку, но искали ее совсем в другом месте. На беду Сокольцева, товарищ его был гораздо неосторожнее, он стал кутить, менять крупные бумажки, навлек на себя подозрение и был арестован. У него нашлись некоторые, вещи убитых. Звено по звену, показание за показанием, и судебный следователь докопался до самого Сокольцева. И он и товарищ были осуждены "а каторжные работы без срока, только золота не могли сыскать. Оно так и осталось закопанным где-то в лесу, поддерживая в осужденных бодрость и мечту о побеге. Товарищ Сокольцева попал, впрочем, на Сахалин, откуда не так-то скоро "срываются", а Сокольцеву действительно удалось в дороге нанять сухарника, шедшего на поселение, прийти вместо него в назначенную волость и немедленно отправиться оттуда на розыски зарытого сокровища. "Но кобылка нетерпелива, – рассказывал про себя сам Сокольцев, – ей всегда хочется сразу двух или даже трех зайцев поймать". Желая разжиться деньгами для "первого обзаведения", он запутался в новый грабеж с убийством и был снова арестован. В Иркутской тюрьме его, конечно, уличили, и под прежним своим именем он опять пошел в каторгу, на этот раз уже на сорок четыре года. Вот главное дело, которое привело Сокольцева в Шелайский рудник и сомневаться в истинности которого было невозможно. Но если верить рассказам арестантов о Сокольцеве и ему самому, то это была лишь ничтожная частица его похождений в России и Сибири. Ему было уже за сорок лет, и в волосах кое-где серебрилась седина. К сожалению, трудно было решить, где правда, где выдумка в рассказах о себе самого Сокольцева, где серьезная речь, а где тонкая насмешка над слушателями. Странный это был человек. Он не принадлежал к тем арестантам, которые в своей же среде. слывут "боталами" и "заливалами", и тем не менее все отлично понимали, что ни одному его рассказу нельзя с полным спокойствием верить. Чрезвычайно умный, Сокольцев, казалось, наслаждался своим умом и превосходством над окружающей шпанкой; ему, по-видимому, ужасно нравилось сегодня защищать перед ней одно, завтра с неменьшим успехом доказывать совсем другое, противоположное тому положение. Это был своего рода тюремный софист и Мефистофель. Казалось, он играл своими собеседниками, как кошка с мышью, и часто, начав, по-видимому, вполне серьезный разговор, шедший в унисон с общими мнениями, незаметно ни для кого доводил его до таких явных абсурдов и шутовских несообразностей, что собеседники только рты разевали и, глядя на него как бараны, не знали, смеяться ли им или сердиться… Так, он пресерьезно расказывал однажды, как во время жатвы за какое-то оскорбление на него напали тридцать две бабы и сначала здорово-таки побили его, но как потом он извернулся и, схватив лежавший поблизости кол, десять из них убил до смерти, десяти другим выколол глаза, еще нескольких изувечил другим способом, и только очень немногим удалось спастись живыми и невредимыми. Рассказывал он эту историю с такими реальными подробностями, с таким живым и вместе страшным юмором, что положительно трудно было сказать (особенно при первом впечатлении), все ли было в ней вымыслом или же таилось и зерно правды. Когда над Соколовцевым начинали смеяться и говорить, что он опять "заливает", он ничуть не обижался и сам лукаво посмеивался – неизвестно, впрочем, над кем: над собой или над слушателями. Внутренняя ли сила, чуявшаяся в этом человеке, громкая ли слава или что другое, но, несмотря на свое несомненное "заливанье" и "ботанье", Сокольцев, повторяю, считался одним из серьезнейших арестантов, из таких, которые при случае ни перед чем остановятся и ни над чем не задумаются. Раз я сам слышал рассказ Сокольцева о том, как, скитаясь по бродяжеству, голодный как собака и без гроша денег, он придушил попавшуюся навстречу старушку богомолку и нашел у нее… сорок копеек денег.
– Ну, ты, должно быть, и теперь как собака жрать хочешь, коли такие пули отливаешь, – заметил на это один из его приятелей, тоже серьезный арестант, – надо, видно, чаем тебя напоить, меньше врать будешь.
Сокольцев засмеялся в ответ своим обычным бархатным смехом, и я так и остался в недоумении, точно ли он убил богомолку или сейчас только придумал это ради красного словца.
Зато не раз слыхал я от него и другое. Он искренно, по-видимому, негодовал на тех бродяг, которые за копейку готовы совершить самое ужасное преступление, целую семью вырезать.
– Я варвар, – говорил он, бывало, в таких случаях, – такой варвар, каких, может быть, и свет мало видывал; а только я соглашусь лучше с голоду помереть, чем убить человека за одежу или за пять рублей денег. Другое дело из мести или за большой капитал, который сразу даст случай кадило раздуть на дорогу стать.
Такой именно репутацией и пользовался он среди товарищей, несмотря на все свои "заливанья" и выдумки о прошлой своей жизни. Послушать Сокольцева всегда бывало любопытно; но отталкивала меня одна его черта: это был страшный, утонченный циник, и распущенный язык его не имел соперников себе во всей тюрьме… Ему в этом отношении нравилось доходить до геркулесовых столбов, и часто, начав рассуждать вполне разумно и благородно, он переходил неожиданно к таким пошлостям и мерзостям, что отпугивал половину даже своих неразборчивых и охочих до всякого цинизма слушателей.
Для каждого было ясно, что такой человек не имеет в виду спокойно отсиживать в Шелайской тюрьме свой бесконечный срок и что в уме его бродит постоянная забота о побеге или по крайней мере о переводе в другую, более вольготную тюрьму. Однажды я спросил Сокольцева, полагается ли ему вольная команда и когда именно указана она в его "квитке" (так зовется билет, выдаваемый каждому арестанту, с расчислением его срока). Сокольцев, смеясь, отвечал, что немедленно же уничтожил квиток, как только получил его, не полюбопытствовав даже узнать, что в нем написано.
– Почему так?
– А на что мне вольная команда?
– Как на что? Оттуда уйти можно, а из тюрьмы не так-то легко ведь.
Нет, ни к чему мне команда, – отвечал, немного подумав, Сокольцев. – По моему разуменью, из тюрьмы уйти духовому человеку даже много легче. Тут уж на себя одного надеешься, ухо востро держишь. А тому, который легкого обороту себе ищет, вольной команды ждет, цена грош. Ничего такой человек не стоит.
Ответ был красив и замысловат, но, должно быть, не так-то легко было подтвердить его фактами. Из вольной команды то и дело убегали арестанты, человек по десяти каждое лето (даже при шелайской малочисленности команды), а из тюрьмы не было пока ни одной серьезной попытки к побегу. Охрана тюрьмы действительно была обставлена прекрасно, и большинство серьезных арестантов с безнадежно огромными сроками на плечах мечтало больше о предварительном переводе в другие тюрьмы, чем о побеге из Шелайского рудника. Ниже я посвящу этому предмету особую главу, теперь скажу только о Сокольцеве, что при всем его уме и скрытности выплыло одно дельце, показавшее всем, что и он мечтал о том же. Превосходный столяр и мебельщик, Сокольцев постоянно работал в мастерской, находившейся за тюремной оградой; кроме него, работали еще два человека: слесарь Заботкин из вольной команды и сидевший в тюрьме бондарь Калинчук. Явившись однажды в мастерскую, Сокольцев обнаружил признаки большого волнения.
– Ты не знаешь, куда подевались мои пилки? – обратился он шепотом к молодому бондарю.
– Какие пилки? – спросил тот удивленно.
– Мои… секретные пилки… Значит, все открыто. Какая-нибудь сука донесла!
– Я и не знал даже. Откуда мне было знать?
– Об тебе я и не говорю ничего. Тут один только человек мог. Один он и знал, кроме меня. Как ведь хорошо запрятаны были. Непременно донос!
– Кто же это? Неужто Заботкин?
Сокольцев пожал плечами и ничего не ответил.
– Что ты? Такой человек? Да ведь он твой товарищ, закадычный?
– Вот тебе и товарищ. Нынче ни на кого, брат, положиться. Если хочешь знать, так я давно уже подозрение имел, что он – сука.
– Вот подлец! Вот мерзавец! – негодовал Калинчук, и скоро вся тюрьма знала, что у Сокольцева найдены в мастерской пилки и что донос сделан Заботкиным. Пилки действительно оказались в руках начальства. В тюрьме произведен был вскоре обыск, и в подстилке Сокольцева также оказались зашитыми две маленькие пилки. Надзиратели как только вошли в камеру, так и бросились тотчас же к его подстилке. Донос "е подлежал сомнению. Заботкина костили и так и этак, клялись и божились, что если только случится ему когда-нибудь вернуться в тюрьму, поломают ему ребра.
Сокольцев ничего не говорил, но и он был, казалось, озлоблен.
Ждали, что Шестиглазый подвергнет его суровой каре; но он ограничился почему-то тем, что во время обыска проверил прочность тюремных решеток и усилил ночные дозоры под окнами. Прошло после этого случая полгода, и Заботкина действительно посадили в тюрьму за какие-то художества. Все с любопытством наблюдали, как встретит его Сокольцев, имевший больше всех право мстить ему. Но каково же было общее изумление, когда увидали, что он не только простил Заботкину, но и снова с ним подружился, стал вместе пить и есть. Для всех, даже самых непроницательных, стало тогда ясно, что если донос и был сделан, то… по просьбе самого же Сокольцева, который хотел запугать Шестиглазого и побудить его выпроводить себя в другую тюрьму; но хитрость не удалась, и его оставили в Шелайском руднике, окружив только более зорким присмотром. Молодой и горячий Калинчук страшно к открыто негодовал на Сокольцева за столь нахальный обман; что касается остальной шпанки, то, выкинь подобную штуку другой, менее знаменитый и уважаемый арестант, на него бы все ужасно озлились. Но Сокольцев был Сокольцев, и никто даже словом не смел попрекнуть его. Все постарались поскорее выбросить из головы эту историю, а в глазах многих Сокольцев благодаря ей даже еще больше возвысился. Мне лично она показала только лишний раз, что человек этот для своего спасения или выгоды не побрезгует никакими средствами, не пощадит ни друга, ни недруга.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.