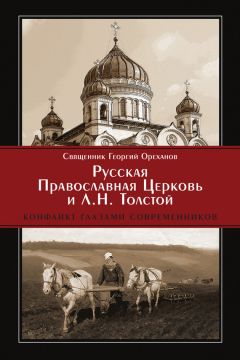
Автор книги: Протоиерей Георгий Ореханов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Для подхода, представителем которого является архим. Киприан, свойственно трезвенное понимание двойственной природы творчества, его трагического характера в тварном мире, постоянного балансирования между Божественной Красотой и лжекрасотой, темной красотой, между благословенным и неосвященным творчеством, между соблазном слишком оптимистической переоценки культуры и придания ей статуса вечной и абсолютной ценности и, наоборот, соблазном лжесмиренного благочестивого отвержения культуры, тотального ее неприятия.
Учитывая эти замечания, мы можем подвести некоторый промежуточный итог: происходившая в XVIII в. под флагом европеизации дворянской элиты модернизация русской культуры в ходе Петровских реформ дала секуляризационным процессам мощный толчок, привела к возникновению образованного общества, ориентированного прежде всего на светские, временные, а не вечные цели и ценности, сформировавшиеся в западной культуре главным образом в эпоху Возрождения и Просвещения.
Существенно при этом то, что провести четкую границу между двумя сообществами – церковным и секулярным – не представляется возможным. Два мировоззрения в разных пропорциях и сочетаниях смешивались в каждом конкретном индивидуальном сознании, тем самым секулярные идеалы тем или иным образом проникали в Церковь, а элементы церковного сознания так или иначе сохранялись в образованном обществе: «Обе культуры живут в состоянии интрамолекулярного взаимодействия. Начавшись революционным отрывом от Руси, двухвековая история Петербурга есть история медленного возвращения»[62]62
Федотов Г. Трагедия интеллигенции // О России и русской богословской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 421.
[Закрыть].
Именно в этом контексте возникает важнейший феномен истории русской культуры XIX в. – человек «нового типа», русский интеллигент, носитель нового сознания, которое характеризуется рядом признаков, связанных с определенными нравственными, политическими, культурными и религиозными установками. Этот тип личности в значительной степени возникает в Екатерининскую эпоху (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев), но, по согласному представлению большинства исследователей, формируется в 40-60-е гг. XIX в. и находит отражение в произведениях русской классической литературы.
Было бы исторически несправедливо оценивать мотивацию представителей этого движения только в негативе, обвиняя их в стремлении в первую очередь реализовать радикальную общественно-политическую программу: существовал и другой мотив, желание преобразить окружающую жизнь. Однако в конечном счете следует констатировать, что русская интеллигенция – это тот самый «передовой класс» русской секулярной (т. е. светской) культуры, о котором говорит прот. В. Зеньковский: класс, который вызвался осуществить неблагодарную, по сути, историческую задачу – вытеснение Церкви из жизни общества. Главный ориентир, который будет одушевлять деятельность представителей этой в очень условном смысле общественной прослойки, – идея построения «счастливой» жизни здесь, на земле, но без Бога. Это и есть кредо русско-европейского секуляризма, окрашенное в своеобразные тона, имеющее своеобразную религиозно-мистическую (нецерковную) составляющую, очень своеобразный «религиозный имманентизм», характеризующийся духом утопизма, романтизма и мечтательности[63]63
См.: Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 82–83.
[Закрыть].
Французский исследователь М. Конфино в 1972 г. справедливо заметил, что термин «интеллигенция» допускает несколько различных толкований, но по совершенно неопределенным признакам, которые можно обозначить скорее «апофатически», т. е. легче сказать, чем русская интеллигенция не является: ни по экономическим, ни по классовым, ни по имущественным признакам определить эту общественную прослойку не удается. Это действительно прослойка, но какого сорта? «Ее нельзя определять с точки зрения профессиональной принадлежности своих членов; некоторые ее вовсе не имеют, а многие профессии в ней не представлены. Принадлежность к этой группе не может определяться уровнем образования – это ряд широкого спектра, от самоучек до университетских профессоров; но, разумеется, не все самоучки и тем паче университетские профессора были непременно членами этой прослойки. Она не может быть описана и с идеологической точки зрения – многие ее члены были радикалами различных мастей, но не все были революционерами; представлены там и либералы, но далеко не все»[64]64
Цит. по: Живов В. М. Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // URL: http://www.krotov.info/history/00/zhivov/zhivov_03.html [22.06. 2008].
[Закрыть].
Говоря о русской интеллигенции, мы сталкиваемся с принципиальными трудностями методологического характера уже на стадии определений. Сколько-нибудь исчерпывающее исследование вопросов, связанных с историей этой прослойки, увело бы данную монографию очень далеко от ее предмета. Поэтому мы не будем останавливаться на подробном и содержательном анализе категории «русская интеллигенция»[65]65
Тем не менее мысль М. Конфино требует комментария хотя бы в сноске. Точка зрения французского исследователя находит подтверждение у Г. Федотова, который подчеркивает, что в случае интеллигенции мы не имеем дело с какой-то профессиональной категорией, – например, «люди умственного труда», les intellectuels, которому соответствует немецкое die Intellektuelle (Федотов Г. Трагедия интеллигенции // О России и русской богословской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 406; см. также: Гаспаров М. Л. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Русская интеллигенция. История и судьба. М., 2001. С. 6 и далее). В этой статье очень подробно рассмотрены этимология понятия «интеллигенция» и крайне интересный путь трансформации этого понятия: сначала «служба ума», затем «служба совести», затем «служба воспитанности»: «Русская интеллигенция была западным интеллектуальством, пересаженным на русскую казарменную почву. Интеллигенция есть часть народа, занимающаяся умственным трудом и только в силу исторических неприятностей берущая на себя дополнительную заботу: политическую оппозиционность» (там же. С. 9, 11). Эта оппозиционность не есть просто банальный протест, она имеет выраженную нравственную окраску, несет в себе «социальную функцию общественного самосознания» (Степанков Ю. С. «Жрец» нарекись и знаменуйся: «жертва» (к понятию «интеллигенция» в истории российского менталитета) // Там же. С. 20). Таким образом, намечаются две тенденции трактовки термина «интеллигенция». С одной стороны, это люди интеллектуального труда, для которых главной жизненной ценностью является именно интеллектуальное творчество. С другой – это представители определенного общественного движения. Эту мысль подчеркивает в «Вехах» и П. Б. Струве: именно в 60-е гг. XIX в., в период бурного развития журналистики и публицистики, «интеллигенция» отделяется от образованного класса (см.: СтрувеП. Б. Интеллигенция и революция // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 [репринт издания 1909 г.]. С. 138). Однако характерно, как замечает П. П. Гайденко, что у веховских авторов нет взаимопонимания по поводу исторического происхождения интеллигенции: С. Н. Булгаков в своей статье ведет ее начало не от реформ Александра II, а от преобразований Петра I (см.: Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001. С. 414). Очень интересный и содержательный анализ понятия «интеллигенция» дан в статье: Резниченко А. И., Резвых Т. Н. Интеллигенция как quantite negligeable: два опыта забвения смысла слова: Рождение intelligentia из духа интеллигенции // Сборник «Вехи» в контексте русской культуры. М., 2007. С. 76 и далее. Рассматривая этимологию латинского intelligentia, авторы приходят к выводу, что это понятие претерпело в XIX – начале XX в. несколько трансформаций – от «образованная, культурная часть общества», которая консолидировалась в единую группу к 30-40-м гг. XIX в., до группы «партийных» отщепенцев, интересы которых противопоставляются интересам народа. Только в сборнике «Вехи» предпринимается попытка преодоления этой тенденции.
[Закрыть].
Безусловно, мы имеем дело с людьми, которые имеют определенные идеалы – личные и общественные. Согласно Г. Федотову, сочетание именно двух факторов – «идейность» и «беспочвенность» – и составляет исчерпывающее определение интеллигенции. Поэтому интеллигенция легче воспринимает рациональную этику Л. Н. Толстого, чем проповедь православия Ф. М. Достоевского, хотя Толстой явился разрушителем именно тех культурных ценностей, которые для интеллигенции были святы и дороги: в этом разрушении она находит для себя «беспочвенную почву», а само толстовство приобретает чисто интеллигентский характер[66]66
Федотов Г. Трагедия интеллигенции // О России и русской богословской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 408409.
[Закрыть].
Другими словами, интеллигенция не может иметь сословных ограничений, легче определить ее через ее отношение к другим социальным явлениям и группам. С этой точки зрения можно констатировать только, что «в шестидесятые годы возникает новая культурная парадигма, и именно эта парадигма, а не происхождение или возрастные параметры, объединяет ту группу людей, которую можно назвать первым поколением интеллигенции»[67]67
Живов В. М. Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // URL: http://www.krotov.info/history/00/zhivov/zhivov_03.html [22.06.2008].
[Закрыть]. Однако, как указывает В. М. Живов, уже в следующем десятилетии эта парадигма претерпевает трансформацию, спектр субпарадигм становится очень широким – от умеренного оппозиционного либерализма до народничества и терроризма.
Внутри интеллигенции в определенный момент происходит важный и трагический идейный разрыв – на творчески и философски мыслящее меньшинство, сохранившее стремление к глубокому религиозному поиску (который приводит еще позже к дальнейшему разделению – на тех, кто вернется в Церковь, и тех, кто будет мечтать о «новом религиозном сознании», хотя, конечно, это неточная классификация – была значительная корреляция этих групп, особенно в начале XX в.), и либеральных разночинцев, проповедующих опрощенчество. Но генеалогически все эти субпарадигмы восходили к «шестидесятничеству». Именно поэтому так быстро была подготовлена почва для перехода к тотальному морализму следующего десятилетия, «когда слово «идеал» стало самым употребительным и заманчивым, когда говорили всего больше о «долге» и о «жертвах». Это была только новая вариация на прежнюю тему», а «религиозной тоске и боли противопоставляли так часто самый плоский и невежественный рационализм»[68]68
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 288.
[Закрыть].
Таким образом, моральная проповедь Л. Н. Толстого легла на подготовленную почву. С этой точки зрения применительно к проблеме общественного восприятия христианских мотивов философского творчества Л. Н. Толстого главный вопрос заключается в следующем: в какой культурной среде это творчество родилось, какие факторы содействовали его восприятию, каков церковный взгляд на это творчество?[69]69
Отдельные аспекты данного вопроса, но в совершенно иной постановке затронуты в первой главе монографии Е. В. Николаевой «Художественный мир Льва Толстого, 1880-1900-е годы» (М., 2000), а также в очень содержательной работе немецкого исследователя: Dieckmann E. Russische Zeitgenossen йЬег Tolstoj. Berlin; Weimar, 1990.
[Закрыть]
По-другому вопрос может быть сформулирован следующим образом: кто были читатели Л. Н. Толстого? Ведь то, что можно назвать «религией Толстого» (выражение авторов известного сборника 1912 г.), возникло в определенном круге идей, в определенном интеллектуальном климате и воспринималось также через определенный круг идей и понятий. То, что мы называем «читающей публикой» или просто публикой, есть сложный социальный конгломерат, состоящий в первую очередь из представителей дворянского сословия и разночинцев. Не последнюю роль сыграли здесь и представители духовного сословия, точнее, их потомки – им в значительной степени принадлежит «заслуга» в формировании указанной выше культурной парадигмы.
Идеи Л. Н. Толстого были отражением духовных и культурных поисков его времени. Более того, Л. Н. Толстой проговаривал вслух то, о чем другие предпочитали молчать или «шептать»: неоднократно в своих сочинениях писатель подчеркивает, что его мысли (в первую очередь антицерковные) разделяются всем русским образованным обществом и даже всем мировым образованным сообществом.
Конечно, выступление Л. Н. Толстого было настоящим бунтом против Церкви, но в этом бунте содержался ответственный для Церкви, церковной догматики и религиозного мировоззрения в целом вызов. «Почему вы, христиане, не живете по заповедям Христа?» – вот вопрос, который задавал Л. Н. Толстой. И если бы его трактаты содержали только критику христианского богословия, они остались бы незамеченными. Но произведения писателя, созданные после религиозного перелома, затрагивали самые глубокие, самые заветные духовные и нравственные мотивы русской жизни, они имели особую тональность, которая в первую очередь создавалась жгучим социальным пафосом, чувством вины перед народом и необходимостью религиозного переосмысления этой вины. По всей видимости, прав был Н. А. Бердяев, указывая, что «Толстой уловил и выразил особенности морального склада большей части русской интеллигенции, быть может, даже русского человека-интеллигента, может быть, даже русского человека вообще», и именно в творчестве Л. Н. Толстого произошла ставшая роковой для России встреча «русского морализма с русским нигилизмом»[70]70
Бердяев Н. А. Духи русской революции / Из глубины: Сб. // URL: http:// www.vehi.net/berdyaev/duhi.html [26.10.2009]. Еще раз подчеркнем при этом важность замечания, сделанного архиеп. Иоанном (Шаховским): социальная проповедь писателя при всей своей глубине и актуальности представляет собой сложную смесь правды с ложью, причем эта смесь очень своеобразна – в социальной правде всегда присутствует религиозная неправда, наоборот, в религиозной неправде есть ростки христианской и художественной правды, не дающие толстовскому дереву увять окончательно: «Религиозная неправда Толстого утверждалась его удивительной художественной правдой. Ею он увидел многие язвы и раны современного ему общества» (Иоанн (Шаховской), архиеп. К истории русской интеллигенции. (Революция Толстого). М., 2003. С. 209, 235).
[Закрыть].
Именно поэтому встреча Л. Н. Толстого с интеллигенцией не была случайной – следует учитывать еще одно важное обстоятельство, на которое обращает внимание С. Л. Франк: исторически в русской культуре практически вся духовная энергия, черпаемая в православии, шла не в дело «внешнего жизненного строительства», «морального, государственного и гражданско-правового воспитания», а «в глубь религиозного развития духа, почти не определяя эмпирическую периферию жизни»[71]71
Франк С. Л. Религиозно-исторический смысл русской революции // Франк С. Л. По ту сторону правого и левого. Париж, 1972. С. 28–29.
[Закрыть]. Тенденция отрицания государства, права и культуры исторически всегда в России была определенно выражена и при неблагоприятных сценариях время от времени разрешалась рецидивами «русского бунта», протеста и раскола. Одним из таких рецидивов становится толстовство, логическим завершением которого, как указывают некоторые авторы сборника «Из глубины», вышедшего в 1918 г., и стала большевистская революция 1917 г. При этом еще раз следует особо подчеркнуть, что ни по происхождению, ни по воспитанию, ни даже по образованию Л. Н. Толстой не был типичным представителем интеллигенции.
В связи с этим возникает вопрос: какими конкретно чертами можно охарактеризовать мировоззрение русского образованного человека второй половины XIX в.? Это мировоззрение характеризуется рядом важных особенностей, каждая из которых имеет принципиальное значение при анализе вопроса о генезисе и восприятии богословского творчества Л. Н. Толстого.
Протестный характер мировоззрения. В 60-е гг. XIX в. происходит процесс формирования антиэлитарной культуры, носившей характер отталкивания от традиции, протеста, в значительной степени протеста молодежного, стремления «сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал». Этот протест возник в значительной степени под влиянием идей В. Г. Белинского, Д. И. Писарева, Н. Г. Чернышевского, М. А. Бакунина и определял социальную позицию протестующей «учащейся молодежи» (ср. выражение С. Н. Булгакова «духовная педократия», которую он считает «величайшим злом нашего общества», в его веховской статье «Героизм и подвижничество»[72]72
Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 [репринт издания 1909 г.]. С. 47.
[Закрыть]).
В первую очередь протест носил характер «безусловного примата общественных форм»[73]73
Гершензон М Предисловие // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 [репринт издания 1909 г.]. С. 4.
[Закрыть], антисистемного сопротивления, но им не исчерпывался: «Здесь мы находим и новые моральные принципы (незаслуженное богатство порочно, труд создает достоинство человека), и отказ от “условностей” элитарной культуры (светского общества), и утверждение равенства женщин, и поклонение науке, и конкретные формы поведения (фиктивный брак, создание артелей, полезное чтение, скромная одежда, подчеркнутая прямота речи и т. д.)»[74]74
Живов В. М. Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // URL: http://www.krotov.info/history/00/zhivov/zhivov_03.html [22.06.2008].
[Закрыть].
Таким образом, оппозиционность по отношению ко всем остальным элементам общества, «принципиальная оппозиционность к доминирующим в социуме институтам»[75]75
Успенский Б. А. Русская интеллигенция… С. 398. Логическим завершением протестного движения, как известно, стал социализм, в котором многие особенности мировоззрения русской интеллигенции отразились ярко и выпукло. Блестящую характеристику этого явления дает В. В. Розанов в комментариях к своей переписке с Н. Н. Страховым, где он говорит о социализме как о раке русской истории. Главная характеристика этого движения – равнодушие к общественным делам, равнодушие к тому, «крепки ли мосты в нашем уезде», «не попадает ли лен, превосходно родящийся у крестьян, в руки евреев-скупщиков», «есть ли у нас в уездном городе порядочная библиотека», «соответствуют ли учебные заведения уезда нуждам, быту и уровню образования его мещанства, купечества и крестьянства», – и пылающая занятость ума, сердца и воображения тем, «что будет в России через сто или двести лет, не будем ли мы все 17-летними Сократами <…> будем построять новую Афинскую республику, с архонтами, членами Совета, «отнюдь без губернаторов и без царя», – и эта республика будет все читать Писарева и Чернышевского, рубить топором иконы, истреблять «лишних паразитов» («Пчелы» Писарева), т. е. всех богатых, знатных и старых, а мы, молодежь, будем работать на полях бархатную, кем-то удобренную землю и растить на ней золотые яблоки, которые будут нам родиться «не как при старом строе». И – мир на всей земле, и – песни по всей земле» (Розанов В. В. Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев. М., 2001. С. 64. Примеч. 1).
[Закрыть], и в первую очередь к власти русского императора, – важнейшая мировоззренческая характеристика интеллигенции. Как подчеркивает В. Вейдле, это тотальный протест против того, что носит название «официальная Россия», «ко всей политической и социальной структуре страны»[76]76
Цит. по: Хейер Э. Религиозный раскол в среде российских аристократов в 1860-1900-е гг. (редстокизм и пашковщина). М., 2002. С. 15.
[Закрыть].
Однако здесь важно отметить и другой аспект оппозиционности: протест против церковных принципов и установлений. Эпоха Просвещения завещала своим наследникам новое отношение к смерти, которое в пределе превращается в философию героического самоубийства, наиболее последовательно реализованную на практике А. Н. Радищевым и особенно И. М. Опочининым, возможно, первым русским философом-атеистом[77]77
См. подробнее: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 2002. С. 215–220. Предсмертное письмо И. М. Опочинина напечатано: Исторический вестник. 1883. Январь.
[Закрыть].
Именно протест находит такое законченное выражение в творчестве Л. Н. Толстого. Оно носило характер оппозиции по отношению и к государственной системе в целом, и к составляющим ее государственным институтам, и к Церкви.
Это определяющее свойство интеллигенции составляло ее главную беду, которая обозначена Л. А. Тихомировым как бесплодная разрушительность: по своим «книжным идеалам» интеллигенция оторвана от отечества, по внутренней психологии связана с ним тысячелетней историей, поэтому ее «освободительная» работа никого не освобождает, а только «подрывает, разрушает, деморализует народ» и тем самым еще больше порабощает его. Это воистину «трагедия алкания добра и совершения зла»[78]78
Тихомиров Л. А. Национальный пророк интеллигенции // Вече: Альманах русской философии и культуры. Вып. 1. СПб., 1994. С. 107.
[Закрыть]. Так рождается отщепенство – специфический феномен русской жизни, в первую очередь отчуждение именно от государства.
П. П. Гайденко отмечает большую методологическую сложность, в первую очередь, как было сказано выше, связанную с попыткой описать интеллигенцию по формальным признакам, ведь в каком-то смысле (по душевному складу, жизни и быту) интеллигентами были А. П. Чехов, В. С. Соловьев, Ф. М. Достоевский. Таким образом, возникает вопрос, правомерно ли отождествлять в целом русскую интеллигенцию с ее леворадикальным крылом, «в самом деле терроризировавшим общественное мнение и задававшим тон в обществе»[79]79
Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001. С. 416, см. также с. 427.
[Закрыть]. Тем не менее оппозиционность является здесь действительно определяющим фактором: Н. А. Бердяев уже после революции 1917 г. указывал, что «пробуждение русского сознания и русской мысли было восстанием против императорской России»[80]80
Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской богословской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. C. 64. В определенной степени именно на этой почве рождается идея обновления Церкви, которая долгое время находилась в тесном союзе с режимом. Церковное обновление, во всяком случае, в том варианте, как это представлялось в начале XX в., – типично интеллигентская идея: изменение не внутри себя, а вне.
[Закрыть].
Оппозиционность – важнейшая характеристика не только квазиполитической публицистики Л. Н. Толстого, но и его богословской системы: и по отношению к учению Церкви, и по отношению к каноническому, т. е. общепринятому, тексту Евангелия, и даже по отношению к образу Христа, ведь не случайно уникальность Его Личности в поздних сочинениях Л. Н. Толстого фактически полностью игнорируется и растворяется в среде знаменитых проповедников-моралистов.
Именно антигосударственный и антицерковный характер проповеди Л. Н. Толстого является одной из главных (но далеко не единственной) причин ее популярности. Критическое отношение интеллигенции к «правящему режиму» было настолько акцентированно, что любое антиправительственное выступление, особенно если оно исходило от столь авторитетного лица, как Л. Н. Толстой, принималось с восторгом, о чем говорит в своем дневнике, например, И. А. Бунин: «Даже знаменитая “помощь голодающим” происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была»[81]81
Бунин И. А. Окаянные дни: Воспоминания. Статьи. М., 1990. С. 101.
[Закрыть].
Эта мысль ярко иллюстрируется и воспоминаниями известной деятельницы партии кадетов А. Тырковой-Вильямс, которая указывает, что в конце XIX в. в России Толстой-проповедник (а не художник!) был «одиноким великаном, единственным духовным вождем эпохи затишья пред бурей», который не стал учителем жизни, но при этом «литографированные тетради с его запретными сочинениями были единственной подпольной литературой 80-х годов»[82]82
Тыркова-Вильямс А. Воспоминания. М., 1998. С. 198–199.
[Закрыть].
Однако проблему не следует упрощать: нигилизм Л. Н. Толстого имеет очень сложную основу – он генетически тяготеет к идеям Просвещения и руссоистской диаде «природа – культура» и тесно связан с «первичным эстетико-метафизическим ощущением», противопоставлением «настоящего» человека человеку «кажущемуся», маске, двойнику, рожденному в сложном процессе воздействия государства и культуры на душу человека. Поэтому протест против лжекультуры, превращающей личность в актера, имеет своим источником не столько этические соображения, сколько ощущение, переживание сущности человеческой души, противостоящей именно в своих глубинах всему сознательному, целесообразному, лежащему на поверхности жизни и превращающей жизнь человека во что-то мелкое, ничтожное, иллюзорное, лицемерное и лживое[83]83
См.: Франк С. Л. Лев Толстой как мыслитель и художник // Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. C. 468–469.
[Закрыть]. Именно в творчестве Л. Н. Толстого противостояние природы и культуры достигает своего апогея.
Поэтому было бы ошибкой утверждать, что только нигилистический пафос и протест роднят Л. Н. Толстого с русской интеллигенцией: здесь присутствуют и «полюс притяжения» – восторженное отношение к художнику, с беспощадностью варвара снимающему покровы с тайников человеческой души, и «полюс отталкивания» – неприятие писателем всего, что так дорого «образованному меньшинству», в первую очередь резко выраженной установки на социальные преобразования.
Комплекс вины перед народом. Под комплексом вины здесь понимается переживание интеллигенцией чувства вины перед русским народом, которое часто превращалось в своеобразное идолопоклонство, религию «народобожия» (термин прот. С. Булгакова), «праздношатайство» (Ф. М. Достоевский), хотя не исключало, безусловно, примеров высокого и самоотверженного служения народу.
Как указывает Ю. М. Лотман, впервые в русской литературе трагическое мироощущение разрыва между дворянством и народом было выражено А. С. Грибоедовым в прозаическом отрывке «Загородная поездка», в которой представители дворянства были названы «поврежденным классом полуевропейцев», причем Грибоедов с горечью подчеркивал, что сам принадлежит к этому классу: «Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими!»[84]84
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 2002. С. 109–110.
[Закрыть]
Действительно, жизнь интеллигенции, по образному выражению Г. Федотова, оказывается «расплющенной между молотом монархии и наковальней народа»[85]85
Федотов Г. Трагедия интеллигенции // О России и русской богословской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 434. Представляется, что оппозиция «интеллигенция – народ» есть проявление некой раздвоенности русской культуры, «антиномизм русской ментальности», который особенно ярко актуализировался после петровских преобразований и для которого характерно противопоставление старого и нового, реализующегося в различные исторические эпохи именно в ряде оппозиций («образование и невежество», «интеллигенция и народ», «наука и религия», «светскость и религиозность» и т. д.) (Климова С. М. Антиномизм как образ эпохи: Л. Н. Толстой и П. Флоренский // На пути к синтетическому единству русской культуры. Философско-богословское наследие П. А. Флоренского и современность. М., 2006. С. 86). В. В. Кожинов подчеркивает, что на самом деле эта двойственность выполняет в русской истории совершенно определенную функцию: интеллигенция тяготеет к роли своеобразной посредницы между народом и властью (см.: Кожинов В. В. Попытка беспристрастного размышления об интеллигенции // Русская интеллигенция. История и судьба. М., 2001. С. 120).
[Закрыть], именно поэтому сама интеллигенция в этом смысле действительно является прослойкой, ибо в первую очередь осмысляет себя по отношению к власти и народу. Власть и народ – «координаты семантического пространства, положительный и отрицательный полюсы»[86]86
Успенский Б. А. Русская интеллигенция… С. 396. По замечанию Б. А. Успенского, оппозиция «интеллигенция – царь» могла возникнуть в новейшей русской культуре достаточно поздно – только после появления в ней типологии царя при императоре Николае I. До этого момента мы можем говорить не об оппозиционности режиму, самой идее власти, а об оппозиционности конкретной личности, являющейся носителем царской власти (таковы по своему происхождению конфликты Н. И. Новикова и А. Н. Радищева с императрицей Екатериной II) (см.: Там же. С. 399).
[Закрыть] этого пространства. Интеллигенция противопоставляет себя власти, борется с ней, и она же служит народу.
«Богословие» Л. Н. Толстого носит ярко выраженный социальный характер, оно как бы облачается в социальную оболочку, его нерв связан в первую очередь с идеей служения народу, облегчения его страданий: писатель умел со всей силой своего таланта ставить действительно жгучие вопросы социальной этики, будить совесть, вспоминать об униженных и оскорбленных. Можно было бы сказать по-другому: социальный надрыв – это ядро мировоззрения писателя, которое облекается в псевдобогословскую оболочку.
По единодушному признанию современников Л. Н. Толстого, никто не смог с такой убедительностью обратить внимание на русское горе. Н. О. Лосский делает вывод, что главная заслуга Л. Н. Толстого состоит именно в этом: великий русский писатель, по мнению философа, несет в мир идею бытовой демократии (в отличие от демократии политической, выработанной в Западной Европе), т. е. того, что основано «на непосредственной симпатии человека к человеку» и возможно «только в той стране, где есть Платоны Каратаевы, капитаны Тушины, Пьеры Безуховы»[87]87
Лосский Н. О. Толстой как художник и мыслитель // Современные записки. Париж, 1928. № 37. С. 241.
[Закрыть].
Именно поэтому, игнорируя самые принципиальные возражения богословского характера, прибегая к недопустимому в серьезных исследованиях способу бездумного исправления евангельского текста, Л. Н. Толстой заключает проповедь Христа в жесткие социальные рамки: как известно, с его точки зрения, центром Евангелия является не Воскресение Спасителя, не догматическое учение Господа, не Его чудеса, не учение о Святом Духе и молитве, а Нагорная проповедь, действительно имеющая выраженную социальную окраску, но, впрочем, только к социальной проблематике не сводимая.
Здесь же присутствует и настойчивое стремление «народную веру», «народное разумение» сделать критерием всякой истины – «здравый смысл» всегда лучше философского рассуждения, или, как полагал Д. Писарев, «чего не может понять сразу и без подготовки любой человек, то заведомо есть излишество и вздор»[88]88
Цит. по: Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 290.
[Закрыть].
Однако вот что характерно: проповедь Л. Н. Толстого, которая была совершенно понятна психологически, именно в социальной сфере не принесла никаких видимых, практических плодов, плодов, на которые рассчитывал ее автор, – изменения морального и религиозного климата в обществе. Это связано еще с одной особенностью интеллигентского сознания, которую подчеркивал С. Л. Франк: русский интеллигент всегда «сторонится реальности, бежит от мира, живет вне подлинной, исторической, бытовой жизни, в мире призраков, мечтаний, благочестивой веры»[89]89
Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 [репринт издания 1909 г.]. С. 177–178.
[Закрыть]. Это и есть своеобразный «синдром Крафта», основная характеристика которого – страстное переживание идей вместо реального переживания жизни[90]90
См.: Климова С. Феноменология святости и страстности в русской философии культуры. СПб., 2004. С. 215. Крафт – герой романа «Подросток» Ф. М. Достоевского, который застрелился от невозможности жить с мыслью о второстепенной роли России во всемирной истории. См. статью В. В. Розанова «Возле «русской идеи» (Розанов В. В. Среди художников. М., 1994).
[Закрыть]. Именно поэтому чувство «неправедного обладания» собственностью и культурой не реализуется в позитивной программе – оно становится одной из самых важных «переживаемых» идей, но практически в реальной жизни приводит к отвержению культуры и истории.
На этой почве возникает комплекс «отщепенства», о котором так много писал Ф. М. Достоевский: интеллигентные слои русского общества – «чужой народик, очень маленький, очень ничтожненький» (ДПСС. Т. 22. С. 98). Отщепенство – то, что разделяет интеллигенцию и Л. Н. Толстого: он всегда был далек от ее «нищенства», духовных скитаний и духовного бродяжничества, бесплодности, «бездомности» (в том числе и буквальной), «полусемейности», непонимания быта, безродности. В этом смысле стоит обратить внимание на глубокое противопоставление «корневиков» Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого «отцу русской интеллигенции» В. Г. Белинскому, данное В. В. Розановым в статье «Белинский и Достоевский»[91]91
Розанов В. В. Белинский и Достоевский // Наше наследие. 1991. № VI (24).
[Закрыть].
Правда, говоря о практической и социальной бесплодности усилий Л. Н. Толстого, необходимо учитывать одно чрезвычайно важное исключение – его проповедь, безусловно, способствовала росту социального протеста, потому что была созвучна знаменитому русскому максимализму, т. е. совершенно деформированному чувству необузданной свободы и независимости, потере «инстинкта действительности» (прот. Г. Флоровский), протесту против любого насилия.
И в этом заключается один из главных парадоксов проповеди Л. Н. Толстого: его религиозная и моральная проповедь, построенная на идее непротивления злу силой, современниками воспринималась именно как протест против государственного произвола и церковного «бюрократизма» и поэтому была одним из мощных революционизирующих факторов.
Панморализм. Речь здесь идет о своеобразном поиске морального идеала, причудливой трансформации христианских заповедей. Антирелигиозный настрой интеллигенции второй половины XIX в., ее атеистические установки нужно понимать правильно – свято место не должно быть пусто, так возникает восприятие романа «Что делать?» как своеобразного «евангелия», а в литературе начинаются поиски положительного героя, «образа Христа».
Мы можем говорить об имманентном присутствии в идеале русского интеллигента элементов христианской этики. При этом важно отметить, что поиск морального идеала сочетался с эсхатологической мечтой о Граде Божьем, о чаемом царстве правды, которое будет спасением человечества от земных страданий[92]92
См.: Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 [репринт издания 1909 г.]. С. 33 и далее.
[Закрыть].
Главным препятствием на пути к этому царству являются бессознательные ошибки и заблуждения или осознанная злоба отдельных людей, групп (обличение Л. Н. Толстым духовенства) или классов общества (социализм). Именно тема Царства Божьего становится одной из значительных в творчестве Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, и именно эта тема роднит их между собой и отчасти с социалистическим движением.
Эта новая этика имеет две ярко выраженные черты.
Первая – это антииндивидуализм, «христианский плюрализм» причудливо сочетается с глубоким недоверием к обособлению, которое сменяется тотальной регламентацией, настойчивым навязыванием «братства», «единства», но не единства ради истины, а «единства ради единства»[93]93
Как тут не вспомнить ставшие знаменитыми через 100 лет строки: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»?
[Закрыть]. Именно это «тотальное единство» позволило С. Л. Франку сказать в «Вехах», что морализм интеллигенции есть выражение и отражение ее нигилизма, т. е. непризнания и отрицания абсолютных объективных ценностей – религиозных, научных, эстетических и др. Безграничной и самодержавной властью над сознанием обладает только мораль, а высшим и единственным призванием интеллигента является служение народу, который фактически обожествляется[94]94
См.: Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 [репринт издания 1909 г.]. С. 155–159. См. также о связи философии Л. Н. Толстого с этикой нигилизма: Мелешко Е. Д., Каширин А. Ю. Толстовство как тип русского мировоззрения // Толстовский сборник – 2000: Материалы XXVI Международных Толстовских чтений: В 2 ч. Ч. 1: Л. Н. Толстой в движении эпох / Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого. Тула, 2000.
[Закрыть].
Что эта регламентация действительно носила тотальный характер, проявлялась даже в одежде и манере поведения, свидетельствуют воспоминания Е. Водовозовой. Она, в частности, замечает, что существовал кодекс правил, который, будучи аскетически суровым и однобоким, в то же время «с пунктуальной точностью указывал, какое платье носить и какого цвета оно должно быть, какую обстановку квартиры можно иметь и т. п. Прическа с пробором позади головы и высоко взбитые волосы у женщин считались признаком пошлости. Никто не должен был носить ни золотых цепочек, ни браслета, ни цветного платья с украшениями, ни цилиндра… Хотя эти правила не были изложены ни печатно, ни письменно, но так как за неисполнение каждый подвергался порицанию и осмеянию, то тот, кто не хотел прослыть заскорузлым консерватором, твердо знал их наизусть»[95]95
Цит. по: Живов В. М. Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // URL: http://www.krotov.info/history/00/zhivov/zhivov_03.html. Примеч. 5 [22.06.2008].
[Закрыть].
Вторая, более важная черта, уже частично отмеченная выше, – антропологический оптимизм, вера в то, что моральное перерождение всех или многих способно решить главные социальные проблемы человека. Другими словами, это непонимание и неумение точно заметить и объяснить происхождение «радикальности эмпирического зла» (прот. Г. Флоровский), недооценка того непреложного факта, что «между желанием добра и его исполнением – целая пропасть»[96]96
Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857–1903. СПб., Изд. Общества Толстовского музея. 1911. Т. 1. С. 111 (письмо гр. А. А. Толстой от 4 июня 1858 г.).
[Закрыть].
Характерно, что морально-антропологический оптимизм в человеческой истории всегда приводит к построению псевдохристианских утопий и радикально-ошибочным выводам персоналистско-социологического характера: его вечным спутником является социальный оптимизм, т. е. вера в то, что все недостатки общества принципиально устранимы – либо разъяснением и убеждением, либо путем моральной проповеди, либо переустройством общества и прямым насилием над личностью, часто под маской демократических ценностей[97]97
«Die Lust der Zerstorung ist auch eine schaffende Lust» («Страсть разрушения есть также и творящая страсть») (М. Бакунин) (см. подробнее: Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 [репринт издания 1909 г.]. С. 168).
[Закрыть]. Этот оптимизм всегда является недооценкой или непониманием того факта, что любые интеллектуальные или духовные откровения должны быть нерасторжимо связаны с догматическим видением, которое только и может быть в строгом смысле названо богословским.
С точки зрения такой оптимистической антропологии в человеке и обществе властвует не столько грех, сколько «скверна», понимаемая не онтологически, а исключительно психологически, причем ее источник имеет сугубо интеллектуальный характер – это именно непонимание жизни, которое проявляется через глупость, обман, чье-то стремление манипулировать сознанием.
Очень важной чертой этого мировоззрения, чертой, в какой-то степени определяющей и саму тенденцию к политическому утопизму, является отчаянное сопротивление утверждению Церкви о тотальной испорченности человеческой природы, отрицание догмата о первородном грехе и игнорирование его последствий. Такой подход по своему происхождению и содержанию есть ярко выдержанное пелагианство с его стойкой верой в безграничные возможности человека и человечества – и в личной сфере, и в общественной. Да, было бы очевидным заблуждением отрицать, что человек болен, но лечиться эта болезнь должна апелляцией к разуму, здравому смыслу, житейскому благоразумию, для которых нужна уже не «жизнь во Христе», «жажда вечности» («der heipe Durst nach Ewigkeit»), а понимание и морально оправданное поведение. Это не «религия Бога», а «религия добра» (Д. С. Мережковский), или, выражаясь несколько по-иному, богословие самоспасения, «гордыня праведности» (архим. Константин (Зайцев)[98]98
Зайцев К. И. Толстой как явление религиозное // Русские мыслители о Льве Толстом: Сборник статей. Ясная Поляна, 2002. С. 542.
[Закрыть].
Такая догматически беспочвенная наивность на душевно-психологическом уровне всегда разрешается тяжелыми пароксизмами уныния, депрессии и отчаяния – радости жизни во Христе противостоит «глухая, тяжелая, ползучая тоска» с элементами самолюбования[99]99
См.: ФлоровскийГ., прот. Пути русского богословия. С. 455.
[Закрыть], которая столь ярко проявила себя в последние месяцы жизни Л. Н. Толстого.
Но важно и другое. Тенденция отождествлять религию и мораль, исключая из последней метафизический элемент, приводит в конечном счете к обесцениванию веры: христианское, религиозное мировоззрение есть мировоззрение целостное, это целостный взгляд на мир, на его законы, на человека. Именно при таком подходе можно ставить вопрос о соотношении понятий «вера» и «наука», «вера» и «культура», «наука» и «чудо». Не случайно в утилитарно-моралистическом тоталитаризме Л. Н. Толстого нет места ни науке, ни культуре, ни чуду.
В произведениях Л. Н. Толстого антропологический оптимизм нашел яркое логическое завершение. В письме Н. Н. Страхову в июне 1881 г. писатель предельно четко формулирует свою мысль, указывая, что пессимистический взгляд на человеческую природу считает дурным: «Человек всегда хорош, и если он делает дурно, то надо искать источник зла в соблазнах, вовлекавших его в зло, а не в дурных свойствах гордости, невежества. И для того чтобы указать соблазны, вовлекшие революционеров в убийство, нечего далеко ходить. Переполненная Сибирь, тюрьмы, войны, виселицы, нищета народа, кощунство, жадность и жестокость властей – не отговорки, а настоящий источник соблазна»[100]100
Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: Полное собрание переписки. Т. I–II. Группа славянских исследований при Оттавском университете; Государственный музей Л. Н. Толстого, 2003. Т. II. С. 611–612.
[Закрыть]. В другом месте переписки Л. Н. Толстой указывает, что он категорически не признает «пророчества», согласно которому люди «никогда не начнут жить благодетельным разумом»; «весь и единственный» смысл своей жизни он видит в преобразовании традиционных форм жизни соответственно требованиям «любовного разума или разумной любви»[101]101
Там же. Т. II. С. 960–961.
[Закрыть]. В дневнике (17 мая 1896 г.) Л. Н. Толстой отмечает: Бог «вложил в человека Свой разум, освобождающий в человеке любовь, и все, что Он хочет, будет сделано человеком» (ПСС. Т. 53. С. 92). В другом месте: «Смысл жизни открывается человеку, когда он признает собою свою божественную сущность, заключенную в телесную оболочку. Смысл этот в том, что сущность эта, стремясь к своему освобождению, расширению области любви, совершает этим расширением дело Божие, состоящее в установлении Царства Божьего на земле» (ПСС. Т. 53. С. 53).









































