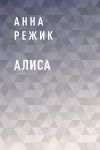Текст книги "Великое расширение"

Автор книги: Рэйчел Хэн
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Часть вторая
Бумажки и номера – для собак
Глава
13
Потянулись годы Сёнан-То. “Азия для азиатов!” – заявляли японцы, а после закалывали штыками китайских младенцев, обезглавливали солдат-индусов, накачивали малайцев водой, пока у тех не лопались внутренности. Великая восточноазиатская сфера сопроцветания[25]25
Великая восточноазиатская сфера сопроцветания – паназиатский проект, продвигавшийся японским правительством в первой половине XX века; предполагалось, что во главе него встанет Япония, а в сферу влияния войдут все страны Индокитая, Северный Сахалин, Курилы, Восточная Сибирь, Маньчжурия, Монголия, Китай, Тибет и все острова вплоть до Гавайских островов.
[Закрыть] строилась на горбу местных жителей, лепилась из их плоти, поливалась их кровью.
Судьба Па, как выяснилось, стала лишь небольшим жертвоприношением Сфере сопроцветания. Разумеется, даи кеншо – великая инспекция – была трагедией. Позже историки так и не придут к согласию, споря, скольких китайских мужчин постигла эта жестокая участь, скольких вывезли на далекие пляжи и расстреляли. Тысячи? Десятки тысяч? Где истина и где выдумка, появившаяся после войны на волне националистического синоцентризма? Как бы там ни было, души забирал прилив, а тела сваливали в неглубокие ямы, где родные никогда не найдут и не оплачут их.
И тем не менее это событие оставалось лишь небольшой засечкой, одной из многих, оставленных четырьмя годами войны. А была среди них и река, превращенная в кромешный ад, наводненная горящей нефтью с разбомбленных складов; были среди них и почерневшие головы мародеров, выставленные в клетках возле городского кинотеатра; были и малайские солдаты, которых японцы выманили обещаниями денег и бесплатного билета до дома, а потом выстроили в ряд и расстреляли; были тысячи когда-то могущественных ан мо, измученных, грязных, похожих на привидения, – их гнали в тюрьмы, а еще были умирающие от голода яванские рабочие – живыми трупами падали они возле порога, вернувшись после бесчеловечной работы домой.
Словно в доказательство того, что временем тоже можно управлять, часы перевели на полтора часа вперед. Улицы и здания переименовали, английские слова заменили японскими. В газетах и на радио появились уроки языка. Часы работы всех учреждений сократили, чтобы предоставить достойным гражданам Сёнаня возможность больше времени уделять изучению их нового, цивилизованного наречия.
За эти годы спины научились дисциплине: стоило появиться японцу в униформе, они машинально напрягались и сгибались в низком поклоне.
Китайские школы закрылись из-за подозрений – вполне обоснованных – в том, что там формируются очаги сопротивления. Теперь дети проводили дни за пением японских гимнов, шитьем флагов и гимнастическими упражнениями. Голод брал за горло, уроки огородничества стали обязательными, нашлось применение заброшенным клочкам земли перед облупившимися зданиями школ – там выращивали кургузый батат и чахлый имбирь.
Потом японские газеты вдруг заговорили тоном победителей, таким же лицемерным, что и газеты ан мо незадолго до их капитуляции. Газеты отчаянно вещали о боевой славе, и для переживших войну местных заверения эти звучали все более лживо. Пошли слухи, что на родину японцев скинули какие-то немыслимые бомбы и те стерли с лица земли целых два города. В последующие недели солдаты лютовали сильнее прежнего. Безысходность побуждала их к жестокости, и многие будто искали пределы собственного садизма, пока их самих не привлекли к ответственности. Местные запирались в домах, закрывали ставни, а когда солдаты стучались в дверь, прятались под кроватью. В конце концов японцы утолили жажду крови и принялись топить горе в саке. Последний тост на вечеринке непременно сопровождался метанием гранат.
Наконец одним дождливым вечером в сентябре 1945 года, спустя почти четыре года после того, как их выбросили с острова, ан мо вернулись. Японцы потерпели поражение. В тот вечер часы перевели назад, над кинотеатром, возле которого японцы однажды выставили отрубленные головы, взмыл британский флаг, а парки развлечений заполнили ошеломляющие звуки американского джаза.
Но многие так и не отвыкли от заведенных привычек. Услышав нежданный стук в дверь, люди по-прежнему прятали дочерей подальше. При появлении человека в форме, будь то ан мо или местный, спины сгибались в поклоне. Японские флаги сложили и бережно убрали в коробки из-под печенья – на случай, если история изменит ход и понадобится вновь доказывать свою преданность. Даже когда жизнь потекла дальше – когда дома возвели заново, алтари в память об убитых детях убрали, а шрамы и ожоги скрыли под длинными рукавами, – даже тогда память о минувших четырех годах не поблекла. Нестираемым пятном въелась она в остров. Спеша отстроить уничтоженное, люди слышали протяжный, призрачный зов мертвецов. Кровь их впиталась в плодородную красную почву – почву, которая обнажалась, когда ее поддевали лопатой, закладывая фундамент нового дома, или когда детские руки разрывали ее после дождя в поисках червяков.
Что же до А Бооня, то он, как и его ровесники, быстро повзрослел и в восьмилетнем возрасте стал мужчиной. После исчезновения Па главой семейства формально стал Хиа, однако из-за неуемного темперамента толку в бытовых делах было от него намного меньше. Война выявила не лучшие его качества, Хиа сделался резким и задиристым, словно озлобленная собачонка, которую посадили на цепь в конуру. Он то и дело ввязывался в уличные драки с японскими солдатами и приходил домой с переломанными костями. Ма часто плакала, уверенная, что рано или поздно его прикончат, но Хиа, как ни удивительно, выжил.
А Боонь же погрузился в привычную серьезность и задумчиво молчал, но теперь это молчание приносило пользу. Это он сидел рядом с Ма, когда та сетовала на Хиа и его беспокойный характер, это он до поздней ночи помогал Дяде заделывать в лодке пробоину, из-за которой они могли того и гляди лишиться пропитания. Когда японские солдаты, пришедшие с обыском и забравшие украшения Ма и часы Па, спросили его, где отец, А Боонь четко и внятно ответил:
– Умер, сэр. – Он произнес это, даже не вздрогнув, хотя остальные домочадцы съежились от страха.
Солдаты были обескуражены: этот мальчишка, сам на вид полутруп, – просто грубиян или редкий дурак? Решив, что верно последнее, японцы рассмеялись и покинули их дом. “Умер, сэр, – передразнивали они, уходя. – Умер, сэр, умер”.
Японские грузовики с ревом колесили по прибрежным дорогам, из кузовов торчали стволы винтовок, будто сама растительность таила в себе угрозу, и, возможно, потому острова вели себя непредсказуемо. Они появлялись и исчезали, иногда внезапно вырастая перед лодкой Дяди и А Бооня и растворяясь в густом тумане. Рыба тоже попадалась странная. В сетях находили сиреневых раздутых окуней, треххвостых креветок, кальмаров, полностью заросших щупальцами. А Боонь никогда не забудет, как однажды они вытащили жутковатую, извивающуюся зубатку, на первый взгляд самую обычную, но, как позже выяснилось, безглазую и безротую.
Возможно, все изменилось из-за страха, которым пахла кожа рыбаков. А возможно, из-за стекающей в море крови убитых.
Несмотря на это, А Боонь с Дядей продолжали выходить в море. Голод заставлял утроить усилия – пускай даже острова давали хороший улов, они никогда не знали, удастся ли продать рыбу на рынке или ее отберут японцы. Как и многие дети в кампонге, А Боонь рос костлявым, с землистого цвета кожей, голод стал его неразлучным другом. Мальчик с радостью принимал его мучительные приступы, его цепкую привязчивость и постоянное головокружение. После смерти отца, в которой А Боонь винил себя – ему нужно было отговорить Па, предупредить Ма, чтобы та его остановила, – ему полагалось быть сильнее, чтобы защитить семью. Он считал, что заслужил страдания. Нередко он отдавал свою скудную порцию рисового отвара Хиа, говоря, что не голоден, хотя в животе урчало.
Дядя тоже часто отказывался от еды. Его недуг вернулся, но теперь у них не было денег на лечение, да и сам он словно и не стремился выздоравливать. После смерти Па от него веяло жутковатым спокойствием, он ходил медленно, точно лунатик, и часто не слышал, когда его окликали. Он снова и снова прокручивал в голове роковые дни, которые привели к смерти Па. Дядя часто думал, что это ему следовало умереть, ведь Па не хотел идти, Па не доверял японцам, это он, Дядя, решив подчиниться приказу, допустил губительную ошибку. И она привела к смерти Па.
Однажды утром, в начале войны, А Боонь с Дядей перевезли учителя Чи А на остров Бату. Говорили, что он тесно сотрудничает с военными группировками на Материке, а японцам это не нравится. Учитель скрывался в городе по знакомым, часто переезжал, однако японцы практически дышали ему в спину. “Может, хоть в кампонге помогут?” – в отчаянии спрашивал себя учитель Чи А. В кампонге помочь не могли. Все боялись навлечь на себя гнев японцев, если те узнают, что местные дали кров беглому смутьяну. И тогда А Боонь предложил: а что, если учитель Чи А спрячется в таком месте, которое несведущему не найти? На том и сошлись. Учитель Чи А провел на Бату несколько недель – спал под натянутым между двумя деревьями брезентом, ловил рыбу и пил воду, которую доставляли ему жители кампонга. Иногда, когда А Боонь отвозил учителю еду, к нему присоединялась и Сыок Мэй. Они, хоть и бессистемно, продолжали занятия и сблизились еще сильнее, чем прежде. Когда учитель Чи А наконец решил покинуть свое убежище и отважился совершить путешествие на север, Сыок Мэй плакала и цеплялась за его ногу. Война обошлась с ней жестоко. Девочка видела зверства японцев, тех самых, против которых боролись на Материке ее родители, и это убивало ее надежду на то, что мама по-прежнему жива и где-то прячется.
Все это время А Боонь старался не думать о Па. Ежедневной борьбы за выживание было достаточно, чтобы для остальных мыслей не оставалось места. И в семье о Па тоже не говорили, завернувшись в плотный, непроницаемый кокон молчания.
Тем не менее иногда, в утренней прохладе, пока сон еще не выветрился из головы, А Боонь открывал глаза, потягивался и звал: “Па!” А Боонь ждал, что Па откликнется, что он уже с час как проснулся, позавтракал и торопится выйти в море. Но вместо ответа до него доносились легкие шаги матери, тихое похрапывание Хиа. А потом сон выветривался и Боонь вспоминал, что произошло.
В те годы все исчезало. Дома, вера, правительства, пища, те, кого любишь, – А Боонь усвоил, что все это с легкостью исчезает и, в отличие от островов, способов вернуть исчезнувшее не существует.
Как умер Па? На далеком пляже, среди выстроенных в шеренгу незнакомых мужчин. Возможно, рядом с ним стоял молодой парень, а когда японцы приказали им подойти к воде, тот тихо заплакал. Сам Па плакать не стал бы. И, в отличие от некоторых других, не пытался уплыть – с цепями на щиколотках ты лишь позорно бултыхаешься возле берега. Остальные причитали, а Па оставался спокойным и полным достоинства. Возможно, равномерный шум волн придавал ему спокойствия, перед тем как пули впились ему в спину, возможно, теплый песок приятно согревал колени, а крики птиц звучали своего рода знакомым приветствием.
Глава
14
Пробиваясь в плотной человеческой реке, автобус останавливался каждый раз, когда кто-то из прохожих вдруг двигался в противоположном направлении. Клаксон не работал, да и ругань была бессмысленна. Водитель давно махнул на все рукой и сосредоточился на сигарете, от которой остался жалкий окурок.
Сидящий в автобусе А Боонь потер пробивающиеся волоски на подбородке. Он был встревожен.
– Давай вернемся, – предложил он Сыок Мэй. – Здесь столько народа.
При виде толпы ему сделалось не по себе. Он не любил, когда люди ходят там, где не полагается.
Но Сыок Мэй нетерпеливо покачала головой. Она вытягивала шею и не отрывала глаз от окна, высматривая здание Верховного суда.
– Очень уж медленно, – сказала она, – так мы никогда не доберемся.
Им было по шестнадцать, но лишь в этом году они наконец оканчивали начальную школу. Война отняла у них не только детство, за взросление их поколению пришлось заплатить такими потерями, что внутри навсегда осталось какое-то потрясение невероятной силы, напоминающее им об утратах, даже когда жизнь, казалось бы, вошла в привычную колею.
– Мэй, – начал было А Боонь, – может, мы…
– Нет! – Она повернулась к нему и нахмурилась: – Надо помочь! Ты обещал. Когда Надру освободят, я должна быть там.
А Боонь промолчал. Он обещал, он знал, как это важно для Сыок Мэй.
С тех самых пор, как дело получило огласку, на слуху у всех была лишь Надра, Надра, Надра. Тринадцатилетняя девочка ан мо, которую воспитали на Яве в малайской мусульманской семье и чья мать-голландка после войны вернулась и потребовала отдать ей дочь. Она оспорила условия усыновления, и суды, где главными были ан мо, разумеется, не встали на сторону малайской приемной матери и не прислушались к желанию самой девочки, а поддержали биологическую мать-голландку.
В кампонге отнеслись к этому делу с недоверием. Анак ангкат, китайские дети, отданные родителями на усыновление в малайскую семью, были обычным делом. Ан мо утверждали, будто подобные усыновления, формально не одобренные, незаконны. И все задались вопросом – что же тогда считать формально одобренным? Ведь такова практика, и так оно испокон веку повелось. Ан мо требовали документы. У приемной матери Надры они имелись – письма от голландского дядюшки, но ан мо посчитали эти бумаги ничего не значащими. Похоже, одержать победу было невозможно, правила подчинялись какой-то далекой непонятной логике, и ан мо толковали и меняли их как заблагорассудится.
– Как бессердечно, – снова и снова повторяла Сыок Мэй, – какая жестокость.
Расставание Надры с Че Аминой, ее приемной матерью, нанесло Сыок Мэй глубокую сердечную рану. Она полагала, что девочке следует дать возможность выбора. Почему детство означает бесправие? Сыок Мэй думала, что будь у нее в детстве выбор, она не позволила бы родителям покинуть ее. А здесь две матери борются за дочь – Сыок Мэй это представлялось роскошью, ведь сама она выросла вообще без матери.
Решением суда плачущую Надру забрали у приемной матери и передали на попечение монахинь. Позже появились фотографии, где она держала за руки игуменью, а заголовок гласил: “Надра опустилась на колени перед статуей Богородицы”. Именно это, и гораздо больше, что все остальное, привело к протестам. Война между двумя матерями обернулась войной религий, и искра гнева опасно опалила сухую древесину вековых унижений.
Вот поэтому они и спешили увидеться с учителем Чи А. И хотя А Боонь так толком и не понял, какой помощи от них ждут, Сыок Мэй настаивала, и он, пусть неохотно, согласился.
Сыок Мэй вскочила:
– Пошли, Боонь. – И стала проталкиваться к дверям автобуса: – Простите, простите, простите, тетенька.
– Ты куда? – удивился А Боонь.
– Дяденька! – крикнула Сыок Мэй. – Дяденька, откройте дверь!
Водитель не ответил. В его кабинке висели густые клубы сигаретного дыма.
– Дяденька!
– Сядь! – рявкнул он. – Еще до остановки не доехали.
– Да мы на месте стоим. Выпустите нас, мы пешком дойдем.
– Сядь, – повторил он, – хватит!
Но Сыок Мэй не желала садиться. Она забарабанила кулаками по двери.
– Выпустите нас! – кричала она.
А Боонь смущенно протискивался к ней. Ему казалось, что все на них смотрят и осуждают за невоспитанность и дурные манеры. Однако пассажиры поддержали Сыок Мэй:
– Выпусти! Выпусти! Выпусти!
Вот она, волшебная способность Сыок Мэй подчинять себе толпу, та самая, которую А Боонь впервые заметил много лет назад, в сельской школе, когда мальчишки в классе принялись высмеивать учителя Чи А. Помимо привычной гордости, А Боонь ощутил укол страха: власть Сыок Мэй распространялась теперь не только на детей, и кто знает, чем это обернется в новом мире, который лишь начал приобретать очертания?
Раздраженно крякнув, водитель уступил. Двери автобуса открылись, пассажиров обдало волной жара, а вдали послышалось пение.
– Мэй, ты уверена? – снова спросил Боонь. Они еще могли вернуться.
Но Сыок Мэй уже спускалась по ступенькам, не слушая его. Толпа пассажиров снесла ее в сторону, девочка оглянулась и помахала рукой, словно подбрасывая мячик.
– Боонь, давай быстрей!
И он, как всегда, последовал за ней.
Сейчас, в шестнадцатилетнем возрасте, Сыок Мэй по-прежнему, как и в детстве, заплетала волосы в косы. Мягкие черты лица заострились, на смену полной луне пришла убывающая, а глаза сверкали ярче, чем прежде. Если Сыок Мэй так и осталась миниатюрной и невысокой, то А Боонь сильно вытянулся, ноги смахивали на длинные тонкие ветви дерева, которому всегда хватает воды. В детстве она была выше его, но теперь он перерос ее на голову и ловил себя на том, что во время разговора наклоняется, словно чтобы лучше расслышать, хотя Сыок Мэй говорила громко и внятно.
После окончания войны прошло пять лет. Учитель Чи А вернулся к ним в школу, А Боонь и Сыок Мэй возобновили занятия, в семействе Ли по-прежнему ловили рыбу, чистили ее, сводили концы с концами и выживали. Жизнь во всех ее проявлениях возвращалась в прежнее русло. Сперва на А Бооня это действовало благотворно, и он знал, что остальные чувствуют то же, что и он. После неустроенности и лишений военных лет они вернулись к привычному укладу, ели сытнее, ходили без страха по улицам и подчинялись высокомерным ан мо – от всего этого делалось легче. Удивительно, как быстро люди, пережившие войну, возвращались к прежним ритмам. В семье печалились из-за того, что у Па нет могилы, что они не обмыли его тело и не достали из пепла погребального костра останки костей. И все же горе, когда-то жесткая веревка, душившая их при каждом движении, со временем превратилось в мягкую нить, почти незаметно вплетенную в ткань их жизни.
Тем не менее, как ни удивительно, с течением лет все сильнее становилось ощущение, будто мир вокруг ненастоящий. Сёнан-То прекратил свое существование, однако страна, пришедшая ему на смену, выглядела зыбким миражом, тревожным отражением самой себя. Их кампонг был прежним, но в то же время не был, он стал непостоянным – тем, что однажды прекратит свое существование. Война доказала, что это так и есть. Боонем овладело беспокойство. Оно зарождалось в пальцах ног – теперь они больше не знали покоя. Потом беспокойство поднималось к коленям, и Ма с ума сходила от злости, когда А Боонь, сидя за столом, дергал ногами. Причиной этого был не страх и не нервозность, а набравшая силу энергия, стремление к… Он и сам не знал к чему.
Итак, хоть и ошеломленный человеческим потоком, громким пением и шумом, А Боонь смирился. Впрочем, ему было не по себе, и, двигаясь вместе с Сыок Мэй за толпой, он снова спросил:
– Это учитель Чи А сказал, что будет ждать тебя здесь?
Вместо ответа она с деланой веселостью воскликнула:
– Почти пришли! Вот тут, за углом.
Сыок Мэй взяла его под руку, и теперь он думал лишь о тепле ее кожи и о мучительной тяжести внизу живота.
Они шагали по улице. Толпа протестующих состояла почти исключительно из мужчин, преимущественно малайцев, но попадались и индусы, арабы и яванцы. У многих на голове были круглые черные сонгкоки[26]26
Головной убор из черного войлока в форме усеченного конуса. Используется в Малайзии, Индонезии, Сингапуре и Брунее.
[Закрыть], некоторые размахивали большими флагами с полумесяцем и звездой. Демонстранты, судя по всему, двигались упорядоченно, знали, куда идти, никто не пытался бежать, время от времени кто-нибудь заводил песню, а остальные подхватывали.
А Боонь и Сыок Мэй, совсем молодые, да еще и китайцы, очень отличались от окружающих, однако никто не обращал на них внимания. Людям было не до них, и все же неловкость ощущалась все острее. Боонь не любил выезжать из кампонга, город с его горластыми уличными торговцами и шумными мопедами приводил его в замешательство. А теперь еще и это. Он никак не мог избавиться от чувства, что все смотрят именно на них, что они вмешиваются в борьбу, которая не имеет к ним отношения.
– Учитель Чи А велел идти сюда. – Сыок Мэй потянула его в переулок.
В закоулках между домами воздух, как ни странно, оказался прохладнее. Неожиданно Бооню на макушку закапала вода. Капли потекли по затылку. А Боонь взглянул наверх. Из окна торчала бамбуковая палка, на ней висело выстиранное белье. Тут же чья-то бледная рука втянула палку обратно, та исчезла в темноте комнаты, деревянные ставни захлопнулись.
– Вы кто? – послышалось вдруг совсем рядом, говорили по-малайски.
Боонь насторожился, обнаружив небольшую группку китайцев – мужчин и женщин. В руках они держали стопки бумаги. Он было принял их за разносчиков газет, но тут же заметил, что бумага – это листовки.
– Меня зовут Мэй, – ответила Сыок Мэй, – а это мой друг А Боонь.
На каком китайском наречии говорят незнакомцы, она не знала, поэтому отвечала по-малайски. Ее голос слегка дрожал. Прежде А Боонь не видел ее неуверенной. Он попытался поймать ее взгляд, однако она упорно не смотрела на него. Вместо этого она оглядывала незнакомцев, словно высматривая кого-то.
– Мы не знаем никакой Мэй. Иди домой, девочка, тут детям не место, – сказал мужчина. Теперь он говорил на хоккьенском наречии. Высокий и худой, в мешковатых брюках с самодельным ремнем из рафии[27]27
Род растений семейства пальмовых, волокна которых используются для плетения.
[Закрыть], он выглядел злым и истощенным.
– Я не ребенок, – ответила Сыок Мэй, – и мы пришли помочь.
А Боонь потянул ее за руку.
– Пойдем, Мэй, – тихо сказал он. – Пойдем домой.
Она отмахнулась:
– Нет, Боонь. Мы же помочь хотим.
Какая от них помощь? Но в голосе ее уже зазвучала такая знакомая нотка упрямства. Теперь рядом с ним стояла та самая Сыок Мэй, которая много лет назад отшила мальчишек из класса. Сыок Мэй, которая не пожелала оставаться на берегу, когда взрослые отправились к островам. Сыок Мэй, которая даже в военные годы умудрялась выпросить в лавочке миску риса и неслась к А Бооню поделиться едой. Пение зазвучало громче, и А Боонь вспомнил о толпе, разгоряченной жарой и гневом.
Он снова потянул ее за руку. Сыок Мэй не обратила внимания.
– Учитель Чи А… Мы его ученики, – сказала Сыок Мэй. – Он… он здесь?
– Учитель Чи А? – Мужчина окинул взглядом людей позади. – Нет у нас никакого учителя Чи А. – Он шагнул вперед, и в его голосе зазвучал металл: – Кто прислал тебя, девочка?
– Не лезь к ним, Киат, – вступилась стоявшая у него за спиной женщина. – Это просто дети.
– Шпионы, – отрезал мужчина. – Ты же знаешь ан мо. Они подсылают детей.
– Мэй, пойдем, пожалуйста, – прошептал А Боонь. Он схватил ее за локоть и отступил назад. На этот раз она засомневалась и шагнула за ним.
– Но Надра… – начала было она.
– Надре наша помощь не нужна. Смотри, сколько людей собралось! Пойдем домой, пожалуйста, – уговаривал А Боонь.
Они медленно отступали к главной улице.
– Эй! – крикнул тощий. – Я вас не отпускал!
А Боонь замер. Двое мальчишек моложе А Бооня и Сыок Мэй опередили их и встали в проходе. От оживленной главной улицы их отделяли всего несколько метров, он видел, как мимо проходят толпы людей с флагами, слышал обрывки фраз и топот ног. Однако сами они оказались заперты в тихом темном переулке.
Что же делать? А Боонь слышал о триаде и уличных бандитах. Мальчишки были ниже его и даже более костлявые. Теперь у А Бооня хватало сил почти самостоятельно поднять небольшую лодку, а во время войны он научился выкапывать ямы, куда целиком помещается человеческое тело. От беспомощного мальчишки, который безмолвно сносил тычки брата, ничего не осталось.
Вот только он один, а этих много. И с ним Сыок Мэй. А это совсем не то же самое, что он один.
– Не подходите, – сказал А Боонь. Прозвучало уж очень неубедительно. К нему вернулось его обычное смущение.
– Зачем вы пришли? Кто велел вам? – снова заговорил мужчина со злым лицом.
– Учитель Чи А сказал, что вам нужна помощь. Где он? – спросила Сыок Мэй.
– Учитель Чи А, учитель Чи А… – раздраженно передразнил мужчина. – Тут нет никакого учителя Чи А, девочка. Ты что, не поняла?
Мальчишки, перекрывшие выход, подошли ближе. Благодаря своему уверенному голосу Сыок Мэй всегда выглядела внушительно, но здесь, в темноватом переулке, она показалась А Бооню совсем маленькой.
– Учитель Чи А! – повторила Сыок Мэй, и ее голос эхом отскочил от высоких влажных стен. – Учитель Чи А, учитель Чи А, учитель Чи А!
Мальчики подошли совсем близко. Один из них метнулся к Сыок Мэй, словно хотел заставить ее замолчать, и А Боонь недолго думая схватил мальчишку за руку и вывернул ее. Мальчишка завопил. Резкая боль в локте, неприятное ощущение, будто сухожилие неестественно вывернуто. А Боонь хорошо изучил эту боль – такой приемчик Хиа неоднократно оттачивал на нем самом. Для освобождения использовался определенный маневр – расслабить руку и повернуть ее навстречу боли, однако мальчишка, которого схватил А Боонь, этого не знал.
Второй мальчик шагнул ближе. С двумя А Бооню не справиться, а позади в полумраке замаячила третья фигура – долговязая и грозная.
– Беги, Мэй, – скомандовал А Боонь.
Высокая фигура приближалась, теперь в ней проглядывало нечто знакомое. Но вот мужчина приблизился и жестом, который ни с чем не спутаешь, поднес руку к дужке очков.
– Сыок Мэй? – нахмурился он.
– Учитель Чи А, вы говорили, вам нужна помощь, вот я и пришла! И А Боонь тоже, видите?
– Что это все означает, Чин Хуат? – спросил мужчина с недобрым лицом. Металл из его голоса исчез.
Учитель Чи А вздохнул.
– Отпусти его, – попросил он А Бооня и повернулся к мужчине: – Они из кампонга.
Собравшиеся что-то забормотали. А Боонь обнаружил, что до сих пор держит мальчика, и ослабил хватку. Мужчина со злобным лицом расплылся в улыбке. С него будто маска упала – его лицо совершенно не казалось злобным. Он расхохотался. Люди принялись приветствовать учителя Чи А, показывать ему стопки листовок, шутить и расхаживать по переулку, словно ничего не случилось.
Мужчина с прежде злобным лицом – теперь А Боонь решил называть его про себя беззубым – похлопал учителя Чи А по спине, и они обнялись.
– Рад тебя видеть, Чин Хуат. В следующий раз предупреждай, когда решишь прислать учеников, чтоб мы их больше не пугали. – Он повернулся к А Бооню и подмигнул: – Прости, парень. Ну что ж, – он хлопнул в ладоши, – ну-ка, за работу!
Оказалось, что учителя на самом деле звали не Чи А, этим именем он назвался в кампонге, чтобы не афишировать другую свою деятельность. Другую деятельность? Когда А Боонь задал этот вопрос, учитель Чи А лишь сжал губы и привычно поправил очки.
– На сегодня хватит, – сказал он, – по-моему, вам двоим пора домой.
– Но, учитель Чи А, – возразила Сыок Мэй с прежней упрямой ноткой в голосе, – вы сказали, чтобы мы приходили. И к тому же решение суда скоро объявят.
– Я сказал? Это когда я такое сказал?
– В четверг после уроков! Когда мы про Надру говорили! – ответила Сыок Мэй. И постаралась скопировать правильное мандаринское наречие учителя Чи А: – “Эта борьба касается всех рас и всех религий, не только ислама, а мы лишь стоим и смотрим. Как мы собираемся избавляться от тирании ан мо, если мы не объединимся? Если соотечественники не приходят поддержать?”
Учитель Чи А поднес тонкие пальцы к лицу. Но на этот раз он не стал трогать дужку очков, а прикрыл глаза и потер переносицу. Лицо изменилось, на нем появилось какое-то странное выражение, истолковать которое А Бооню не удалось. Потом он снова открыл глаза, и это выражение исчезло.
– Ладно, Мэй, – ответил он, – оставайся. Но если все пойдет не так…
– Почему не так? Что именно? – спросил А Боонь.
– Спасибо, учитель Чи А! – Сыок Мэй схватила А Бооня за руку. – Видишь, Боонь! А ты уйти хотел! Мы, может, даже Надру увидим!
– Надры здесь нет, – сказал учитель Чи А, – она в монастыре.
Сыок Мэй стиснула руку А Бооня. Он видел, как она старается скрыть разочарование.
И все же Сыок Мэй схватила листовки.
– Пошли, – сказала она, и они вернулись на главную улицу и влились в толпу, которая двигалась к Верховному суду.
Вскоре они остановились на просторной площади перед большим зданием с белыми колоннами, в котором оглашалось решение суда. Учитель Чи А и остальные его соратники рассыпались по толпе, раздавая всем желающим листовки.
А Боонь пропустил текст на малайском и английском и перешел к китайскому. “Превратим борьбу за Надру в битву против британских империалистов!” – кричали листовки. В них подробно описывались несправедливости, учиненные ан мо. А Боонь читал это и прежде: нехватка продовольствия, невозможность получить работу, если ты не говоришь по-английски, мошенничество и мухлеж, которые привели к исчезновению магазинов благотворительных товаров для тех, кто пострадал от войны, спекуляция опиумом.
В листовках упоминались как общеизвестные случаи, так и не доказанные: избиения торговцев и таксистов, изнасилования местных женщин. На миг А Боонь забыл, о ком он читает, ан мо или японцах, настолько одинаковой была жестокость, и, стоя в поющей толпе, на большой площади перед красивым зданием Верховного суда, где ан мо решали судьбу юной Надры, А Боонь чувствовал, как внутри зарождается ярость.
По природе не злой, А Боонь с детства научился душить ярость, едва она появлялась, поэтому даже не знал, что он вообще способен злиться. Стыд – да, унижение – да, разрывающая душу скорбь – все эти чувства он хорошо изучил. Но гнев – гнев был для него в новинку. А Боонь ощущал себя поленом, край которого занялся огнем. После долгих лет войны, краха малайских служб социальной поддержки, скрываемых утрат, которые не ограничивались смертью Па, гнев притягивал к себе, приводил в восторг, кипящей рекой гнал по венам негодование.
Сыок Мэй помахала ему из толпы. А Боонь направился к ней.
– Ты что, поколотить его хотел? – спросила она.
Говорила она без издевки, вопрос прозвучал серьезно. А Боонь задумался.
– Не знаю, – пожал он плечами.
– Угу. – Сыок Мэй посмотрела на листовки в руке, а потом перевела взгляд на Бооня. Ее подбородок решительно пополз вверх. – Не надо ради меня никого колотить.
– Я не… Я не собирался…
– Вот и не надо, ладно? Нечего меня защищать.
А Боонь помолчал. В нем зрело какое-то упрямство, и казалось, что он того и гляди заплачет. Пение вокруг стало громче. Толпа напоминала огромное животное, нетерпеливое, голодное. Впереди белело в дневном свете здание Верховного суда. Решение могли объявить в любую минуту. А Боонь прекрасно знал, что никто не станет читать их листовки. Мусульманам плевать на левацкие уловки китайцев, как ни стараются те создать образ великого антиколониального альянса. Надре нет никакого дела до Сыок Мэй.
А Боонь отдал свои листовки Сыок Мэй.
– Ты чего? – удивилась она.
Он развернулся.
– Увидимся дома, – сказал он.
– Боонь! Ну пожалуйста…
– Что? – спросил он. Щеки вспыхнули. Он слышал в собственном голосе мольбу и ненавидел себя за то, что она так нужна ему.
Сыок Мэй осторожно положила листовки на землю и взяла его за руки. Людское скопище, жара, гвалт – все это словно исчезло.
– Я от этого как будто слабее делаюсь, – проговорила она.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?