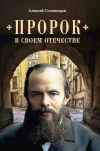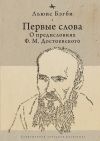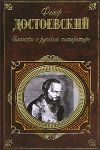Текст книги "Неоконченное путешествие Достоевского"

Автор книги: Робин Фойер Миллер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 2
Вина, раскаяние и тяга к творчеству в «Записках из Мертвого дома»
Нет покаяния в могиле.
Исаак Уоттс.Торжественные мысли о Боге и смерти
…он сам художник своей жизни…
Федор Достоевский. Белые ночи.(Мечтатель о самом себе)
«Записки из Мертвого дома» Достоевского объединяют черты нескольких жанров. В той степени, в какой эта книга представляет собой воспоминания о жизни писателя в каторжном остроге, она является произведением автобиографическим. Но ее можно прочесть и как документальный роман, соответствующий широко понимаемым традициям реализма. Стремясь достичь своего рода фотографической точности, это произведение избегает откровенной дидактики, и его рассказчик – Александр Петрович Горянчиков, – в отличие от почти всех остальных перволичных рассказчиков Достоевского, стремится минимизировать собственные оценочные суждения и скрыть странности своего рассказа и свою личность для того, чтобы создать эффект беспристрастного фактологического репортажа. Рамку для рассказа Горянчикова составляют заметки обобщенного «издателя», который обнаруживает рукопись после его смерти[29]29
Вначале дается вступление, где издатель поясняет, что после смерти Горянчикова бумаги оказались у него. Среди них есть рукопись, «недоконченная, может быть заброшенная и забытая самим автором. Это было описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни, вынесенной Александром Петровичем. Местами это описание прерывалось какою-то другою повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно, как будто по какому-то принуждению. Я несколько раз перечитывал эти отрывки и почти убедился, что они писаны в сумасшествии. Но каторжные записки… показались мне не совсем безынтересными» [Достоевский 4: 8]. Достоевский намеренно сопроводил свой роман известной рамкой: издатель находит некоторые заметки, следуя традиции, уже известной по произведениям Пушкина, Лермонтова и Гоголя. В. Б. Шкловский в «Повестях о прозе» первым стал трактовать это произведение как документальный «роман особого рода» [Шкловский 1966: 201]. Было много интересных попыток отнести «Мертвый дом» к тому или иному жанру, см., например, [Jackson 1981: 6–7]. Из недавних работ см. отличную статью Карлы Олер с выводами относительно проблемы жанра [Oeler 2002]. Исследовательница считает, что критики обычно «склоняются к одному из двух крайних полюсов, определяя текст, строго говоря, либо как мемуары, либо как роман» [Oeler 2002: 519]. Джон Джонс утверждал, что «роман имитирует беспорядочную реальность мемуаров покойного, жизнь в том виде, в каком он ее прожил и записал. В результате возникает произведение искусства, создающее впечатление небрежности, предварительности всех оценок, полное сплетен, досужих домыслов, противоречий и в первую очередь – неопределенности» [Jones 1983: 158]. Морсон усматривает жанровые черты произведения именно в его двойной повествовательной идентичности – соединении голоса вымышленного женоубийцы и репрезентации автобиографического каторжного опыта Достоевского. «В действительности, – пишет Морсон, – роман может читаться совершенно по-разному, в зависимости от того, какого рассказчика мы в нем предполагаем. Достоевский ошибся? Возможно, но я думаю, что нет. Скорее, произведение играет своей двойственностью, как рисунок-обманка, представляющий одновременно утку и кролика» [Morson 1999: 491–492].
[Закрыть]. Отношения между Достоевским, издателем, Горянчиковым и его текстом сложны и увлекательны. Нам будет интересно поразмышлять о структуре повествования в этом произведении и сопоставить его прочтения, различающиеся в зависимости от того, делает ли интерпретатор акцент на автобиографизме, на художественной стороне текста или на ролях автора, издателя и рассказчика. Однако в любом случае именно взгляд рассказывающего – будь то автобиографический автор, вымышленный рассказчик или некий гибрид их обоих – направлен не вовнутрь, а вовне, на других людей. Именно словесные «мгновенные снимки» – импульсы, вызванные установкой на документальность, – придают данному произведению его ускользающие специфические качества.
Наклеить ярлык «реализм» на произведение Достоевского без оксюморонных оговорок-эпитетов «фантастический» или «романтический» – значит отделить данный текст от основной массы сочинений автора. «Записки из Мертвого дома» кажутся аномалией в творчестве Достоевского, так как не являются произведением фантастического или романтического реализма, и потому неудивительно, что другой великий мастер русского реализма – Лев Толстой – написал в 1868 году, что «Записки» – его любимое произведение Достоевского. Толстой был также первым, кто отметил, что этот текст не укладывается в какую-то определенную общую форму. В своем часто цитируемом предисловии «Несколько слов по поводу книги „Война и мир"» (1868–1869) о связи этого романа с русской литературной традицией, писатель заметил:
История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от «Мертвых душ» Гоголя и до «Мертвого дома» Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести [Толстой 16: 7].
«Записки» можно прочесть даже как реалистический готический роман, поскольку действие происходит в отдаленном, изолированном месте, где царит тиранический режим, законы которого отличаются от правил, принятых остальным обществом, – и при этом могут отражать это общество в гротескном свете. Любимые топосы готического романа – замок, монастырь и тюрьма. Как и его готические предшественники, произведение Достоевского исследует психологию жертвы и обидчика, изобилует сценами, написанными контрастными красками, и отображает мир, где причудливо и неразрывно переплетено прекрасное и ужасное. Более того, как и в готическом романе, читатель «Записок» играет нелегкую роль, часто становясь свидетелем насилия[30]30
Более подробно об увлечении Достоевского готическим романом и преобразованиях условностей этого жанра в его творчестве см. в главе 7, а также в моей статье [Miller 1983] и монографии [Miller 1981: 108–125].
[Закрыть].
Роберт Джексон пришел к выводу о том, что, как бы мы ни определяли жанр «Записок из Мертвого дома» (а в дополнение к упомянутым выше вариантам можно также применить такие определения, как очерк, видение и, вслед за Данте, – поскольку Достоевский отчасти подразумевает, что его читатели должны это сделать, – хождение в ад), они воздействуют на нас в некотором смысле как произведение визуального искусства, поскольку Достоевский создает «серию гигантских фресок человеческого опыта и судьбы» [Jackson 1981: 6][31]31
См. также [Peterson 2000]. Петерсон подчеркивает «эстетику беспорядка» у Достоевского в «Мертвом доме». Жак Катто предполагает, что в этом произведении Достоевский создал новый жанр, «литературу заключения» [Catteau 1982] (цит. по: [Oeler 2002: 521]).
[Закрыть]. В итоге, однако, «Записки» сопротивляются точной категоризации в рамках жанров прозы и остаются пограничным явлением, не переходя ни одну из границ.
«Записки из Мертвого дома» сопротивляются также классификации в рамках корпуса произведений Достоевского по другому важнейшему критерию – идеологическому. В рассказах, повестях и романах писателя преступник, как правило, испытывает естественное чувство вины или готов понести ответственность за свое преступление; независимо от осуждения или неосуждения обществом, он приходит в конце концов к собственной оценке совершенного проступка. Одним словом, герои Достоевского за очень немногими исключениями (например, Петр Верховенский в «Бесах») либо имеют совесть, либо морально эволюционируют так, что совесть в них пробуждается. Однако «Записки из Мертвого дома» демонстрируют совершенно иной взгляд на отношение преступника к преступлению. При этом важно отметить то, что уже подчеркивалось в предыдущей главе: каторжники, которых описывает Достоевский, – это по большей части крестьяне.
Стало общим местом указывать, что главные романы Достоевского трактуют вопросы вины, ответственности и раскаяния. Однако в «Записках», где речь идет исключительно о каторжниках (то есть осужденных, которых общество заставило принять ритуальную ответственность за свои деяния в форме принудительного труда), Достоевский решает амбивалентный вопрос о вине и раскаянии совсем не так, как в своих романах, поскольку, как мы видели, этот вопрос по большей части оказывается сторонним по отношению к повседневной жизни каторжников.
Процитирую полностью два отрывка, которые уже звучали в сокращении в первой главе. В первом рассказчик указывает:
Ни признаков стыда и раскаяния! Впрочем, было и какое-то наружное смирение, так сказать официальное, какое-то спокойное резонерство… <…> Вряд ли хоть один из них сознавался внутренно в своей беззаконности. Попробуй кто не из каторжных упрекнуть арестанта его преступлением, выбранить его (хотя, впрочем, не в русском духе попрекать преступника) – ругательствам не будет конца.
Далее он замечает:
Я сказал уже, что в продолжение нескольких лет я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении и что большая часть из них внутренно считает себя совершенно правыми. <…> Но ведь можно же было, во столько лет, хоть что-нибудь заметить, поймать, уловить в этих сердцах хоть какую-нибудь черту, которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании. Но этого не было, положительно не было [Достоевский 4: 13, 15][32]32
Джеймс Сканлан, размышляя об отсутствии раскаяния у осужденных, замечает, что Достоевский тем не менее не говорит, что «какое-либо человеческое существо было лишено „дара“ совести при рождении или что этот дар был безвозвратно утерян» [Scanlan 2002: 93].
[Закрыть].
Итак, осужденные крестьяне «внутренно считали себя абсолютно правыми» и, таким образом, могли переступить через те преграды, которые не смог преодолеть Раскольников в «Преступлении и наказании».
Как соотносятся эти утверждения с устоявшимися представлениями о том, что, по мнению Достоевского, преступник хотя бы временами чувствует вину и возлагает на себя ответственность за преступление? Ни осужденные не думают о своих преступлениях и о своей вине, ни убивший жену Горянчиков не размышляет о том, как он относится к своему преступлению (впрочем, возможно, он исподволь делает это в страшном вставном рассказе «Акулькин муж», где рассказчик по фамилии Шишков тоже убивает собственную жену). Моральная ситуация усложняется тем, что в процитированном отрывке рассказчик использует в качестве главного примера отсутствия раскаяния отцеубийцу, который с бессознательным гротескным юмором замечает: «…родитель мой… до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь» [Там же: 16]. Это жутковатое комическое замечание путает аргументацию рассказчика, поскольку человек, якобы виновный в отцеубийстве, впоследствии объявляется невиновным: в его случае отсутствие чувства вины или ответственности, разумеется, вполне понятно[33]33
То, что «отцеубийство» Ильинского позже стало для Достоевского одним из источников для создания образа Дмитрия Карамазова, было показано, среди прочих, Робертом Л. Белнапом [Belknap 1967: 15]. См. также [Реизов 1936: 549]. Более подробный рассказ о Д. Н. Ильинском, который, как оказалось, не был осужден за убийство, см. [Belknap 1990: 61–62], см. также комментарий в Собрании сочинений [Достоевский 4: 284].
[Закрыть].
Есть только один случай – он помещен ближе к концу книги, в начале главы, озаглавленной «Претензия», – когда издатель записок прерывает рассказ Горянчикова. Он делает это, чтобы сообщить читателю о невиновности именно этого отцеубийцы. Издатель вспоминает предыдущее утверждение Горянчикова о том, что этот каторжник мог служить примером «бесчувственности», с которой «говорят иногда арестанты о совершенных ими преступлениях». По словам издателя, Горянчиков «разумеется… не верил этому преступлению» [Достоевский 4: 195]. Но все же рассказчик, хотя инстинктивно и подозревал, что обвиненный в отцеубийстве арестант невиновен, не располагал всеми фактами и не мог знать этого наверняка. Таким образом, изначальная характеристика этого героя как отцеубийцы вводит читателя в заблуждение: бездушно отзываться о преступлении, которого вы не совершали, – это своего рода высшая ирония, тогда как бессердечный разговор о преступлении, в котором вы действительно виновны, предполагает подлинную аморальность или отсутствие раскаяния. Заявив, что он «получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно», издатель заключает:
Прибавлять больше нечего. Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной еще смолоду жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе. Мы думаем тоже, что если такой факт оказался возможным, то уже самая эта возможность прибавляет еще новую и чрезвычайно яркую черту к характеристике и полноте картины Мертвого дома [Там же].
Почему издатель решил опровергнуть слова рассказчика именно здесь, в конце книги? Что перед нами – ранний пример характерного впоследствии для Достоевского противопоставления своего авторского голоса голосу повествователя? Безусловно, повествование в «Записках из Мертвого дома», как и в позднейших романах Достоевского, многослойно, и важные смыслы или идеи часто можно найти на значительной повествовательной дистанции от их «автора» – примером этого является исполненный жгучей боли рассказ «Акулькин муж». Голос героини здесь различим только в пятом слое повествования, если начинать отсчет с биографического автора и последовательно переходить к голосам издателя, рассказчика, Шишкова и, наконец, самой Акульки.
Во всяком случае, после того, как издатель самовольно прерывает публикуемое им изложение событий покойным автором записок известием о невиновности отцеубийцы, он резко возвращает нас к рассказу Горянчикова. Но что это за «яркая черта к характеристике и полноте картины», на которую указывает издатель? Только ли невиновность нераскаявшегося отцеубийцы, которая была доказана позднее? А как насчет остальных каторжников – в подавляющем большинстве виновных, – никогда не проявлявших никаких «признаков стыда и раскаяния»? Не намекает ли издатель, что некоторые из них также могли оказаться невиновны? Он подчеркивает также, что у ложно обвиненного в отцеубийстве человека была «еще смолоду» загублена жизнь. В последующих романах Достоевский будет стремиться к тому, чтобы читатели испытывали глубокое сострадание к мучениям невиновных. Тогда, может быть, он и здесь просит читателя проявить сострадание и даже учит его, как правильно поставить вопрос, чтобы его ощутить? Едва ли это так. Скорее всего, в данном случае мы оказываемся свидетелями того, как Достоевский вырабатывает уникальный способ постановки вопросов, которые окажутся важны для его последующих произведений. «Записки из Мертвого дома» долгое время считались заметками, откуда писатель черпал материал для более развернутых портретов и характеристик. Однако эта книга уже изобилует образами, сценами и повествовательными стратегиями, которые получат развитие в его последующем творчестве. Здесь обнаруживается скрытый или имплицитный ряд проблем, оставленных по большому счету неисследованными ни Горянчиковым, ни даже издателем, но к которым Достоевский будет неоднократно возвращаться.
Более того, с помощью своего рассказчика Достоевский излагает нам теорию преступления и вины, и по сравнению с другими его произведениями здесь большую роль играет нетипично жесткое чувство классового сознания.
Я сказал уже, что угрызений совести я не замечал, даже в тех случаях, когда преступление было против своего же общества [то есть «против одного из своих». – Р М.], – пишет рассказчик. – О преступлениях против начальства и говорить нечего. <…> Преступник знает притом и не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародья, которое никогда, он опять-таки знает это, его окончательно не осудит, а большею частию и совсем оправдает, лишь бы грех его был не против своих, против братьев, против своего же родного простонародья [Достоевский 4: 147].
Однако именно к этим не проявлявшим никаких признаков раскаяния крестьянам-арестантам Достоевский неоднократно обращался в своих текстах, и часто на страницах того же «Мертвого дома», чтобы найти то, что он считал величайшим и лучшим в русском народе – врожденное чувство справедливости, инстинктивную веру в равенство, способность к нравственному преображению с помощью произведений искусства, смирение и преданность, особенно проявлявшиеся во время рождественской службы. Рассказчик находит все эти положительные качества в том числе и у каторжников, чего нельзя сбрасывать со счетов. Но позволяют ли эти качества понять отсутствие у арестантов раскаяния и чувства, что они преступили некий моральный закон? Части этой головоломки не подходят друг к другу. Моральная двойственность, которую выражают образы крестьян-каторжников, так же трудно поддается разгадке, как и более общие расхождения между интерпретациями всех «Записок» как вымысла или как документа.
Можно предположить, что самого Достоевского не устраивало показанное в «Записках из Мертвого дома» отношение крестьян-каторжников к проблеме вины. Как мы видели в первой главе, в 1873 году в «Дневнике писателя» он изменил свою позицию и утверждал, что арестанты морально осознавали свои преступления[34]34
О перемене Достоевским мнения по поводу признания крестьянами-арестантами своей вины см. [Jackson 1981: 10].
[Закрыть]. В любом случае такие неразрешенные, даже распадающиеся двусмысленности в «Мертвом доме» доказывают, что эта книга сложным и неясным до конца образом соотносится с другими произведениями Достоевского. Хотя «Записки» и послужили источником для позднейших повестей и романов Достоевского (как послужила А. П. Чехову его книга о путешествии на Сахалин тридцатью годами позже), отношение писателя к вине, ответственности и раскаянию – темам, составлявшим основу всего его будущего творчества, – остается незавершенным не в смысле философской диалогичности, а в буквальном смысле неоконченности. А. Д. Синявский предположил, что Достоевский обрел на каторге не только богатые источники нового материала и важный стимул для изучения собственного прошлого, но и «опыт прохождения смерти» – как в ужасные минуты ожидания на эшафоте, так и в последующие трудные годы, проведенные в «Мертвом доме» [Синявский 1981: 108].
Какими были эти богатые источники? В каком смысле «Записки из Мертвого дома» – история будущего творчества Достоевского? Принято указывать, что в годы каторги писатель открыл величие и красоту русского народа и что в этом и состоял самый «богатый источник» его нового материала для творчества. Но, как говорилось в предыдущей главе, нельзя упускать из виду, что Достоевский был готов сделать это открытие еще до Сибири. Он отправлялся на каторгу уже с намерением открыть там для себя русский народ.
В первой главе был довольно подробно исследован вопрос о том, ставил ли Достоевский перед собой задачу преобразиться или уверовать во время пребывания в Сибири («…не в гроб же я иду, не в могилу провожаешь…»[35]35
Воспоминания А. Милюкова о расставании Достоевского с братом Михаилом, цит. по: [Мочульский 1980: 120].
[Закрыть]). Его письма к братьям после отсрочки казни стали ярким свидетельством его решимости найти там «не зверей, а людей, может, еще и лучше меня, может, достойней меня» [Мочульский 1980: 120]. Впоследствии, после выхода из каторги в 1854 году, в письмах к братьям, с одной стороны, он выражает разочарование и отчаяние («Они бы нас съели, если бы им дали» [Достоевский 28-1: 169] и «А те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу. Что за ужасное было это время, не в силах я рассказать тебе, друг мой» [Там же: 181]). Но, с другой стороны, ему также удалось «под грубой корой отыскать золото» [Там же: 172], которое он был полон решимости найти. Письма полны эмоций: «Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные… Что за чудный народ» [Там же: 172]. Присутствовал в этих письмах, однако, и более нейтральный и даже иронический тон: голос Достоевского-художника порой звучал довольно холодно, в нем слышна оценка тех литературных средств, которые он приобрел на каторге: «Вообще время для меня не потеряно, если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его. Но это мое маленькое самолюбие!» [Там же: 172–173][36]36
См. в первой главе более подробный анализ этих важных писем.
[Закрыть].
Был ли Достоевский действительно заживо похоронен в остроге, или переменил свои убеждения и стал верующим, или справедливо и то, и другое? А может быть, как уже говорилось, его обращение произошло раньше, после отмены казни и до отъезда в Сибирь – то есть до того, как началось его длительное погружение в среду русского народа? Что бы ни случилось на самом деле с Достоевским на каторге, после освобождения он был готов – и даже похвалялся этим – претворить пережитое в искусство.
Через семь лет после освобождения из Омского острога Достоевский опубликовал «Записки из Мертвого дома» – сложный для интерпретации продукт его идеализированного восприятия человечества, которое сделалось еще острее благодаря тому, что писатель пережил на эшафоте и во время последовавшей за высочайшей милостью эйфории; далее последовало длительное пребывание в Сибири, где писатель столкнулся с действительностью в ее крайних проявлениях. «Записки» представляют собой гибрид намерения и опыта, визионерского желания, соперничающего с ужасом одиночества и изоляции, событий, вспоминаемых после их завершения (хотя нельзя сказать «вспоминаемых спокойно»), а затем художественно воссозданных и преобразованных.
Особенно важно, что все эти визионерские желания, религиозные и философские намерения и реальные переживания преломляются в повествовании не непосредственно писателя, а его героя, чей тон довольно сдержан и по большей части безэмоционален. Горянчиков – это не тот полемический, риторически страстный, порой даже резкий авторский голос, который уже слышится в некоторых публицистических произведениях Достоевского того же периода. В «Мертвом доме» писатель пропустил свой голос через фильтры издателя и рассказчика, и глубоко прочувствованные суждения о народе, встречающиеся в письмах и публицистике, трансформировались и стали выразительнее благодаря многослойности художественного текста.
Образ Горянчикова не отпускал Достоевского и после завершения книги. В 1876 году писатель все еще жаловался – несомненно горестно, но вместе с тем с юмором – на склонность читателей путать рассказчика с автором. «…„Записки же из Мертвого дома“ написал, пятнадцать лет назад, от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою жену. Кстати прибавлю как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей» [Достоевский 22: 47][37]37
Обсуждение этого фрагмента в более широком контексте повествователей у Достоевского см. в моей работе [Miller 1981: 14–16].
[Закрыть]. Такое положение дел, конечно, не было новостью для Достоевского. После публикации первого произведения – «Бедные люди» (1846) – он писал своему брату: «В публике нашей есть инстинкт, как во всякой толпе, но нет образованности. Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя: я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе говорить не может» [Достоевский 28-1: 117].
Смешанные чувства Достоевского к народу, его различные источники вдохновения – крестьяне, которых, как он представлял, встретит в тюрьме, и те, с кем он действительно встретился, равно как и те неоднозначные образы, которые в конечном итоге появились в его прозе, – и многослойная повествовательная структура его произведений составляли сложное сочетание и усиливали друг друга. Поэтому неудивительно, что в «Записках» сосуществуют мотивы надежды и отчаяния, безвозвратной смерти и возможности обновления, невыносимой боли и восторгов, возникающих среди невыразимых страданий.
В начале своего писательства, в 1846 году, Достоевский хвастался, что Белинский и другие критики увидели нечто оригинальное в его аналитическом стиле. «Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я» [Там же: 118][38]38
Дэвид Лоу отмечает в своих редакционных примечаниях, что оценка Белинского, опубликованная в «Отечественных записках» (1846. № 3), не была полностью хвалебной, поскольку критик отмечал в произведении Достоевского длинноты. Еще более интересно, что, по словам Лоу, «понятие об анализе как основе искусства Достоевского принадлежит не Белинскому, а критику В. Н. Майкову» [Lowe 1988: 122].
[Закрыть]. «Мертвый дом», возможно, представляет собой пример именно такого рода анализа, когда подробно изучается один каторжник за другим, событие за событием, атом за атомом. Подобная работа, по-видимому, отражает аналитический поиск «целого», но тем не менее она аномальна. Каждый из поздних романов Достоевского (где синтез, о котором он говорит в раннем письме, выражен в еще большей степени) отталкивается от некоего непосредственно воспринимаемого поэтического целого, от идеи, выраженной и преобразованной в художественной реальности. В той мере, в какой «Записки из Мертвого дома» реализуют типичную для позднейших произведений писателя многослойность повествования, они уже в какой-то мере обладают синтетическим стилем, который станет приметой зрелого творчества Достоевского. Тем не менее эта книга продолжает аналитический процесс поиска целого «атом за атомом» и оказывается до некоторой степени фрагментарной и незавершенной.
Мы уже видели, что в конце 1850-х – начале 1860-х годов Достоевский размышлял о теории искусства. Еще в 1856 году, находясь в ссылке, он писал из Семипалатинска А. Е. Врангелю, что задумал статью «Письма об искусстве» – «плод десятилетних обдумываний»:
Всю ее до последнего слова я обдумал еще в Омске. Будет много оригинального, горячего. За изложение я ручаюсь. Может быть, во многом со мной будут не согласны многие. Но я в свои идеи верю и того довольно. Статью хочу просить прочесть предварительно Ап. Майкова. В некоторых главах целиком будут страницы из памфлета. [Здесь он имеет в виду другую статью, от замысла которой отказался, потому что «выходил чисто политический памфлет». – Р. М.] Это собственно о назначении христианства в искусстве. Только дело в том, где ее поместить? [Достоевский 28-1: 229].
Два года спустя он писал брату Михаилу, все еще из Семипалатинска, об идее издания литературной газеты, содержание которой представлял следующим образом:
…литературный фельетон, разборы журналов, разборы хорошего и ошибок, вражда к кумовству, так теперь распространившемуся, больше энергии, жару, остроумия, стойкости – вот чего теперь надо! Я потому так горячо говорю это, что у меня записано и набросано несколько литературных статей в этом роде: наприм<ер>, о современных поэтах, о статистическом направлении литературы, о бесполезности направлений в искусстве, – статьи, которые писаны задорно и даже остро, а главное, легко [Достоевский 28-1:316].
Через несколько лет после своего возвращения в Петербург, в начале 1860-х годов, Достоевский напечатал некоторые из своих самых известных публицистических сочинений об искусстве. Однако «Письмам об искусстве», к сожалению, было суждено пополнить список его несозданных произведений наряду с «Пьяненькими», «Атеизмом», «Житием великого грешника» и другими.
«Записки из Мертвого дома» дают важнейшие, хотя и косвенные, ключи к идеям Достоевского об искусстве, сформировавшимся в 1850-х – начале 1860-х годов. Эти идеи проходят через призму вымысла и в результате приобретают различные нюансы – трансформируются художественной прозой, хотя и остаются связаны с размышлениями, которые знакомы нам по публицистике Достоевского. И там, и там на первом месте стоит вопрос об «искусстве для искусства». Удивительно, но многие арестанты так или иначе предаются какому-либо занятию «ради искусства». Рассказчик замечает: «…каждый в остроге, вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел свое мастерство и занятие» [Достоевский 4: 16]. Каторжники часто использовали языковые средства – особенно пословицы и выразительные оскорбления – в качестве своей излюбленной области для занятий искусством ради искусства. «А какие были они все мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно», – восклицает рассказчик [Там же: 13]. Далее он удивляется: «Не мог я представить себе сперва, как можно ругаться из удовольствия, находить в этом забаву, милое упражнение, приятность? Впрочем, не надо забывать и тщеславия. Диалектик-ругатель был в уважении. Ему только что не аплодировали, как актеру» [Там же: 25].
Еще в первое время пребывания на каторге рассказчик, стремясь понять поведение своих товарищей по заключению, часто находит ключ к их иррациональному поведению в любви к чему-то «для искусства». Последующие проведенные на каторге годы не меняют этого восприятия. Так, с самого начала Горянчиков описывает контрабандиста, который «работает по страсти, по призванию. Это отчасти поэт» [Там же: 18]. Речь идет о человеке, который проносил в острог водку и при этом ужасно боялся розог, «да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы» [Там же], но, несмотря на все это, он продолжал заниматься контрабандой. Он иногда работал «по страсти, по призванию. <…> Чудак любил искусство для искусства» [Там же]. Другой художник, описанный много позже, арестант-цирюльник, «денно и нощно направлял свою донельзя сточенную бритву. <…> Он видимо наслаждался и гордился своим искусством и небрежно принимал заработанную копейку, как будто и в самом деле дело было в искусстве, а не в копейке» [Там же: 78]. Среди каторжников, выбиравших для острога новую лошадь, были «настоящие знатоки», а двое из них вступили в «благородный поединок» из-за того, какую лошадь следует купить, – дело весьма серьезное, хотя ни один из торговавшихся не вкладывал собственные деньги [Там же: 186]. Эти каторжники-крестьяне, как и знаменитые мечтатели Достоевского в «Белых ночах» (1848), «Записках из подполья» (1864), «Кроткой» (1876) и «Сне смешного человека» (1877), являются, к лучшему или к худшему, художниками собственной жизни[39]39
См. блестящую вступительную статью к изданию «Записок из подполья», «Двойника» и других произведений [Martinsen 20036].
[Закрыть]. Начиная с 1860-х годов образы отчужденных, одиноких городских мечтателей из образованного класса, которые так прославили Достоевского, могли быть отчасти плодом наблюдений за крестьянами-арестантами. В ранней повести «Белые ночи» Мечтатель – гораздо более романтический персонаж, излучающий сентиментальность, отсутствующую у каторжников и мечтателей позднего творчества. Другие отличительные черты изображенных в послекаторжный период подпольных городских мечтателей Достоевского несходны с чертами каторжников-крестьян, которые живут тесной общей жизнью вне города и остаются в значительной степени необразованными[40]40
Рассказчик, однако, всячески подчеркивает удивительный факт: большинство этих каторжников, нигде не учившихся, умели читать. «„Мы – народ грамотный!“ – говорили они часто, с каким-то странным самодовольствием. <…> Замечу, кстати, что этот народ был действительно грамотный и даже не в переносном, а в буквальном смысле. Наверно, более половины из них умело читать и писать. В каком другом месте, где русский народ собирается в больших массах, отделите вы от него кучу в двести пятьдесят человек, из которых половина была бы грамотных? Слышал я потом, кто-то стал выводить из подобных же данных, что грамотность губит народ. Это ошибка: тут совсем другие причины; хотя и нельзя не согласиться, что грамотность развивает в народе самонадеянность. Но ведь это вовсе не недостаток» [Достоевский 4: 12].
[Закрыть]. Однако и арестанты, и городские мечтатели инстинктивно тянутся к художественному творчеству.
Что объединяет этих невероятных художников из числа крестьян-каторжников друг с другом? Контрабандист, цирюльник и осужденные лошадиные барышники находят удовлетворение и удовольствие в самом процессе, в деятельности, которая в тот момент, когда они предаются «творческим» усилиям, оказывается важнее конечного результата: контрабанда, заработанная копейка, даже лошадь имеют второстепенное значение. В поздних произведениях Достоевский развил мысль о приоритете процесса над результатом или теорией – до такой степени, что эта мысль стала отличительным признаком его творчества. Приведу лишь два небольших примера из многих: в «Идиоте» Ипполит размышляет о том, что «Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее <…> Дело в жизни, в одной жизни, – в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии!» [Достоевский 8: 327]. В «Братьях Карамазовых» Алеша призывает Ивана «жизнь полюбить больше, чем смысл ее» [Достоевский 14: 210].
Этой идее предстояло стать общим местом творчества Достоевского, знаком, переносимым из одного произведения в другое. Но занимавшиеся тем или иным делом «для искусства» крестьяне-каторжники были первопроходцами, хотя эта их роль и не заслужила внимания исследователей. Эти люди выражают свою свободу и двигаются в потоке жизни так же, как и любой из более поздних харизматических, неотразимых и грандиозных героев Достоевского. Если принять во внимание регламентацию почти всех аспектов их существования в условиях каторги, «творческая» деятельность была фактически единственным способом обретения арестантами свободы. Любовь к процессу и самой жизни, которую каторжники, несмотря на самые настоящие, а не фигуральные оковы, могут выразить через свою тягу к творчеству, еще сильнее отдаляет их от городских мечтателей Достоевского[41]41
Лиза Кнапп убедительно доказывает, что некоторые из каторжников, в особенности Орлов, не столь инертны, как многие другие персонажи Достоевского: «Избыток жизненных сил наполняет то, что Достоевский называет „Мертвым домом“» [Knapp 1996: 24].
[Закрыть].
Но у тяги к искусству для искусства есть и отрицательная сторона. В произведениях Достоевского нож всегда оказывается обоюдоострым, а в одержимом тщеславием художнике творческая энергия неотделима от дурных намерений. Искусство для искусства может выражать свободу, но может и служить тем, кто ни в чем себе не отказывает, кому «все дозволено» и кто тем самым позволяет себе неограниченную свободу. Таков, например, жестокий садист поручик Жеребятников. Рассказчик сравнивает его с маркизом де Садом, описывая его как «утонченнейшего гастронома в исполнительном деле», который
страстно любил исполнительное искусство, и любил единственно для искусства. Он наслаждался им и, как истаскавшийся в наслаждениях, полинявший патриций времен Римской империи, изобретал себе разные утонченности, разные противуестественности, чтоб сколько-нибудь расшевелить и приятно пощекотать свою заплывшую жиром душу [Достоевский 4: 148].
Рассказчик воспринимает двойника Жеребятникова, поручика Смекалова, как человека, которому «фантазии художественной не хватало», но тем не менее Смекалов тоже стремился стать прежде всего художником. Он, словно одержимый, повторял одну и ту же шутку тем, кого собирались высечь. Рассказчик трактует это как авторское тщеславие. Свою шутку Смекалов «сам сочинил» и повторял ее «из литературного самолюбия». Шутка, придуманная Смекаловым (кощунственная рифма к слову «небеси» в молитве, которую произносит арестант с приказом начать экзекуцию: «А ты ему поднеси»), воодушевляет его, и он приказывает начать избиение «с вдохновенным жестом» [Достоевский 4: 151], а затем уходит, довольный собой и своей удачной рифмой, как счастливый автор со сцены. Карла Олер красноречиво деконструировала мрачное творчество Смекалова, раскрывая смысл рифмы со словом из молитвы «Отче наш»: