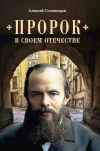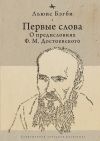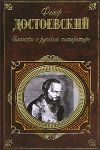Текст книги "Неоконченное путешествие Достоевского"

Автор книги: Робин Фойер Миллер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Эта рифма насмешливо указывает на то, что наказание согласуется с божественной волей, поскольку если бы заключенный продолжал читать молитву, то перешел бы к строкам: «Да будет воля Твоя яко на Небеси и на земли». Прерывая молитву и вставляя собственный стих, Смекалов показывает, что слова, которые предположительно выражают эту волю… можно рифмовать с чем-то совсем иным. Пародия Смекалова на «Отче наш» превращает стихи, относящиеся к патриархальной христианской этике, в пустую риторику или даже богохульство [Oeler 2002: 525].
Последним в галерее рисуемых рассказчиком мучителей-художников становится палач, у которого «ловкость удара, знание своей науки, желание показать себя перед своими товарищами и перед публикой подстрекают… самолюбие». Рассказчик замечает, что все известные ему палачи были люди развитые (он «держал себя по-джентльменски») и для каждого из них была важна «парадность и театральность той обстановки, с которою они являются перед публикой на эшафоте» [Достоевский 4:156].
Эти искусные мастера наказания – экзекуторы и палачи – стремились выразить свою свободу самым извращенным образом, посредством того, что рассказчик характеризует как «безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, человека». Он пишет:
Я не знаю, как теперь, но в недавнюю старину были джентльмены, которым возможность высечь свою жертву доставляла нечто, напоминающее маркиза де Сада и Бренвилье.
Я думаю, что в этом ощущении есть нечто такое, отчего у этих джентльменов замирает сердце, сладко и больно вместе. Есть люди как тигры, жаждущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, человека, так же созданного, брата по закону Христову; кто испытал власть и полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ божий, тот уже поневоле как-то делается не властен в своих ощущениях [Достоевский 4: 154].
Другими словами, безграничная свобода мучителя по отношению к другим людям приводит в конце концов к полной потере свободы, поскольку мучитель утрачивает контроль над своими ощущениями и желаниями. Неограниченная свобода по отношению к другим неизбежно распадается на навязчивую идею, принуждение и привычку. «Человек и гражданин, – пишет Горянчиков (хотя мы ясно слышим громкий голос стоящего за его спиной Достоевского), – гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен» [Там же]. Чтобы читатели не считали себя удобно дистанцировавшимися от подобных чудовищ, Горянчиков заключает: «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке» [Там же: 155].
Таким образом, тяга к творчеству на каторге (и, по аналогии, в мире вообще) оказывается нейтральной с моральной точки зрения. Художник, который искренне стремится к реализации «искусства ради искусства», может выражать свою свободу или, подобно художникам-мучителям, может эту свободу потерять, променяв ее на маниакальную тиранию над другими людьми.
Почти каждый каторжник в остроге – своего рода художник, хотя бы в области мысли или мечтаний[42]42
Сходную мысль высказывает Синявский [Синявский 1981: ПО].
[Закрыть]. Разумеется, бумага, карандаш и все прочие инструменты художника были строго запрещены. Погоня за деньгами, символом, по выражению рассказчика, «чеканенной свободы», также, естественно, драгоценна для арестанта [Достоевский 4: 17]. Удивительно, но еще более ценной была его способность мечтать. «Что же выше денег для арестанта? Свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе. А арестанты большие мечтатели» [Там же: 66]. Даже тихий каторжник, который внезапно совершает какой-то возмутительный поступок, является своего рода художником, поскольку его вспышка, по словам Горянчикова, есть не что иное, как «тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, желание заявить себя, свою приниженную личность» [Достоевский 4: 67]. Этот своеобразный вид искусства, эта фантастическая форма самовыражения – совершение безобразного поступка – в лучшем случае дает лишь мгновение освобождения от рабства.
Через сто страниц Горянчиков возвращается к этой теме:
Тут все были мечтатели, и это бросалось в глаза. Это чувствовалось болезненно, именно потому, что мечтательность сообщала большинству острога вид угрюмый и мрачный, нездоровый какой-то вид. <…> Чем несбыточнее были надежды и чем больше чувствовал эту несбыточность сам мечтатель, тем упорнее и целомудреннее он их таил про себя, но отказаться от них он не мог. <…>…сдается мне, что самые рьяные из преследователей были именно те, которые, может быть, сами-то еще дальше него пошли в своих мечтах и надеждах [Там же: 196].
Эти арестанты-мечтатели напоминают городских мечтателей Достоевского тем, что лелеют тайные, фантастические надежды и мечты, застенчиво их скрывая[43]43
Джексон предположил, что «Мертвый дом» и «Записки из подполья» объединяет прежде всего общая для них тема страдания. «В поздних произведениях Достоевский идеализирует страдание и указывает на его благотворное влияние на жизнь отдельного человека и русского народа в целом. Хотя такая точка зрения находит реальное выражение в личной драме рассказчика „Записок из Мертвого дома", она не получает развития в драме обычного крестьянина-каторжника. По большей части Достоевский исследует страдания русского народа с социальной и психологической точек зрения. Так, он видит в пассивном подчинении обычного каторжника страданиям своего рода извращенное и упорное сопротивление жестокой судьбе. Как и позже, в „Записках из подполья", писатель тесно связывает страдание как таковое с исконным стремлением человека к свободе, с его потребностью выразить свои самые глубокие творческие влечения и энергии» [Jackson 1981: 10–11].
[Закрыть]. Среди каторжников было только два человека, которых нельзя назвать мечтателями, и оба – старообрядец и заядлый читатель Библии – искали освобождения в молитвах и мученичестве. Интересно, что рассказчик не идеализирует этих двух набожных не-мечтателей (как поступили бы рассказчики у позднего Достоевского), а характеризует их в строго психологических терминах: «Без какой-нибудь цели и стремления к ней не живет ни один жив человек» [Достоевский 4:197].
Изображению каторжников и тюремщиков, которые обретают некую свободу, становясь мечтателями, фантазерами или художниками, занимающимися искусством неважно как и посредством чего, хотя и без традиционных для художника инструментов, противопоставлена страшная перспектива полного отсутствия свободы. Конкретное воплощение этого отсутствия рассказчик видит в принудительном труде, обязательном общем проживании, а также в практиках сечения и сковывания. «Принужденная» работа [Там же: 20] и «вынужденное общее сожительство» [Там же: 22] (оба определения выделены курсивом повествователем – Горянчиковым) ужасают и арестантов, и рассказчика, потому что являются извращениями, разрушительными трансформациями изначально притягательного. Свободно выбираемый труд и спонтанное чувство общности – вот что поддерживает и защищает арестантов. Однако, когда труд и общежитие становятся обязательными, они обращаются в «пытку» [Там же: 20].
Страх телесных наказаний и само сечение также лишают человека свободы и подрывают или даже уничтожают его восприимчивость к моральным ценностям. «Тут вообще находит на осужденного какой-то острый, но чисто физический страх, невольный и неотразимый, подавляющий все нравственное существо человека» [Там же: 152]. Отношение рассказчика к ужасающему моменту непосредственно перед экзекуцией напоминает страницы «Идиота» с описанием минут перед казнью. В такие мгновения люди теряют надежду и моральное самосознание. Более того, жертва и палач начинают гротескно походить друг на друга, ибо и тем и другим полностью овладевает ужасающая страсть.
В этот момент, выполняя двойственную роль наблюдателя и рассказчика, Горянчиков также ступает на опасную почву. Он оказывается почти захвачен психологией наказания и опасно приближается в своих ощущениях как к жертве, так и к палачу:
Я был взволнован, смущен и испуган. Помню, что тогда же я вдруг и нетерпеливо стал вникать во все подробности этих новых явлений… <…> Мне желалось, между прочим, знать непременно все степени приговоров и исполнений… я старался вообразить себе психологическое состояние идущих на казнь. <…> Я и потом, во все эти несколько лет острожной жизни, невольно приглядывался к тем из подсудимых, которые… выписывались из госпиталя, чтобы назавтра же выходить остальную половину назначенных по конфирмации палок [Там же: 152–153].
«Взволнован», «нетерпеливо», «все подробности», «желалось знать», «невольно приглядывался» – это к тому же еще и язык читателя, жаждущего развития сюжета, готового оставить ради этого прежде интересовавшие его эстетические, моральные и структурные аспекты произведения. В рассказе Горянчикова сходятся языки читателя триллера и зрителя жестокого наказания. Такие читатель и зритель дистанцированы от моральных соображений и потому скорее негативно преображаются силой искусства или действительного зрелища. Подобные вопросы о природе негативной эстетики неизменно интересовали Достоевского после завершения «Записок из Мертвого дома» [Jackson 1993: 29–55; Miller 1981: 212–213; Gatrall 2001: 214–232; Knapp 1996: 90–92].
He только мучитель, но и жертва, рассказчик и зритель оказываются унижены, хотя бы временно, своим участием – пусть и в очень разной степени – в акте насилия. Каждый из них зачарован, загипнотизирован, потрясен ужасным зрелищем. Даже рассказчик на мгновение теряет моральное сознание, поскольку его гложет ненасытное любопытство. Сделаем небольшое отступление. Достоевский читал роман Чарльза Метьюрина «Мельмот Скиталец». В этом произведении есть сцена, где рассказчик наблюдает из окна, как толпа убивает его злейшего врага, а затем он рассказывает об этом своим слушателям:
…при виде этой ужасной казни я ощутил на себе действие того, что обычно именуется колдовскими чарами. <…>…повинуясь какому-то дикому инстинкту, стал вторить неистовым крикам толпы. <…>…принялся кричать сам, будто эхом отзываясь на крики обрубка, в котором, по-видимому, уже не осталось других признаков жизни, кроме одного этого крика. <…>…я продолжал без устали кричать и вопить… <…> Ужасы, которые мы видим на сцене, [заключает рассказчик,] обладают неодолимой силой превращать зрителей в жертвы [Метьюрин 1976: 272].
Главная цель рассказчика Достоевского – разоблачить зло подобного насилия перед читателем, однако иногда и рассказчик, и читатель (когда он с жадностью читает яркие, взволнованные и беспощадные описания Горянчикова) невольно теряется в этих актах насилия.
За ужасами принудительного труда, принудительного сообщества и телесных наказаний следует еще один ужас – кандалы, которые оказываются символом несвободы каторжников. Кандалы остаются надеты на них вплоть до момента освобождения, будь то жизнь или смерть. Кандалы – вездесущее, назойливое, болезненное физическое воплощение всех других ограничений, которые предстоит вынести арестанту. Молодой чахоточный каторжный Михайлов, который при смерти сбрасывает с себя сначала всю одежду, а под конец – свою драгоценную ладанку, «точно и та была ему в тягость, беспокоила, давила его» [Достоевский 4:140], – должен умереть в оковах. Однако прочувствованное описание этой смерти рассказчиком – один из тех моментов в книге о нескованной благодати, когда зло уступает место добру.
Роберт Белнап обнаружил в «Братьях Карамазовых» повторяющуюся трехчастную конфигурацию, наличие которой обычно указывает на присутствие благодати: косые лучи солнца, воспоминание о материнской любви в детстве и молитва [Belknap 1967:45–50]. Созданное за двадцать лет до «Братьев Карамазовых» описание смерти Михайлова уже включает в себя эти элементы. Михайлов оставил у осужденных приятное воспоминание. Он умер днем, и рассказчик вспоминает, что солнце светило на умирающего, «так и пронизывало крепкими косыми лучами зеленые, слегка подмерзшие стекла в окнах нашей палаты» [Достоевский 4: 140]. После того, как Михайлов сорвал с себя крест, другой арестант осторожно надел его на только что умершего и молча перекрестился. В этот момент вошел унтер-офицер; он встретился взглядом с арестантом Чекуновым, и тот проговорил, «точно нечаянно кивнув… <…> „Тоже ведь мать была!"» [Там же: 141]. В «Братьях Карамазовых» заходящее солнце, молитва и драгоценное воспоминание о материнской любви сливаются в точно повторяющееся сочетание, сопровождающее изображение и одновременно воздействие благодати в мире. Это сочетание укрепляет и символическое единство романа. В «Записках из Мертвого дома» те же элементы выполнены более импрессионистически, поскольку смерть Михайлова остается изолированной сценой в ряду других таких же отдельных сцен. Более того, рассказчик старается дистанцироваться от этого события. Он сопровождает свой рассказ о Михайлове осторожными введением и заключением. «Право, не знаю, почему он мне так отчетливо вспоминается» [Там же: 140], – говорит он в начале, а в конце заключает: «Но я отступил от предмета…» [Там же: 141]. Такие отстранения, разумеется, являются сигналами, непосредственно обращенными к читателю и требующими его внимания.
Еще более важно, что воспоминания о Михайлове приходят к Горянчикову внезапно, но в нужный момент – так же, как десятилетием позже, в 1870-х, рассказчик другого полуавтобиографи-ческого, полуфантастического повествования о тюремной жизни – «Мужик Марей» – припоминает нечто важное «когда было надо» [Достоевский 22:49]. Этого рассказчика уже можно назвать «Достоевским». Подобные случаи появления воспоминаний в нужный момент характерны и для совершенно вымышленных персонажей писателя. Обычно воспоминания выходят на первый план в моменты, когда герои не чувствуют никакой радости от жизни. Однако бесчувствие может уступить место некоему переживанию того, как убеждения перерождаются в религиозные, или, как в случае Свидригайлова или Ставрогина, к обратному процессу, ведущему к полному отчаянию и в конце концов – к самоубийству. Однако в сцене, где Горянчиков вспоминает и изображает смерть Михайлова, присутствуют элементы того сочетания позитивных мотивов, которое будет повторяться у Достоевского в поздних произведениях: косые лучи солнца, молитва и драгоценное воспоминание. Горянчиков может думать, а может и не думать, что он «отступил от предмета», но автор прямо указывает читателю, что это не отступление, а самая суть дела.
По мере развития своего творчества Достоевский все чаще находил вдохновение для создания нового произведения в своих предыдущих сочинениях. Возможно, так произошло и со сценой смерти Михайлова, которая оказалась творчески переосмыслена в «Братьях Карамазовых». Достоевский, похоже, уже сам догадывался об этой своей склонности к переработке ранее использованных мотивов. Так, в мае 1858 года он писал брату Михаилу из Семипалатинска:
Я… сцену тотчас же и записываю, так как она мне явилась впервые, и рад ей; но потом целые месяцы, год обрабатываю ее, вдохновляюсь ею по нескольку раз, а не один (потому что люблю эту сцену) и несколько раз прибавлю к ней или убавлю что-нибудь, как уже и было у меня, и поверь, что выходило гораздо лучше. Было бы вдохновение. Без вдохновения, конечно, ничего не будет [Достоевский 28-1:311–312].
Это письмо дает ключ к пониманию того, как Достоевский на протяжении всей своей литературной карьеры преобразовывал как воспоминания, так и вымысел, многократно возвращался к переработке определенных идей, сцен или воспоминаний – вдохновлялся «по нескольку раз, а не один».
В другом важнейшем фрагменте, передаваемом Горянчиковым, – в подслушанной им истории «Акулькина мужа» – рассказчик также преуменьшает значение своего повествования, как это происходит с описанием смерти Михайлова. Горянчиков с самого начала представляет этот сильнейший вставной рассказ чем-то вроде безумного кошмарного сна. Он проснулся в тюремной больнице от шепота Шишкова, который рассказывал свою историю Черевину. Подобно эпизоду из «Исповеди», где Руссо рассказывает о том, как украл ленту, а затем позволил обвинить в краже девушку-служанку, «Акулькин муж» – это повествование о вытесненном желании. Руссо обвинил Марион в краже, но сначала украл ленту, потому что пылал к девушке страстью и хотел подарить ей ленту[44]44
Этот важный эпизод из «Исповеди» и его огромное влияние на Достоевского были тщательно изучены литературоведами. См., например, [Лотман 1969; Miller 1979; Martinsen 2003а: 38–43; Knapp 1996: 16–20]. Эти ссылки не покрывают все поле исследований, но могут дать читателю представление о воздействии Руссо на Достоевского.
[Закрыть]. Шишков (как и его пьяный альтер эго Филька Морозов) желает и даже любит Акульку, хотя и стыдится этого, бьет ее и в конечном итоге жестоко убивает. Горянчиков резко обрывает запись этой ужасной истории, никак ее не комментируя. Подобный кажущийся отрыв рассказчика от собственного повествования в решающие моменты станет обычным приемом в поздних художественных произведениях Достоевского.
Мы видели, что и каторжники, и сам рассказчик являются в определенном смысле художниками, но они также оказываются еще и реципиентами произведений искусства, частью «публики». Как уже было сказано, роли зрителей – и добрых, и злых – заряжены неким моральным напряжением. Тюремные спектакли, в отличие от наблюдения телесных наказаний, позволяют осужденным испытать те же радости, что и обычным зрителям в театре. Рассказчик представляет их реакцию на искусство как идеальную: «На всех лицах выражалось самое наивное ожидание. <…> Что за странный отблеск детской радости, милого, чистого удовольствия сиял на этих… клейменых лбах и щеках…» [Достоевский 4:122]. Каторжники в этот момент объединены в прекрасное и свободное сообщество, их чертами оказываются радость и невинность. Рассказчика не слишком интересует содержание представляемых пьес: «Но всего занимательнее для меня были зрители; тут уж все были нараспашку». Причастность к драматическому искусству в итоге дает арестантам и зрителям возможность избавления от рабства. «Представьте острог, кандалы, неволю, долгие грустные годы впереди, жизнь, однообразную, как водяная капель в хмурый, осенний день, – и вдруг всем этим пригнетенным и заключенным позволили на часок развернуться, повеселиться, забыть» [Достоевский 4: 124]. Тяга к творчеству или восприятию театрального зрелища объединяет каторжников, дает им момент свободы и в то же время содержит в себе импульс духовного возрождения. Рассказчик пишет: «…человек нравственно меняется, хотя бы то было на несколько только минут…» [Там же: 130]. Такова позитивная преобразующая сила искусства.
И наоборот: мы видели, что в процессе наблюдения за безнравственным зрелищем – телесными наказаниями – люди, пусть и временно, могут превращаться в зверей. Когда поручик Смекалов произносит свою шутку, приказывая начать порку, он взрывается от смеха. «Стоящие кругом солдаты тоже ухмыляются: ухмыляется секущий, чуть не ухмыляется даже секомый…» [Там же: 151]. Как и в «Мельмоте Скитальце», жертва, мучитель и зритель на одно страшное мгновение объединяются.
Сегодня достаточно очевидно, что мысли об искусстве, получившие отражение в «Записках из Мертвого дома», перекликаются со статьями Достоевского «Книжность и грамотность» и «Г-н – бов и вопрос об искусстве», опубликованными в том же 1861 году в журнале «Время». В этих статьях, как мы уже видели, Достоевский призывал издавать литературу для народа и во многом отстаивал идею «искусства для искусства». Он понимал, что предназначенная для крестьян литература должна иметь развлекательный характер, чтобы тем захотелось ее читать. Как писатель, Достоевский всегда был стратегом и манипулятором. Однако в прагматическом плане ему приходилось искать компромисс между желанием склонить на свою сторону читателей и расходящейся с этой установкой верой в личную свободу. Когда Достоевский заявлял в статье «Г-н – бов и вопрос об искусстве», что «защитники „искусства для искусства“ собственно за то и сердятся на утилитаристов, что они, предписывая искусству определенные цели, тем самым разрушают само искусство…» [Достоевский 18: 77], риторическая сила его аргументации была весьма слаба.
Но когда «искусство для искусства» приравнивается к свободе и противопоставляется принудительному труду, сожительству и оковам, как это происходит в «Записках из Мертвого дома», убедительность этого положения выходит далеко за рамки эфемерной журнальной риторики статей 1860-х годов. Идея отпечатывается, как клеймо, в душе читателя. «Искусство для искусства» таит в себе опасность, но без него жизнь может стать невыносима. Более того, в «Мертвом доме» рассказчик утверждает, что искусство для искусства – мечтания и тяга каторжников к творчеству – необходимо для сохранения самой жизни людей [Достоевский 4: 66, 112]. В статье «Г-н – бов и вопрос об искусстве» Достоевский выводит эту идею за пределы острожной ограды, относит ее ко всем людям и формулирует свое представление о необходимости искусства для существования человечества: «Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить» [Достоевский 18: 94][45]45
Об этой статье подробно говорилось в первой главе.
[Закрыть]. Та же мысль о необходимости искусства для существования человечества, драматизированная в «Записках из Мертвого дома», звучит в этом художественном произведении с большей силой, чем ее прямая и полемически направленная формулировка в статьях «Г-н – бов и вопрос об искусстве» и «Книжность и грамотность».
Ранее мы высказали предположение, что «Записки из Мертвого дома» показывают способность Достоевского к анализу, при котором, как он выразился, он идет в глубину и, разбирая по атомам, отыскивает целое. Но этот аналитический стиль принадлежал произведениям Достоевского, написанным до каторги и ссылки. К январю 1856 года, то есть еще до создания «Записок из Мертвого дома», писатель переосмыслил свою теорию художественного творчества, выдвинув на первый план уже не аналитический, а синтетический творческий процесс. В письме к А. Н. Майкову Достоевский похвалил молодого писателя А. Ф. Писемского, а затем добавил:
Идеи смолоду так и льются, не всякую же подхватывать на лету и тотчас высказывать, спешить высказываться. Лучше подождать побольше синтезу-с; побольше думать, подождать, пока многое мелкое, выражающее одну идею, соберется в одно большое, в один крупный, рельефный образ, и тогда выражать его. Колоссальные характеры, создаваемые колоссальными писателями, часто создавались и вырабатывались долго и упорно. Не выражать же все промежуточные пробы и эскизы? [Достоевский 28-1: 210][46]46
В том же письме к Майкову содержится забавное замечание о Толстом: «Л. Т. мне очень нравится, но, по моему мнению, много не напишет (впрочем, может быть, я ошибаюсь)» [Достоевский 28-1: 210]. Ранее, в 1855 году, Достоевский впервые упомянул о Толстом в письме к Е. И. Якушкину: «Уведомьте, ради бога, кто такая Ольга Н. и Л. Т. (напечатавший „Отрочество“ в „Современнике")?» [Там же: 184].
[Закрыть]
Действительно, можно утверждать, что стремление к синтезу присутствовало у Достоевского всегда. Например, его сознательное намерение отыскать на каторге человечность было на самом деле синтетической программой действий, которой он с переменным успехом пытался придерживаться. Философия искусства Достоевского могла измениться в трудные сибирские годы, поскольку уже в 1856 году он, похоже, предпочитал анализу синтез. Тем не менее не следует пытаться втиснуть «Записки из Мертвого дома» ни в старые (анализ), ни в новые (синтез) рамки. Эта полувымышленная автобиография или полуавтобиографический вымысел, несомненно, содержит некоторые мимолетные «пробы и эскизы» из числа тех, о которых Достоевский писал Майкову, но из отдельных зарисовок и незабываемых образов – баня, больница, сам острог – Достоевский смог со временем синтезировать неотразимые «рельефные образы» и «колоссальные характеры» своих поздних произведений.
Во всем романе «Преступление и наказание», и в особенности в его эпилоге, Достоевский впервые преобразует и синтезирует в высокое искусство свой каторжный опыт. Так, например, эстетическая сила большой главы из «Мертвого дома», посвященной приходу весны и размышлению о бродягах («Летняя пора»), сконцентрирована в отдельных напряженных фрагментах «Преступления и наказания» вроде следующего:
Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ, отмеченный еще с третьего года и о свидании с которым бродяга мечтает, как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте? [Достоевский 6: 418]
Этот отрывок читается как поэтическая квинтэссенция первой части «Летней поры», где Горянчиков подробно описывает радости жизни бродяг.
Глава «Летняя пора» примечательна также описаниями природы – одними из самых пространных из когда-либо написанных Достоевским. Один отрывок, в частности, повествует о чуде прихода весны:
Кроме того, что в тепле, среди яркого солнца, когда слышишь и ощущаешь всей душою, всем существом своим воскресающую вокруг себя с необъятной силой природу, еще тяжелее становится запертая тюрьма, конвой и чужая воля; кроме того, в это весеннее время по Сибири и по всей России с первым жаворонком начинается бродяжество: бегут божьи люди из острогов и спасаются в лесах. После душной ямы, после судов, кандалов и палок бродят они по всей своей воле, где захотят, где попригляднее и повольготнее; пьют и едят где что удастся, что бог пошлет, а по ночам мирно засыпают где-нибудь в лесу или в поле, без большой заботы, без тюремной тоски, как лесные птицы, прощаясь на ночь с одними звездами небесными, под божьим оком [Достоевский 4: 173–174].
Этот выразительный фрагмент кажется вариацией на тему знаменитых вступительных строк романа Кеннета Грэма «Ветер в ивах» (1908). В обоих произведениях – ив принадлежащем к ранним образцам «лагерной литературы», и в относящемся к британской детской классике рубежа веков – читатель встречает сходное сентиментальное преклонение перед волшебством весны, сходное изображение всеобщего смятения.
Как и рассказчика из «Записок из Мертвого дома», Раскольникова недолюбливают товарищи по каторге, хотя, в отличие от Горянчикова, он мало рассказывает читателям об их жизни. Но через посредническое присутствие Сони, чьи письма к Дуне и Разумихину стилистически напоминают повествовательную манеру Горянчикова, Достоевский находит средства для описания способности каторжников к любви. Рассказчик сообщает:
Письма Сони казались сперва Дуне и Разумихину как-то сухими и неудовлетворительными; но под конец оба они нашли, что и писать лучше невозможно, потому что и из этих писем в результате получалось все-таки самое полное и точное представление о судьбе их несчастного брата.
Письма Сони были наполняемы самою обыденною действительностью, самым простым и ясным описанием всей обстановки каторжной жизни Раскольникова. Тут не было ни изложения собственных надежд ее, ни загадок о будущем, ни описаний собственных чувств. Вместо попыток разъяснения его душевного настроения и вообще всей внутренней его жизни стояли одни факты, то есть собственные слова его, подробные известия о состоянии его здоровья, чего он пожелал тогда-то при свидании, о чем попросил ее, что поручил ей, и прочее. Все эти известия сообщались с чрезвычайною подробностью. Образ несчастного брата под конец выступил сам собою, нарисовался точно и ясно; тут не могло быть и ошибок, потому что все были верные факты [Достоевский 6: 415].
Сходство Сони-рассказчицы с Горянчиковым поразительно. Эту характеристику Сони как автора можно считать – за исключением нескольких отрывков, таких как процитированный выше романтичный фрагмент о природе из «Летней поры», – описанием общей структуры повествования Горянчикова: об этом говорят такие выражения, как «как-то сухими и неудовлетворительными», «самое полное и точное представление», «самою обыденною действительностью», «самым простым и ясным описанием», «ни изложения собственных надежд ее, ни загадок о будущем», «только факты», «образ… выступил сам собою».
Более того, читатели Достоевского, которых интересует развитие его повествовательного голоса, могут увидеть в этой характеристике стиля писем Сони некое предвидение особенностей рассказчика-хроникера Достоевского – того голоса, которым он будет столь выразительно пользоваться в «Идиоте», «Бесах» и «Братьях Карамазовых». Дуня и Разумихин выступают в роли идеальных читателей: сначала им не нравится сухость рассказчика, но затем они заключают, что лучше, чем он, написать нельзя. Письма Сони разительно отличаются от письма матери, полученного Раскольниковым в начале романа. То письмо, с его описаниями, намеками, поручениями, пропусками и неясными мотивами, в значительной мере становится импульсом для последующего развития сюжета. В отличие от него, письма Сони несут печать стиля и повествовательной манеры Горянчикова. Они не создают сюжета; вместо этого они обозначают наиболее общие особенности голоса рассказчика-хроникера, которому предстоит взять слово в следующем романе Достоевского.
В главе «Летняя пора» из «Записок из Мертвого дома» противоположный берег близлежащей реки с обширными просторами открытой степи становится визуальным романтическим символом свободы:
Я потому так часто говорю об этом береге, что единственно только с него и был виден мир божий, чистая, ясная даль, незаселенные, вольные степи, производившие на меня странное впечатление… <…> На берегу же можно было забыться: смотришь, бывало, в этот необъятный, пустынный простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу. Все для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега. Всматриваешься долго и разглядишь наконец какую-нибудь бедную, обкуренную юрту какого-нибудь байгуша; разглядишь дымок у юрты, киргизку, которая о чем-то там хлопочет с своими двумя баранами. <…> Разглядишь какую-нибудь птицу в синем, прозрачном воздухе и долго, упорно следишь за ее полетом: вон она всполоснулась над водой, вон исчезла в синеве… <…> Даже бедный, чахлый цветок, который я нашел рано весною в расселине каменистого берега, и тот как-то болезненно остановил мое внимание [Достоевский 4: 178].
Образ противоположного берега реки, наблюдаемого из каторжного острога, вновь является в преобразованном и перевоплощенном виде в финале «Преступления и наказания». Несмотря на то что вновь изображается весна, картина лишена романтических и сентиментальных нот. Скромное и сильное описание берега реки сливается с видением пасущего свои стада ветхозаветного Авраама.
С высокого берега открывалась широкая окрестность. <…> Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его [Достоевский 6: 421].
Прошлое сливается с настоящим, создавая вневременный образ. (Чехов обратился к тому же приему в своем наиболее близком Достоевскому рассказе «Студент»[47]47
См. мою статью «Что является чеховским в Чехове?» [Miller 2005].
[Закрыть].) Эти мотивы из «Мертвого дома» и «Преступления и наказания» предвещают также и сцену в «Братьях Карамазовых», где Алеша вспоминает чудо в Кане Галилейской и где библейское прошлое сливается с настоящим, становясь столь же близким[48]48
Эта ключевая сцена из «Братьев Карамазовых» будет подробнее разобрана в седьмой и восьмой главах, а также в заключительной главе.
[Закрыть]. Более того, рассказчики «Записок» и эпилога «Преступления и наказания» одинаково описывают течение времени в остроге: подробно говорится о первом годе тюремной жизни, тогда как остальные года раздвигаются или сжимаются почти до нуля. Но Раскольников понимает то, что Горянчиков и другие арестанты в «Мертвом доме» могли ощущать только бессознательно и с трудом выражали через свои свободные занятия «искусством для искусства»: «Вместо диалектики, – думает Раскольников, или, по крайней мере, мы должны считать, что он так думает, – наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое» [Достоевский 8: 422]. Жизнь заняла место логики.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!