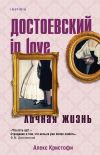Текст книги "Неоконченное путешествие Достоевского"

Автор книги: Робин Фойер Миллер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Чтение и перечитывание романа
«Преступление и наказание», так же как «Гордость и предубеждение» или «Гекльберри Финн», – это роман, который американские студенты порой прочитывают еще в старших классах школы. В университетской аудитории иногда приходится слышать, как они разочарованно говорят: «А я это уже читал». Однако вскоре студенты соглашаются с тем, что данное произведение стоит перечитать. Преподавание любого романа, который кто-то в классе уже прочел, дает возможность для более содержательного диалога: можно попросить студентов сравнить воспоминания о первом впечатлении от книги (и одновременно об их детстве или юности) с последующим обращением к ней. Таким образом студенты могут вести подлинный диалог с собой и в то же время со своими однокурсниками, преподавателями, критиками и, что важнее всего, с самим романом[61]61
Студентам может быть интересно вспомнить и поразмышлять над своим первым обращением, особенно если оно произошло в детстве или в раннем подростковом возрасте, к основополагающим текстам, таким как «Преступление и наказание». Так, Джордж Оруэлл ярко описал свое первое прочтение «Дэвида Копперфильда» в эссе «Чарльз Диккенс» (1939): «Мне было, если не ошибаюсь, лет девять, когда я впервые прочел „Дэвида Копперфильда". Душевный настрой первых же глав оказался для меня таким доступным, что по наивности я предположил, будто они написаны ребенком. Перечитывая книгу уже взрослым и замечая, как бывшие гиганты, фигуры роковые, например, Мердстоны, уже выглядят для тебя полукомическими чудовищами, все равно понимаешь, что эти страницы не утратили ничего. Диккенс умел найти такой поворот в детском сознании и вне его, что одна и та же сцена, в зависимости от возраста читавшего, могла обратиться и в безудержный бурлеск, и в зловещую реальность» [Оруэлл 1992: 96].
[Закрыть].
Читаем ли мы «Преступление и наказание» в подростковом возрасте или во взрослом, большинство из нас захватывает этот роман. В. С. Притчетт тонко заметил о Достоевском, что он «владеет нами, [потому что] движется вместе с нами по мере того, как у нас меняется чувство нашей собственной опасности» [Pritchett 1979: 72]. Октавио Пас, в другом контексте, высказывает схожую мысль: «Достоевский – наш великий современник» [Paz 1987: 94][62]62
Я благодарю Дональда Фэнгера за то, что он обратил мое внимание на эти сочинения Притчетта и Паса. Недавно Ричард Фриборн указал на по-прежнему потрясающую способность Достоевского «заманивать часть жизни в засаду и навсегда изменять ее» [Freeborn 2003: 137]. В литературоведении можно найти множество убедительных доказательств острой актуальности Достоевского.
[Закрыть]. Эти высказывания могут служить эпиграфами к «Преступлению и наказанию». Наше нынешнее чувство опасности заставляет нас особенно внимательно относится к тому, как идеи – непродуманные или тщательно взвешенные – распространяются, подобно страшным вирусам. Воздух – их среда. В своем романе Достоевский в его характерной манере пророчески соединил эти мотивы: идеи – это вирусы; вирусы – это идеи; и те, и другие одинаково заразны и распространяются по воздуху.
В эпилоге, который так гневно и с таким презрением отвергает Мочульский, но которым сам автор, похоже, гордился, есть описание последнего незабываемого сна Раскольникова, приснившегося ему незадолго до Пасхи:
Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные [Достоевский 6: 419][63]63
Достоевский возвращается к теме заразных «трихин» в рассказе «Сон смешного человека», опубликованном в 1877 году в «Дневнике писателя». См. шестую главу настоящей книги.
[Закрыть].
В чем сущность нашего века, если не в том, что каждый из нас, независимо от национальности, расы и профессии, подвергся воздействию подобного «вируса» и, вероятно, заразился им? Более того, сама лексика, с помощью которой рассказывается о сновидении (упоминание «избранных»), уже говорит о том, что сам Раскольников заразился. Является ли этот сон, как встреча Ивана с чертом, признаком начала гомеопатического выздоровления?[64]64
Подробное обсуждение темы «Достоевский и метафизическая гомеопатия» см. в восьмой главе настоящей монографии.
[Закрыть] Призраки вполне реальных инфекционных микроорганизмов (вирус СПИДа) и вируса идеологии из этого фрагмента сливаются в сознании современного читателя. И это, несомненно, понравилось бы Достоевскому, поскольку он был прежде всего поэтом – пусть и в прозе – «идей, которые носятся в воздухе».
При той болезни, которая снится Раскольникову, абсолютная уверенность (убежденность) парадоксальным образом сочетается с неуверенностью (тревогой). В современных исследованиях принято считать, что идеи, мотивы, психология, время и даже сам черт в «Братьях Карамазовых» – одним словом, большинство идей и элементов в мире Достоевского – заряжены одновременно положительно и отрицательно. Вернемся ко сну Раскольникова в эпилоге: каждый пораженный вирусом считал себя мудрым и несомненно обладающим истиной. Тем не менее
все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать [Там же: 420][65]65
Любопытно, что в своих записных тетрадях середины 1860-х годов, еще до начала работы над «Преступлением и наказанием» и во время написания разных статей, Достоевский дважды указывал на противоположность социализма и христианства, ассоциируя, с одной стороны, социализм с «лучиночками», а с другой – сравивания христианство с братством или коллективной идеей человечества. См. записи от 19 августа и 14 сентября 1864 года в: [Неизданный Достоевский 1971:244–246]. Карл Проффер (хотя и несколько запутанно) истолковывает эти ссылки на «лучиночки» так, что они резонируют с обреченностью зараженных людей во сне Раскольникова: «Выступая за христианство против социализма, Достоевский, по-видимому, использует это слово как сокращенную ссылку на библейскую притчу о силе соединенных вместе лучинок, в то время как отдельные и разрозненные легко ломаются, рассматривая социализм как состоящий, в сущности, из отдельных личностей, в отличие от христианской общины, связанной воедино нерушимой идеей Бога» [Proffer 1975: 142]. Русские публикаторы также отмечают: «Вероятно, он имеет в виду притчу о том, что связку лучинок или прутьев сразу разломать нельзя, а по отдельности легко» [Неизданный Достоевский 1971: 275]. Однако ни один из источников не указывает, что это за притча, и я, даже после моих собственных разысканий и бесед с несколькими коллегами-религиоведами, а также со священником, к сожалению, не смогла найти ее ко времени написания этой работы. Тем не менее все равно привожу ссылку вследствие ее интригующего характера.
[Закрыть].
Коллективные суждения, неизбежно выносимые любым обществом, оказываются невозможны. Людям в видении Раскольникова не хватает решающей способности выносить те обоснованные суждения, которые Нуссбаум назвала важной гражданской чертой: перефразируя исследовательницу, можно сказать, что они неспособны думать «ради целого, а не как сторонники какой-то определенной группы или фракции» и, несмотря на все свои тревоги и мучения, они не могут увидеть «в листьях травы равное достоинство всех граждан» [Nussbaum 1995: 120]. Является ли сон Раскольникова изображением некоей абсолютной идеологии, окутанной парализующей оболочкой относительности и непродуктивной симпатии? Или это пророческий сон о мире, лишенном убеждений, сочувствия и справедливости? Обе альтернативы ужасны. Подобные фрагменты убедительно говорят и о нашем современнике, и об омрачающем его сознание ощущении опасности – физической и этической.
Более того, хотя у романа есть эпилог, Достоевскому в финале все же удается, как почти во всех его произведениях, обмануть читательские ожидания. Здесь нет ничего от того «стука молотка», который можно различить в концовках большинства популярных произведений XIX века. (Э. М. Форстер в «Аспектах романа» (1927) замечал: «Позвольте бедолаге-писателю кое-как закончить свой труд, он ведь зарабатывает себе на хлеб, как и все люди, и потому неудивительно, что в финалах ничего не слышно, кроме стука молотка и скрежета завинчиваемых гаек» [Forster 1927: 95–96].) «Преступление и наказание», возможно, действительно включает в свою структуру что-то вроде пролога, пяти актов трагедии и эпилога, но, несмотря на присутствие этой внешней формы, в нем нет внутренней завершенности, нет ответа на самые важные вопросы: почему Раскольников совершил убийство? в какой момент он начал раскаиваться в совершенном преступлении? в чем в действительности состоит его признание? уверовал ли Раскольников? Все эти вопросы как бы «созрели» к обсуждению, но так и не получают полного ответа. Неужели их постановка, их «зрелость» – это все, к чему привел нас роман? Анализируя любое из произведений Достоевского, замечаешь: чем внимательнее исследователь относится к любому событию или мотивации, тем важнее ему кажутся предшествующие тексты.
Однако именно таких парадоксов и следует ожидать от наиболее интересной литературы. Так, Мейнард Мэк сказал о «Короле Лире», что эта пьеса «по своей природе тяготеет к мифу: она отвергает правдоподобие, чтобы узнать правду» [Маск 1965: 97]. То же можно было бы сказать и о «Преступлении и наказании»: этот роман отказывается от однозначных ответов на вопросы, чтобы обрести более глубокое понимание.
Влияние ненаписанного романа и отвергнутого повествования
Обратимся теперь к другим стратегиям преподавания «Преступления и наказания». Прежде чем начать обсуждать со студентами первую часть, имеет смысл затронуть вопрос о нескольких «ненаписанных романах» Достоевского, таких как «Отцы и дети», «Житие великого грешника» и – наиболее важного для нас – романа «Пьяненькие», оставившего след в «Преступлении и наказании». Возможно, из-за того, что многие люди представляют самих себя авторами ненаписанных романов, студенты легко вовлекаются в обсуждение вопроса о том, как нечто несозданное и, следовательно, не существующее в реальности повлияло на существующее.
В 1865 году Достоевский оставил в записной книжке несколько строк, относящихся к «Пьяненьким»:
– Оттого мы пьем, что дела нет.
– Врешь ты оттого что нравственности нет.
– Дай нравственности нет, оттого что дела долго (150 лет) не было [Неизданный Достоевский 1971: 183].
Большинство критиков, в том числе Франк, пришли к выводу, что этот ненаписанный роман имеет продолжение в сюжетной линии Мармеладова [Frank 1995: 60, 85]. Лично я в этом не уверена. «Пьяненькие» могут оказаться менее «ненаписанными», чем кажется. По существу, «разветвления пьянства» – а Достоевский употребил именно это выражение в письме к А. А. Краевскому о своем намерении написать «Пьяненьких» – пронизывают «Преступление и наказание» и не сводятся только к линии Мармеладова. В июне 1865 года Достоевский писал Краевскому о своем новом плане: «NB. Роман мой называется „Пьяненькие“ и будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и проч, и проч.» [Достоевский 28-2: 127]. Поздней осенью 1865 года писатель переосмыслил эту идею и внедрил ее в «Преступление и наказание». Хотя мы склонны думать, что великий роман посвящен той теме, которая вынесена в его заглавие, он в равной степени является также и семейным романом: в нем присутствуют яркие «картины семейств» и «воспитания детей в этой обстановке». В центре повествования четыре семьи: убитая процентщица и ее сестра; семейства Раскольниковых, Мармеладовых и Свидригайловых. На периферии романа присутствует еще несколько семей[66]66
См. превосходный обзор и анализ темы семьи в творчестве Достоевского в работе Сюзанны Фуссо [Fusso 2002: 175–190]. Фуссо трогательно и умно пишет о присущем Достоевскому убеждении, что «созидается… семья неустанным трудом любви» – выражение из «Дневника писателя» [Достоевский 22: 70; Fusso 2002: 183–190].
[Закрыть].
Тема пьянства выходит далеко за рамки линии Мармеладова. Улицы Петербурга, по которым бродит Раскольников, кишат пьяницами обоего пола и всех возрастов. Герой видит сон: пьяные мужики забивают слабосильную лошаденку – эта сцена происходит уже не в городе, а в сельской местности. В одном из самых ранних набросков к роману мы узнаем, что Заметов, по словам Раскольникова, напоил его «как свинью» [Достоевский 7:81]. Еще интереснее то, что в романе пьет даже самый положительный из героев-мужчин – Разумихин, чья фамилия происходит от слова «разум». В набросках к роману неоднократно подчеркивается пристрастие Разумихина к выпивке. В самых обширных черновых фрагментах, где действует этот герой, также упоминается его пристрастие: так, например, он выпивает две бутылки пива в сцене, где пытается накормить Раскольникова супом с ложечки [Достоевский 7:48][67]67
Франк напоминает о том, что Разумихин однажды «говорит, что его фамилия – всего лишь сокращенная форма настоящей – Вразумихин. <…> Глагол “вразумить” означает научить или заставить понять, [и]… его поведение в борьбе с невзгодами преподает Раскольникову урок, который придется усвоить» [Frank 1995: 99].
[Закрыть]. В какой-то момент Достоевский предполагает, что Разумихина «чрезвычайно озабочивает… что он вчера, спьяну, проболтался Раскольникову о подозрении его в убийстве» [Достоевский 7:173]. В самой обширной из черновых характеристик Разумихина (запись от 2 января 1866 года – одна из немногих, которую можно точно датировать) Достоевский пишет: «Разумихин очень сильная натура и, как часто случается с сильными натурами, весь подчиняется Авд(отье) Ром(ановне). (NB. Еще и та черта, которая часто встречается у людей, хоть и благороднейших и великодушных, но грубых буянов, много грязного видевших…» [Там же: 155–156]. Достоевский особо подчеркивает склонность Разумихина к выпивке, отмечая, что после ссоры с Дуней из-за Сони он «закутил»:
NB. Разумихин запил. Она к нему сама пришла, к пьяному…
– Экой ты славный! А не будешь пить?
– Буду!
– Экая ты злодейка, ведь ты у меня теперь 15 000 стоишь.
– Укушу пальчик. – Пребольно укусил [Там же: 156].
Таково было отношение автора к Разумихину в то время, когда роман только начал печататься в «Русском вестнике». Достоевский был готов сделать одного из своих наиболее положительных персонажей пьяницей. Учитывая это, читатель не может просто ставить знак равенства между пьянством и моральной слабостью.
Итак, работу в аудитории можно начать с того, что преподаватель спровоцирует отвлеченную дискуссию: можно ли вообще что-то сказать о ненаписанном романе? Этот разговор, по всей вероятности, перерастет в спор о том, написал или не написал Достоевский в итоге этот роман. Похоже, что Раскольников совершает убийства в состоянии духовной интоксикации: он как бы опьянен своими идеями. Франк обращает наше внимание на то, что «никто не заметил аналогии между психологическим состоянием Раскольникова до и после преступления – и описанием Достоевским того, что часто происходило во время реальных убийств, совершаемых крестьянами. Бывает так, что некий крестьянин, дворовый, солдат или рабочий большую часть своей жизни живет мирно; но вдруг, в какой-то момент, «вдруг что-нибудь у него сорвалось; он не выдержал и пырнул ножом своего врага и притеснителя. <…> Точно опьянеет человек, точно в горячечном бреду. Точно, перескочив раз через заветную для него черту, он уже начинает любоваться на то, что нет для него больше ничего святого…» [Frank 1995: 63; Достоевский 4: 87–88] (курсив Франка. —Р.М.). Наблюдение Франка весьма проницательно: действительно, существует связь между образом героя-студента Раскольникова и галереей убийц из числа крестьян, встреченных Достоевским на каторге.
Здесь особенно любопытно то, что Достоевский представляет своего крестьянина-убийцу человеком, совершающим внезапный переход – бредовое обращение (или извращение) – в состоянии темного духовного опьянения. Человек пристрастился к своей идее, и духовное опьянение, бред приводит его к преступлению, к «перескакиванию черты». Таким образом, как убедительно демонстрирует Франк, Раскольников связан с этими крестьянами-убийцами. В силу того что герой впадает в сходное с ними состояние «опьянения», он оказывается, возможно, самым главным «пьяницей» в (не)написанном романе «Пьяненькие». Тема алкоголя и зависимости от него весьма актуальна для современных студентов. Изображение этих проблем у Достоевского как в замысле «Пьяненьких», так и в окончательном тексте «Преступления и наказания» – тонкое, непредсказуемое и далеко не шаблонное. При всей идеологической необычности толкования «Преступления и наказания» Толстым, оно в этом отношении чрезвычайно точно:
Истинная жизнь Раскольникова совершалась не тогда, когда он убивал старуху или сестру ее. Убивая самую старуху и в особенности сестру ее, он не жил истинною жизнью, а действовал как машина, делал то, чего не мог не делать: выпускал тот заряд, который давно уже был заложен в нем. <…> Истинная жизнь Раскольникова происходила… в то время, когда он даже и не думал о старухе, а, лежа у себя на диване, рассуждал вовсе не о старухе и даже не о том, можно ли или нельзя по воле одного человека стереть с лица земли ненужного и вредного другого человека… <…> Вопросы эти решались… когда он не действовал, а только мыслил, когда работало одно его сознание и в сознании этом происходили чуть-чуточные изменения [курсив мой. – Р. М.]. И вот тогда-то бывает особенно важна для правильного решения возникающего вопроса наибольшая ясность мысли, и вот тогда-то один стакан пива, одна выкуренная папироска могут помешать решению вопроса, отдалить это решение, могут заглушить голос совести, содействовать решению вопроса в пользу низшей животной природы, как это и было с Раскольниковым [Толстой Тк 280][68]68
Здесь уместно привести мое суждение об этой статье, высказанное в другом контексте: «Действительно ли решение Раскольникова совершить убийство висело на волоске, как полагает Толстой? Был ли голос совести героя заглушен внешними силами и обстоятельствами? Или, возможно, Достоевский изобразил его находящим носящиеся в воздухе вокруг себя внешние подтверждения тех перемен, которые уже произошли в его сознании? Конечно, Толстой и Достоевский, как два великих художника, изображали сочетание этих внешних и внутренних факторов: изображение Толстым внутренних монологов и диалогов его персонажей по крайней мере столь же убедительно, как у Достоевского, а способность последнего изображать бесчисленные факторы – и незначительные, и весомые, нависающие над определенным событием и определяющие их, – несомненно, сопоставима с умениями Толстого. Но оба автора не шли на легкий компромисс, и в итоге причинно-следственные связи, изображаемые Толстым, вступают в прямое противоречие с настоятельными указаниями Достоевского на неискоренимое присутствие и высшую мощь способности человека к выбору – на его свободную волю» [Miller 1986: 6].
[Закрыть].
Хотя Толстой, вероятно, не знал о намерении Достоевского написать роман под названием «Пьяненькие», он, похоже, согласился бы с тем, что Достоевскому все-таки удалось написать этот роман, хотя и под другим названием.
Второй момент в творческой истории романа, значимый для его понимания, – то, что Достоевский изначально задумал его как перволичное повествование, включавшее, судя по авторским заметкам, все те приемы двойственной точки зрения и амбивалентного отношения к читателю, которые были представлены в повести «Записки из подполья» (1864)[69]69
О творческой истории «Преступления и наказания» написано много важных исследований; авторы большинства из них плодотворно размышляли и анализировали черновые тетради Достоевского, и не в последнюю очередь момент перехода от перволичного к третьеличному повествованию в романе. См. в особенности [Wasiolek 1967; Rosenshield 1978; Розенблюм 1981; Frank 1995: 80–95].
[Закрыть]. По мере чтения первой части романа студенты могут выявлять и обсуждать оставшиеся там следы рассказа от первого лица: большая часть повествования доходит до нас через диалоги, важные обрывки подслушанных разговоров, внутренний монолог героя, сны, а также через чтение и последующее деконструирование Раскольниковым письма от матери (подробнее об этом будет сказано ниже). Первая часть романа представляет собой своего рода учебный компендиум стратегий рассказывания от первого лица, хотя повествование и ведется от третьего. Как только Достоевский «открыл» третьеличного рассказчика, он описал его в своих рабочих тетрадях следующим образом: «Перерыть все вопросы в этом романе. Но сюжет таков. Рассказ от себя, а не от него. Если же исповедь, то уж слишком до последней крайности, надо все уяснять. Чтоб каждое мгновение рассказа все было ясно» [Достоевский 7:148]. Писатель почему-то связал здесь необходимость ясности с имманентной перволичному повествованию исповедальностью – логически неочевидно, почему, если это «исповедь, то уж слишком до последней крайности, надо все уяснять». Тем не менее, как мы видим, автор в то время полагал, что это оправданный шаг.
Мысли, отразившиеся в приведенном фрагменте, далее получают развитие: если это не исповедь героя, а повествование от лица автора, то должна измениться форма всего текста:
Рассказ от имени автора, как бы невидимого, но всеведущего существа, но не оставляя его ни на минуту… <…> Но от автора. Нужно слишком много наивности и откровенности [подразумевается, что именно рассказ от первого лица требует этих качеств. – Р. М.].
Предположить нужно автора существом всеведующим и не погрешающим, выставляющим всем на вид одного из членов нового поколения [Достоевский 7: 149; 146].
Мы не можем сказать точно, когда именно Достоевский перешел от первого лица к третьему, но знаем, что это произошло где-то в конце осени – начале зимы 1865 года, скорее всего, в ноябре.
Более того, в письмах, написанных до ноября этого года, Достоевский постоянно называл свое незавершенное произведение «повестью»; затем оно стало «романом». Так смена повествовательной инстанции совпала с более общим переходом – от повести к роману. Особенно интересно, что уже в первом упоминании о будущем «Преступлении и наказании» Достоевский описал это произведение как текст о молодом человеке, поддающемся незавершенным идеям, витающим в воздухе. В сентябре 1865 года он написал Каткову, что действие повести «современное, в нынешнем году», и что он повествует о молодом человеке, поддающемся «некоторым странным „недоконченным“ идеям, которые носятся в воздухе» [Достоевский 28-2: 136]. В этом письме, содержащем подробное описание сюжета, а также и в другом, составленном в те же дни и адресованном другу Достоевского А. Е. Врангелю, писатель называл свое произведение «повестью» [Там же: 136–138, 139–140]. Однако в письмах, датированных ноябрем 1865 года, жанровое обозначение меняется: повесть становится «романом», и это обозначение сохраняется в письмах в дальнейшем (см. письмо Врангелю от 8 ноября: [Достоевский 28-2: 141]).
Любопытно, что в феврале 1866 года Достоевский писал Врангелю о работе над произведением следующее: «В конце ноября было много написано и готово; я все сжег; теперь в этом можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал сызнова» [Там же: 150]. Тем не менее, как мы видим из других его писем и из рабочих тетрадей (хотя записи в них и трудно датировать), важное концептуальное изменение произошло на деле в начале ноября, когда писатель начал называть свое произведение романом. Более того, Франк указывает, что, выбрав повествование от третьего лица, Достоевский «начал переписывать с нуля; но не сжег, как писал Врангелю в феврале 1866 года, все, написанное ранее. Напротив, он легко смог включить разделы более ранней редакции в окончательный текст… просто переводя их из первого лица в третье» [Frank 1995: 93].
Почему Достоевский решил сделать столь важный шаг – обратиться к третьеличному повествованию? Отказавшись от исповеди, ушел ли он в какой-то степени от характерной для психики Раскольникова клаустрофобной атмосферы? Писатель чувствовал, что нужно было как-то прояснить читателю сознание героя изнутри, но сделать это оказалось невозможно. Самым важным, на мой взгляд, было то, что по некой неизвестной причине переход к третьему лицу освободил автора от поставленной им самому себе задачи – четко определить главную причину ужасного преступления Раскольникова. Одновременно с новой системой повествования он отложил эту задачу. В предыдущих рабочих тетрадях Достоевский неоднократно задавался вопросом, почему Раскольников совершил убийство. Возможных мотивов – вокруг которых также можно сфокусировать обсуждение в студенческой аудитории – было много: здесь и «загадка отца Горио» (которую Достоевский сокращал до «идеи Растиньяка»), и желание Раскольникова проверить себя – является ли он «необыкновенным человеком» (Наполеоном) или «вошью», и ужасный груз семейной ситуации, и обнищание в буквальном смысле, и, наконец, дьявол, – список возможных мотивов можно продолжить.
Как ни странно, резкий сдвиг повествовательной перспективы произошел параллельно существенной концептуальной перемене в создании как самого романа, так и его героя. Пока произведение создавалось от первого лица, Достоевского, казалось, больше интересовал определенный ответ на вопрос, почему Раскольников совершил убийство: ему нужна была причина, которая перевесила бы все другие. Он записывал: «ГЛАВНАЯ АНАТОМИЯ РОМАНА. <…> Непременно поставить ход дела на настоящую точку и уничтожить неопределенность, т. е. так или этак объяснить все убийство и поставить его характер и отношения ясно» [Достоевский 7: 141–142]. Ранние тетради свидетельствуют о том, что автор не мог сам разобраться в клубке конкурирующих мотивов преступления, где ни одна конкретная причина не могла считаться первичной или достаточной.
Введение третьеличного повествователя, способного пребывать одновременно как бы и внутри, и вне сознания Раскольникова, загадочным и нелогичным образом побудило Достоевского иначе взглянуть на проблему причин преступления. Он освободился от необходимости «уничтожить неопределенность» и «объяснить все убийство». Повествование от третьего лица позволило Достоевскому принять весь клубок мотивировок вместо того, чтобы пытаться его распутать. Множественность причин преступления в их совокупности и составляет суть как романа, так и характера Раскольникова.
Таким образом, писатель вернулся к своему первому конспекту сочинения о молодом человеке, поверившем идеям, «которые носятся в воздухе». Суть дела состоит именно во множестве незавершенных идей, пронизывающих его душу, и ни одна из них не является единственной причиной убийства. Ключкин доказывает, что доминирующая в романе атмосфера «жаркого и душного воздуха» была «очевидна читателю того времени», и приводит красноречивый отрывок из статьи журнала «Время» за 1861 год «Современные заметки» с подзаголовками «Летний зной и книжная духота. Воображаемая теория. Потребность в свежем воздухе [и др.]»: «Летом в Петербурге душно вообще, а тому, кто осужден обстоятельствами на усердное чтение печатных книжек, газет и журналов, душно в особенности. <…>…вокруг… волнуется „океан пустословия, пошлостей, фальши, фраз без смысла"» [Летний зной… 1861: 13]. Ключкин делает вывод: «Герои романа помещены автором не только в жаркое лето 1865 года, но и в удушающую среду повторений и нереференциальной речи, которая процветает в прессе» [Klioutchkine 2002: 103]. Мог ли Достоевский – автор множества заметок, напечатанных во «Времени», – быть автором и этого фельетона? Положительный ответ означал бы, что ассоциативная связь летнего зноя, книжной духоты и удушающей теории уже присутствовала в его сознании за несколько лет до того, как он написал Каткову о герое, поддавшемся «„недоконченным“ идеям».
Как бы там ни было, решив писать от третьего лица, Достоевский вскоре смирился с тем, что лучше изображать трагическую двойственность героя (или даже, за неимением лучшего, можно сказать: двойственность в квадрате), чем попытаться ее разрешить. По иронии судьбы, именно в романах с всеведущим третьеличным рассказчиком у Достоевского получили более явную реализацию полифония и диалогизм, тогда как те же характеристики в более коротких произведениях, похоже, лучше всего проявились в текстах, написанных от первого лица.
Франк в своем тщательном анализе романа выдвигает на первый план отличную от вышеизложенной причину решения Достоевского. «Почему Достоевский отказался от написания повести, – об этом мы можем только догадываться, но одно из объяснений состоит в том, что протагонист начал перерастать задуманные для него автором границы» [Frank 1995: 84]. Далее Франк ссылается на «вечное несогласие среди исследователей Достоевского по вопросу о том, являются ли мотивы, приписываемые Раскольникову, противоречивыми или нет» [Ibid: 86]. По мнению Франка, мотивы, которые подталкивают Раскольникова к преступлению, не отражают противоречий его характера или авторских сомнений: они, скорее, представляют собой связанный ряд последовательных метаморфоз, претерпеваемых героем: «метаморфоз, являющихся результатом его постепенного осознания всех последствий содеянного» [Ibid: 87 и далее]. Таким образом, Франк указывает на ряд мотивов преступления Раскольникова, которые сложным, но объяснимым образом вытекают из его характера, в то время как я нахожу наиболее интересным то, что Достоевскому больше не нужно было «объяснять все убийство», как только он поменял повествовательную манеру. Вместо этого писатель смог позволить себе изображение одновременной множественности (а не метаморфозы) мотивировок Раскольникова, его уступок «„недоконченным“ идеям» и микробам, витающим в удушливом петербургском воздухе.
Сопоставляя диалогическое движение мыслей, слов и поступков Раскольникова с такими же процессами в сознании других героев – Мармеладова, Сони, Дуни, Порфирия Петровича и в особенности Свидригайлова, – Достоевский показывает, как работают все возможные причины преступления, и в то же время противопоставляет мотивировку протагониста мотивам других персонажей. Выражение «диалогическое движение мотивов Раскольникова» – это своего рода эвфемизм, который в определенной степени вводит читателя в заблуждение, поскольку подразумевает упорядоченный, последовательный психический процесс. На деле созданный эффект больше похож на неуправляемый разговор, изобилующий грубыми перебоями, паузами, моментами, когда герои не слышат друг друга или, наоборот, внимательно вслушиваются. Оставаясь в рамках рассказа от первого лица, Достоевский не смог бы передать коммуникацию героев с той же полнотой, не прибегая к громоздким приемам.
Однако писателя неизменно тянуло к перволичному рассказу, даже когда он окончательно отверг его. Два его романа, написанные от первого лица, – «Униженные и оскорбленные» (1861) и «Подросток» (1875) – красноречиво свидетельствуют о геркулесовой борьбе, которую Достоевский вел с повествовательными трудностями, с большим числом персонажей, событий и сюжетных линий[70]70
В другой работе я доказывала, что Достоевский успешнее использовал перволичное повествование в более коротких текстах, хотя упомянутые здесь романы («Униженные и оскорбленные» и «Подросток») заслуживают в этом отношении более пристального внимания, чем они получали ранее [Miller 1981:2–3].
[Закрыть]. Эти два романа эпизодичны и запутаны по композиции, что несколько подрывает их тем не менее существенную силу воздействия на читателя.
Вернемся к «Преступлению и наказанию» и к вопросу о причинах поступка Раскольникова. Достоевский, казалось бы, почти одновременно принял два решения. Во-первых, он в корне изменил авторскую задачу и, следовательно, идею романа: теперь он не считал важным раскрыть доминирующий мотив преступления своего героя. Вместо этого он предпочел изобразить многогранность человеческой личности, уступившей «идеям, которые носятся в воздухе». Во-вторых, глубокая реконструкция одной из таких идей, легшей в основу романа, совпала с изменением повествовательной ориентации с первого лица на третье.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?