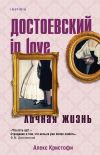Текст книги "Неоконченное путешествие Достоевского"

Автор книги: Робин Фойер Миллер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 3
«Преступление и наказание» в учебной аудитории: слон в саду
…гул и жужжание подразумеваемого.
Лайонел Триллинг. Манеры, нравы и роман
…всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с… Прежде всего!
Свидригайлов в «Преступлении и наказании»
Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим разумеет.
Раскольников в «Преступлении и наказании»
Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете, а ей-богу, жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!
Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании»
Роман «Преступление и наказание» (1866) занимает центральное место и в творчестве Достоевского, и в нашей монографии. В настоящей главе я прибегну к подходу, отличающемуся от того инструментария – пристальных прочтений, критических оценок и размышлений, – который использую в других главах. Хотя основное внимание будет уделяться изменениям и качественным трансформациям убеждений, столь важным для личности и творчества Достоевского, я попытаюсь предложить прочтение романа, связывающее его с настоящим и, в частности, с реальным пространством и атмосферой университетской аудитории. Таким образом, данная глава, при всей ее «приземленное™» и практичности, так же важна для раскрытия темы нашего исследования, как и «Преступление и наказание» – для творчества Достоевского.
Романы живут не только на ограниченном пространстве печатной страницы, они преломляются и видоизменяются в воображении каждого читателя. Но романы обретают жизнь также в разговорах и обсуждениях – и чаще всего это происходит в учебной аудитории. Студенты и преподаватель или любое сообщество читателей, собравшееся для обсуждения романа, неизбежно переосмысляет его особым образом. Эти разговоры и дискуссии, хотя и не являются сами по себе перформансами, все же содержат перформативные элементы в том смысле, что роман на протяжении обсуждения оживает в словах и жестах нескольких читателей одновременно. В такие моменты текст буквально оказывается мячом «в игре»; он обретает тот «воздух», о котором так много говорится в самом романе – в диалогах с участием Раскольникова или в тех отрывках разговоров, которые он подслушивает[49]49
Константин Ключкин блестяще проанализировал бесчисленное множество источников «Преступления и наказания» в петербургской культурной среде 1860-х годов – разговоров, журналов, газет. «На мой взгляд, литературный успех Достоевского был во многом обусловлен тем, что писатель открыл свой роман влиянию прессы. Он ассимилировал процессы, происходившие в новой дискурсивной среде, и исследовал их влияние на своих современников» [Klioutchkine 2002: 89]. Ключкин наглядно продемонстрировал, что множественность сообщений об убийствах в петербургской прессе «делает проблематичным указание на какое-либо из них как на источник романа Достоевского» [Ibid: 98].
[Закрыть]. В итоге произведения художественной литературы обретают жизнь как в общественной, так и в частной жизни.
Хотя многие из нас, литературоведов, одновременно являются преподавателями литературы и в силу профессии часто сталкиваются с трудностями в аудитории, мы не склонны писать о действительных проблемах изучения литературного произведения в классе[50]50
В последнее время интерес литературоведов к вопросам преподавания возрос, в результате чего появился ряд важных исследований, см., например, [Denby 1997]. Появилась также замечательная серия, издаваемая Ассоциацией современного языка под названием «Подходы к преподаванию мировой литературы» («Approaches to Teaching World Literature»), в которой вышло почти сто томов, демонстрирующих множество дидактических подходов, которые можно использовать в преподавании при изучении тех или иных произведений. См., например, сборник статей об «Анне Карениной», подготовленный Лизой Кнапп и Эми Менделкер [Knapp, Mandelker 2003]. См. также статью Морсона «Преподавание как олицетворение» [Morson 2002].
[Закрыть]. Этот предмет почему-то считается неважным, находящимся за пределами интересов интеллектуалов и бесполезным для более глубокого и содержательного прочтения того или иного текста. Впервые обращаясь к этой области, я убеждена, что данная деятельность – размышления о художественном произведении на фоне опыта тех, кто впервые его прочел или совместно интерпретирует, – важна сама по себе. В настоящей главе, посвященной столь прозаичной теме, как преподавание «Преступления и наказания», рассматриваются также прагматические и более широкие контексты изучения литературы в университетах и вопросы судьбы чтения в целом.
Мы уже видели, что Достоевский большую часть своей жизни активно участвовал в общественной жизни; кроме того, он с интересом относился к критическим дискуссиям о своих произведениях, участвовал в полемике о них. Он считал, что его проза напрямую связана с событиями недавнего прошлого, настоящего и будущего. Более того, «Преступление и наказание» – это роман, посвященный тем идеям и словам, которые вихрем кружили в воздухе – по большей части в петербургском воздухе, печально известном своей духотой. И потому тем более уместно взглянуть на сегодняшние метаморфозы романа в атмосфере наших классных комнат, подчас столь же душной. Затхлый, потенциально заразный воздух, который впитал этот роман, выходит из него и наружу.
Нетрудно показать, что современная культура изобилует болезнями, экстремизмом, идеологией и отчаянием точно так же, хотя и на другой манер, как и художественные миры Достоевского. Отношение сегодняшних «девственных» читателей к «Преступлению и наказанию», как и отношение первых читателей 1866–1867 годов, все еще оказывается пугающе живым: роман волнует и шокирует их несмотря на то, что мы почти ежедневно с помощью телевидения погружаемся в криминальные драмы с участием полиции, мафии и т. д., что, по идее, должно было бы снизить нашу чувствительность к подобным историям[51]51
Я использую слово «шокировать» в духе Дэвида Денби, который начинает свою книгу с главы об «Илиаде» Гомера: «Я был шокирован. Умирающее слово „шокирован". Очень немногие правильно пользовались им с тех пор, как Клод Рейнс так замечательно сказал: „Я шокирован, шокирован, узнав, что здесь происходят азартные игры", – когда положил свой выигрыш в карман в „Касабланке". Но это единственное слово для обозначения волнения и тревоги такой силы. Грубая жизненность воздуха…» [Denby 1997: 29]. Далее Денби дает забавное, но не лишенное восхищения описание преподавателя в аудитории: «Не поддавайтесь ложным идеям, – сказал он. – Вы находитесь здесь не по политическим, а по весьма эгоистическим причинам. Вы здесь для того, чтобы создать свою самость. Вы создаете, а не наследуете самих себя» [Ibid: 31].
[Закрыть]. Почему же этот роман продолжает оказывать на нас столь сильное влияние? Если в нашем обществе чтение художественной литературы фактически находится под угрозой исчезновения, то станут ли в будущем читать такие тексты, как «Преступление и наказание»? Помогут ли они сохранить культуру чтения? Достоевский всегда охотно обращался к подобным практическим вопросам. Так же следует поступать и нам.
Существует ли опасность исчезновения чтения?
Как мне кажется, в Соединенных Штатах эта опасность действительно существует. В июне 2004 года Национальный фонд искусств выпустил отчет, озаглавленный «Чтение в опасности». Этот всеобъемлющий документ основан на большом статистическом опросе, проведенном Бюро переписи населения США: было опрошено 17 тысяч взрослых, принадлежащих к большинству демографических групп. Результаты оказались, мягко говоря, отрезвляющими. В отчете говорится: «Впервые в современной истории литературу читает менее половины взрослого населения, и подобные тенденции к заметному сокращению охватывают и другие виды чтения». Исследователи отмечают, что «скорость падения показателей усилилась, особенно среди молодежи», и приходят к неутешительному выводу: «На карту поставлено нечто большее, чем чтение»[52]52
Reading at Risk: A Survey of Literary Reading in America: Research Division Report № 46. Washington: National Endowment for the Arts, 2004. В дальнейшем мы будем ссылаться на это издание как на [RAR 2004]. Приведены слова из предисловия, написанного во время подготовки этого отчета Даной Джиойа – поэтессой и председателем Национального фонда искусств (НФИ). В отчете под читателем подразумевается любой человек, который за последние 12 месяцев прочел в свободное время любой роман, рассказ, пьесу или стихотворение, при этом «не проводится различий между произведениями по их качеству» [RAR 2004: 2]. Это определение кажется проблематичным: оно исключает чтение литературы нон-фикшн, а также ту художественную литературу, которая входит в обязательные списки чтения для студентов, и наоборот – слишком занижены критерии понятия «читатель»: прочесть всего лишь одно короткое стихотворение за год оказывается достаточным условием того, чтобы называться «читателем». При отсутствии какого бы то ни было мерила качества это стихотворение может быть, по идее, даже рифмованной рекламой. Однако любое определение для такого отчета будет явным результатом компромисса и окажется подчинено прагматическим задачам. Все же отчет, невзирая на все его недостатки, дал важные результаты.
[Закрыть].
Отчет «Чтение в опасности» указывает на то, что печатная культура
основана на незаменимых формах сосредоточенного внимания и размышления, стимулирующих сложные идеи и формы коммуникации. Утрата подобных интеллектуальных способностей – и многих видов преемственности, которые эти способности делают возможными, – означала бы культурное обнищание [RAR 2004: vii].
Это не означает, что чтение художественной литературы уже не является существенным компонентом нашего досуга: в отчете говорится, что доля читающих людей выше, чем доля тех, кто участвует в большинстве культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, за исключением просмотра телепрограмм, фильмов и выполнения физических упражнений [Ibid: 5].
Приведенные в отчете цифры однозначно показывают, что читающие люди играют более активную роль в своих сообществах. Это может противоречить нашему традиционному представлению о читателе как об одиночке, который отказывается от общения ради глубоко личного, интимного, часто субверсивного акта чтения. Снижение количества и качества чтения происходит, по сути,
одновременно с более широким процессом отказа от участия в общественной и культурной жизни. Долгосрочные прогнозы данного исследования затрагивают не только литературу, но и все виды искусства, а также социальную деятельность, такую как волонтерство, благотворительность и даже участие в политической жизни. <…> По мере того как все больше американцев теряет эту способность, наша нация становится менее информированной, активной и независимой. И это не те качества, которые свободное, стремящееся к инновациям, продуктивное общество может позволить себе потерять [Ibid: vii].
Наконец, как будто сказанного оказалось недостаточно, в отчете прогнозируется, что «при нынешних темпах падения литературное чтение как досуг практически исчезнет через полвека» [Ibid: xii].
Составители этого документа предлагают краткое сравнение читательских предпочтений американцев, канадцев и европейцев. В 1998 году Канада провела аналогичный опрос и обнаружила, что 67 % (в отличие от 47 % в США) взрослого населения страны читали книги в течение года. Европейское исследование (октябрь 2002 года) показало, что средний уровень чтения в 15 европейских странах составляет 45 %, самые высокие показатели обнаружились в Швеции, Финляндии и Великобритании (72 %, 66 % и 63 % соответственно), а самые низкие – в Португалии и Бельгии (23 % и 15 %) [RAR 2004: 7]. Все западные страны в той или иной степени находятся в одной и той же непростой ситуации. Те, кто пишет о литературе и преподает ее, становятся также участниками борьбы за сохранение интереса к чтению.
И на этом фоне преподаватели в США предписывают студентам прочесть такие большие, громоздкие и сложные романы, как «Преступление и наказание»! Иначе говоря, в этом контексте «Преступление и наказание» оказывается просто синонимом любого другого сложного литературного текста, будь то поэма, рассказ, пьеса или роман. Чтение в опасности, и наша первая, самая основная задача – нравится нам это или нет, – дело, о котором мы даже не склонны говорить, как о слоне в своем саду, – это пробудить у наших студентов любовь к чтению и стимулировать их оставаться читателями на протяжении всей жизни. Во время учебы в университете они могут пройти всего лишь один-два литературных курса, – это и есть наш шанс[53]53
Возможно, имеет смысл задаться вопросом, не мешают ли чтению определенные подходы к литературе или к ее преподаванию? Г. С. Морсон, отвечая на этот вопрос отрицательно, утверждает, что опыт чтения пространных реалистических романов может фундаментально изменить жизнь студентов не потому, что учитель внушает ученикам какую-то прекрасную идею или теорию, а потому, что «студент так „вживается“ в произведение <…> что обретает новое зрение. <…> Он переходит от монокулярного к бинокулярному видению, и мир меняется. <…> К концу занятия студентов уже не нужно убеждать, что в реалистическом романе истина момента – это не просто то, что происходит, но комбинация точки зрения А, точки зрения Б, точки зрения В, взгляда А на Б, взгляда Б на А и взгляда повествователя на них всех. А также и то, что голос повествователя – это не просто комментарий, а сочетание различных перспектив и точек зрения» [Morson 2002: 146–149].
[Закрыть].
В поисках аналогии: роман как трагедия
Из всех романов Достоевского «Преступление и наказание» – наиболее жестко структурированный текст. В этом смысле он необычен, и, обращаясь к другим романам писателя, студенты часто обнаруживают, что вымышленный мир, в который они попали (за исключением, возможно, «Братьев Карамазовых»), не выстроен по столь же ясному архитектурному плану. Малкольм Джонс высказался об этом так: «Хотя герой романа проходит через ряд беспорядочных эпизодов, из которых он лишь изредка имеет выход, сам сюжет, по меркам Достоевского, оказывается относительно упорядочен» [Jones 1976: 75][54]54
См. также статью того же автора «„Преступление и наказание": свести других людей с ума» [Jones 1990а: 77–96], где он обнаруживает иной, в высшей степени оригинальный структурный принцип: «Почти любую сцену романа можно анализировать с точки зрения авторской стратегии сведения других людей с ума» [Ibid: 91]. Джонс показывает, как «приемы создания эмоционального хаоса парадоксальным образом ведут к постепенному прояснению» [Ibid: 94].
[Закрыть].
Один из методов, побуждающих студентов заинтересоваться незнакомым и потенциально устрашающим материалом, – это проведение аналогий с текстом или жанром, которые они, как им кажется, уже знают. Таким образом, я обнаружила, что восхитительно старомодная монография К. В. Мочульского «Достоевский: жизнь и творчество» (1947) оказывается весьма полезна при обучении англоязычных студентов начального уровня, которые прочитали в переводе несколько произведений Шекспира и древнегреческих трагедий. Мочульский, как известно, утверждает, что «Преступление и наказание» – это «трагедия в пяти актах с прологом и эпилогом» [Мочульский 1980: 246][55]55
Стивен Кэссиди интересно и тонко дополнил аргументацию Мочульского: «Я считаю, что „Преступление и наказание“ – это формально две разные, но тесно связанные вещи, а именно особый тип трагедии в древнегреческом стиле и христианская история о воскресении. Произведение успешно совмещает две формы, потому что они в определенных пределах идентичны. Конфликт между двумя формами возникает именно там, где они теряют совместимость» [Cassedy 1982: 171]. Статья Кэссиди заставляет вспомнить об интерпретациях книги Иова, которую Достоевский особенно любил. Некоторые ученые считают, что в этом тексте теологи, возможно, дополнили благочестивым «счастливым» концом то, что являлось древнегреческой трагедией.
[Закрыть]. Другие исследователи также указывали на связь этого текста с трагедией: как известно, Вячеслав Иванов в статье «Достоевский и роман-трагедия» (опубликована в 1916) впервые назвал роман Достоевского «романом-трагедией», а сравнительно недавно Джозеф Франк утверждал, что этот роман возвышает русского нигилиста до «художественных высот, равных величайшим творениям древнегреческой и елизаветинской трагедии» [Frank 1995: 100].
Проверка гипотезы Мочульского о том, что роман – это «трагедия в пяти действиях», дает импульс для плодотворной дискуссии, которую можно начать даже до того, как студенты закончат читать роман. Преподаватель может предложить эту мысль как гипотезу на раннем этапе работы и вернуться к ней на последующих занятиях для переосмысления. В ходе этого процесса студенты обнаружат, что анализируют действие в каждой из частей романа.
Если выделить главное, Мочульский предполагает, что первая часть является прологом, который «посвящен подготовке и совершению преступления»; тогда вторая часть – это первый акт, изображающий «непосредственное действие преступления на душу преступника» [Мочульский 1980:246,248]. В третьей части (втором акте, по Мочульскому) Раскольников понимает, что Порфирий Петрович подозревает его, и ему снится сон, в котором он снова пытается убить старуху, но обнаруживает, что, несмотря на удары топором, она остается жива и смеется над ним. Кульминацию «романа-трагедии» Мочульский видит в четвертой части (третьем действии) в контрапункте взаимоотношений Раскольникова со Свидригайловым («банька с пауками») и Соней (воскрешение Лазаря). Ученый обнаруживает «неожиданную перипетию» в признании красильщика Миколки, происходящую в тот момент, когда Порфирий готов разоблачить Раскольникова как убийцу. Пятая часть (четвертый акт у Мочульского) содержит скандальную сцену поминок по Мармеладову, осознание Раскольниковым главного: «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку!» [Достоевский 6: 322] и его признание Соне. Эти сцены, сколь бы важны они ни были сами по себе, служат также для создания решающего «замедления действия перед катастрофой» [Мочульский 1980: 252]. Катастрофа происходит в пятом акте (шестой части романа). Именно здесь Достоевский «параллельно изображает гибель двух „сильных людей", Раскольникова и Свидригайлова» [Там же: 253].
Мочульский не считает, что с Раскольниковым произошли какие-то духовные перемены даже в этой финальной части романа. Напротив, он полагает, что «на самоубийство у него не хватает решимости, и он доносит на себя. Это не раскаяние, а малодушие» [Там же: 254]. Наконец, в предложенной ученым схеме трагедия заканчивается эпилогом, который, как увлеченно утверждает Мочульский, выдает самую суть всего произведения: «Роман кончается туманным предсказанием „обновления“ героя. Оно обещано, но не показано. Мы слишком хорошо знаем Раскольникова, чтобы поверить в эту „благочестивую ложь"» [Там же: 255].
Я кратко изложила основные положения теории Мочульского, которая, вероятно, хорошо известна кому-то из читателей, поскольку эта интерпретация «Преступления и наказания» может послужить хорошей отправной точкой для работы с романом в аудитории. Почему же? Во-первых, она накладывает определенную упорядочивающую схему – отчасти знакомую студентам структуру трагедии – на массу бурных, сложных, часто противоречивых событий и высказываний, на которые они наталкиваются по ходу чтения книги. Действительно, хотя из всех романов Достоевского «Преступление и наказание» наиболее соответствует единому плану и, возможно, является наиболее тщательно выстроенным из всех его художественных произведений, структура этого текста больше похожа на ажурный шов, чем на тканый гобелен. Потяните за одну нитку, и вы начнете распускать или, по крайней мере, менять конфигурацию всей ткани. Например, после убийства Раскольников роняет коробочку с сережками. Подобравший ее красильщик оказывается вовлечен в водоворот событий. Если читатель сосредоточится на этом конкретном, кажущемся незначительным происшествии, то форма целого кардинально изменится. Выберите наугад практически любое действие, совпадение или предмет в романе, и от него потянется ниточка к чему-то еще. Таким образом, предложенное Мочульским удобопонятное сравнение структуры романа с трагедией дает возможность сразу начать разговор о композиции романа.
Несмотря на это, студентов все-таки интересует и путаница событий и идей, беспорядок – даже в том случае, если они ищут структуру и порядок. Точно так же сам Мочульский вкладывает в свою упорядочивающую интерпретацию романа весьма специфическую, подрывную и даже циничную мысль. Он полагает, что перерождение Раскольникова в значительной степени является обманом, «благочестивой ложью» автора, который из конъюнктурных соображений стремится к тому, чтобы роман приняли и читатели, и толстый журнал, редактируемый М. Н. Катковым. Следовательно, Мочульский предполагает, что всеведущий повествователь романа в худшем случае лжец, а в лучшем – ненадежный рассказчик? Ученый считает, что главное чувство, владеющее Раскольниковым, – не раскаяние и даже не сожаление, а стыд. Герою стыдно прежде всего за то, что он «погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы» [Достоевский 6: 417]. Мочульский подчеркивает наличие у Раскольникова стойкого чувства стыда, имеющего решающее значение для этой аргументации. Стыд, по мнению Мочульского, является препятствием для подлинного покаяния Раскольникова[56]56
Наиболее интересный, оригинальный и свежий анализ природы и последствий чувства стыда у Раскольникова можно найти в статье Деборы Мартинсен «Позор и наказание» [Martinsen 2001]. См. также ее большую содержательную монографию, где исследуется проблема стыда у Достоевского в более широком контексте и ее связи с современными исследованиями в этой области [Martinsen 2003а: 20–21 и далее]. Примечательной монографией о «Преступлении и наказании» является и книга Гэри Розеншилда «Преступление и наказание: методы всезнающего автора» [Rosenshield 1978].
[Закрыть].
Подчеркивая чувство стыда у протагониста, Мочульский не находит противоречия в том, что рассматривает его как грандиозного трагического героя:
Раскольников погиб, как трагический герой в борьбе со слепым Роком. Но как мог автор преподнести читателям-шестидесятникам в благонамеренном журнале Каткова бесстрашную правду о новом человеке? Ему пришлось набросить на нее целомудренный покров. Сделал он это, впрочем, наспех, небрежно, «под занавес» [Мочульский 1980: 255] [курсив Мочульского. – Р. М.].
Этим наспех наброшенным (и даже, как намекает ученый, позорным) покровом является, по его мнению, эпилог.
Наверняка кто-то из студентов укажет, что Мочульский ошибается и в определении структуры (трагедия в пяти актах с прологом и эпилогом), и в характеристике того, что переживает Раскольников, равно как и в причинах, по которым написан эпилог. В письмах Достоевский сам удивлялся тому, что планировавшийся им пространный финал романа превратился в краткий эпилог. Обычно его произведения оказывались длиннее, чем он планировал, однако на этот раз финал оказался короче[57]57
См. письма к Н. А. Любимову [Достоевский 28-2: 171, 173]. Во втором письме Достоевский пишет: «Так выходит; так лучше и эффектнее будет в литературном отношении» [Достоевский 28-2: 173].
[Закрыть]. Студентам всегда полезно услышать, как их преподаватели спорят с критиками: это помогает прийти к собственному прочтению текста, несходному с мнениями профессора или критика, но, надо надеяться, не избежавшему их влияния[58]58
Морсон призывает преподавателей привносить в аудиторию чужой голос. Он полемически утверждает, что слишком многие из нас, желая сохранить свои убеждения и отгородиться от проблем, позволяют авторам и персонажам «говорить только о своем времени, а не о нас самих», и при этом «вместо участников диалога мы превращаемся в тех, кто подслушивает старые сплетни» [Morson 2002: 147–148]. Более того, по словам ученого, студенты быстро улавливают это, им становится скучно, и они теряют интерес к занятию.
[Закрыть]. В ходе такого процесса различения мнений и решений роман закрепится в сознании тех, кто читает его впервые.
Возможность передачи читательского озарения другому
Хотя мы стремимся к тому, чтобы студенты воспринимали сложные тексты Достоевского осознанно, рационально и конкретно, нам хотелось бы также, чтобы они посредством самого процесса чтения учились использовать литературные тексты как средства формулировки значимых вопросов и средства сопереживания другим, отличным от них самих людям. Любимейшие учителя, как и бессмертные романы, моделируют для нас процессы поиска и постановки вопросов, а вовсе не претендуют на окончательные ответы.
Наиболее естественным образом подобные проблемы всплывают во время работы в классе. Американский поэт Джей Парини недавно охарактеризовал свою задачу в качестве ведущего семинара (а многие из наших занятий в небольших группах, даже на уровне бакалавриата, оказываются семинарами) словами, которые точно характеризуют происходящее при успешном взаимодействии между студентами, преподавателем и текстом:
Полезно напомнить, что вы «ведете» [conduct] семинар, как дирижер «ведет» оркестр, – эта аналогия в данном случае уместна и поучительна. Тема семинара (а также изучаемые на нем тексты и выполняемые задания) составляют своего рода партитуру; студенты в большей или меньшей степени уже знакомы с этой партитурой еще до начала занятия. На самом деле ожидается, что они подготовятся, прочитав материал и подумав, что можно сказать. Работа дирижера состоит в том, чтобы извлечь эту интеллектуальную музыку, аранжировать ее и задать темп игры [Parini 2004: 16][59]59
Ср. с этим замечание Нортропа Фрая о том, что текст подобен пикнику, на который автор приносит слова, а читатель значения [Frye 19576: 427].
[Закрыть].
Таким образом, учитель, оставаясь максимально верным собственному пониманию текста, должен найти еще и способ ввести этот текст в игру. Только тогда студенты смогут им овладеть. Несомненно, Достоевский, мастер полифонии, жаждущий «нового слова», автор «Дневника писателя», участник огромной переписки, писатель, каждое высказывание которого диалогично, поэт идей, «которые носятся в воздухе» [Достоевский 28-1: 136], одобрил бы свободное обсуждение своего романа в классе, посчитав его органической частью произведения – его существованием «в воздухе», в атмосфере за пределами печатной страницы.
Овладение романом со стороны читателя – это, в сущности, сугубо частный, индивидуальный акт. Но интерпретация художественного произведения в аудитории выполняет еще другую, более публичную и даже гражданскую функцию. Для нас, преподавателей, важно и необходимо помнить о том, что литература и дискуссии о ней важны для общественной и культурной сфер нашей жизни. Наши читательские реакции воздействуют на формирование всей экосистемы культуры, как высокой, так и низкой. Недавно американский философ Марта Нуссбаум высказала ряд идей о том, как литература и ее интерпретация создают существенные элементы нашего публичного дискурса и, шире, демократического общества. Нуссбаум утверждает, что «размышления о повествовательной литературе… могут потенциально повлиять на законодательство в частности… и на общественное мышление вообще» [Nussbaum 1995: 5].
Нуссбаум ищет средство, позволяющее человеку сопереживать «другому» и понимать его, но ее интересует не сентиментальность. Философ утверждает, что способность понимать не только самого себя, но и отличных от нас людей, которую стимулирует литература, помогает рациональной формулировке справедливых законодательных и политических идей:
Литературное воображение – всего лишь часть общественной рациональности. Я считаю, что было бы чрезвычайно опасно заменить основанное на готовых правилах моральное суждение сочувственным воображением, и этого я не предлагаю. В действительности я защищаю литературное воображение потому, что оно кажется мне важным компонентом этической позиции, требующей от нас заботиться о благе других, далеких от нас людей. Подобная этическая позиция будет иметь большое значение для правил и формальных процедур принятия решений, в том числе процедур, стимулированных экономикой. <…> С другой стороны, этика беспристрастного уважения к человеческому достоинству не сможет привлечь реальных людей, если они потеряют способность с помощью воображения приобщаться к жизни далеких людей и испытывать связанные с этим эмоции [Nussbaum 1995: XVI].
Человек, обратившийся к литературе, – читатель «Преступления и наказания» – эмоционально «приобщается к жизни далеких людей», но осознает также и важность «правил и процедур принятия решений» в обществе и обязательно размышляет об этих правилах, вне зависимости от того, каковы его симпатии. Действительно, читать роман Достоевского – значит совершать бесконечную серию челночных движений между сугубо частной сферой индивидуального сознания Раскольникова и общественной сферой законов, идей, религии, а также жителей и атмосферы («воздуха») города, которые окружают героя и влияют на него. Так, Нуссбаум указывает, что жанр романа «из-за некоторых общих особенностей его структуры обычно внушает сочувствие и сострадание способами, имеющими прямое отношение к граждански-общественному» [Nussbaum 1995:10]. Разумеется, в «Преступлении и наказании» почти каждую сцену можно читать, держа в уме подобные общественные вопросы. Даже в моменты самых сокровенных мечтаний и снов или в моменты, когда рассказчик передает поток раздробленного сознания героя, Раскольников постоянно сталкивается с ценностями и практиками окружающего его мира.
На мой взгляд, Нуссбаум выступает здесь в роли современной Порции, способной многое рассказать нам о важнейших человеческих качествах, которые в значительной степени создает и испытывает наша читательская активность, – о милосердии и сострадании. Но самое удивительное, что в ее рассуждениях взаимозаменяемыми оказываются свойства, присущие лучшим читателям в частном мире художественной литературы, и свойства лучшего судьи в реальном мире событий. Ближе к концу книги Нуссбаум пишет:
Литературный судья – интимный и беспристрастный, любящий без преувеличения, думающий о целом и ради целого, а не в качестве сторонника какой-то определенной группы или фракции, постигающий в «фантазии» богатство и сложность внутренней жизни, внутренний мир каждого гражданина, – …видит в листьях травы равное достоинство всех граждан, а также более загадочные образы эротической тоски и личной свободы. <…> Но, для того чтобы стать полностью рациональными, судьи должны еще обладать фантазией и быть способны к сочувствию. Им следует развивать не только профессиональные, но и человеческие качества. В отсутствие последних беспристрастность будет бестолковой, а справедливость – слепой [Nussbaum 1995: 120–121][60]60
«Листья травы» в данном случае – отсылка к стихотворению Уолта Уитмена («Песнь о себе самом»). Стихи Уитмена наряду с творчеством Диккенса («Тяжелые времена»), Э. М. Форстера («Морис»), Ричарда Райта («Родной сын») и некоторых других авторов играют важнейшую роль в рассуждениях Нуссбаум.
[Закрыть].
«Преступление и наказание» предоставляет своим читателям неисчислимые возможности для умозрительных размышлений о пересечениях и конфликте индивидуальной и социальной справедливости, а также для веских суждений об отдельных людях и обществе в целом. Наши способности к воображению и сочувствию подвергаются испытанию, и каждый приходит к собственному пониманию художественной справедливости в романе. Если согласиться с Нуссбаум, то можно сказать, что это читательское знание может быть передано другому и может сделать нас способнее к рациональному, этическому суждению в реальном мире.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?