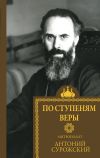Текст книги "Подвижники. Избранные жизнеописания и труды. Книга 1"
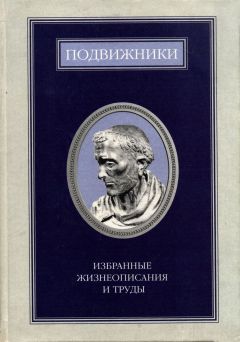
Автор книги: Сборник
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Истинная любовь приносит любящим такое полное взаимопроникновение тела и духа, что позволяет страдать от одних и тех же невзгод и наслаждаться одними и теми же радостями, словно двое – одно существо. Особенно это касается страданий другого. Можно отказаться разделять удовольствия, но не скорби любимого. Франциск просил о том, чтобы любить и страдать, как Господь, а поскольку он не представлял себе любви без действия и страдания, после того, как он пошел за Христом, после того, как он воссоздал в своих ощущениях Рождество, ему оставалось воссоздать в ощущениях Распятие. И столь горячо желал он этого, и столь пылал этой мыслью, что Господь разделил с ним, как с другом, всю Свою любовь и всю Свою скорбь: Он распял его, как Сам был распят.
Из глубины ослепительно сияющих небес к Франциску спустился серафим о шести огненных крыльях. Два крыла соединялись на голове и простирались вниз, два других покрывали все тело, и еще два были раскрыты в полете. И в этой божественной птице молнией блистал Иисус. Франциск созерцал необыкновенное явление, и в его сердце поднимались вместе счастье от лицезрения Господа и скорбь от того, что он видел Его распятым. Тем временем чудесный жар съедал его душу и проникал в тело, отзываясь острой пульсирующей болью в ногах, руках, ребрах, и голос говорил ему: «Знаешь ли ты, что Я с тобой сделал? Я даровал тебе стигматы, зримые знаки Моих страстей, дабы ты был Моим хоругвеносцем». С этими словами крылатый серафим исчез.
Прошло немало времени, прежде чем Франциск пришел в себя и почувствовал, что его руки мокры, а из-под ребер с левой стороны груди стекает горячая струйка. Он посмотрел: это была кровь. Он попытался встать – но не удержался на ногах. Он сел на землю, посмотрел на руки, на ноги и увидел, что они пронзены гвоздями, черными, будто из железа, с большими круглыми шляпками, вколоченными в ладони и ступни. Он распахнул рясу и оглядел левую сторону груди, где боль проникала в самое сердце, и нашел там рану, словно от удара копьем, открытую, красную и кровоточащую. Это и были стигматы, о которых говорил серафим. Значит его мольбы были услышаны! Любовь превратила его в Любимого, потому что человек становится тем, кого любит.
Пока продолжалось явление серафима Франциску, сверкающий свет озарял вершину Верны и освещал горы и долины далеко вокруг. Люди, видевшие это сияние, не похожее на пожар, недоумевали. Но вскоре необычайно яркая заря погасла, и настоящий коралловый рассвет занимался на востоке. Гора пылала духовным огнем, отблеском великого чуда. Но Франциск этого не замечал.
Он угасал и облик его преображался в этом испытании любви к Богу. Он хотел бы скрыть ниспосланную боль, потому что в своем смирении он почти боялся открыть всем необыкновенное чудо, но разве это было возможно, если кровь из раны оставляла следы на рясе, если ноги не выдерживали ни соприкосновения с землей, ни веса тела?
Ему пришлось заговорить. Он собрал троих верных братьев и рассказал им о чуде, но без всяких подробностей, словно оно произошло с другим человеком. Когда же ему напомнили, что Господь одаряет его милостями не только ради него самого, но и для назидания другим, Франциск поведал подробнее о чуде и открыл часть откровений серафима: обещание, что после смерти он сможет каждый год в день собственной кончины спускаться в чистилище, как Иисус спускался в ад, и забирать оттуда души братьев трех его Орденов и души преданных ему людей.
С вечера четверга до утра субботы святой Франциск не желал смягчать боль никаким лечением – в память о страстях Христовых. И это несмотря на то, что за те дни, пока повязка не менялась, она настолько пропитывалась кровью и прилипала к ране, что, когда брат Леоне отдирал ее, он вцеплялся в грудь брата Леоне, чтобы сдержать крик.
Франциск страдал, но был счастлив. Он не хотел и не мог больше ничего просить; он превозносил, славил, благодарил. В то время, как он мог бы вырасти в собственных глазах, получив необычайную привилегию, которая уподобляла его самому Христу, он смирялся до того, чтобы исчезнуть, раствориться в Боге и полностью забыть себя.
В течении двух лет, от стигматов до последней своей болезни, то есть с сентября 1224 по сентябрь 1226 года, Франциск превозносил в гимнах и благословениях все то, что так любил в жизни и что было даровано ему Богом. Теперь ему оставалось особо восславить ту, которую он любил превыше всего и которую называл не сестрой даже, а невестой. Даже пользуясь относительными привилегиями, навязанными ему болезнью, он оставался преданнейшим слугой госпожи Бедности, принимая все заботы о себе только ради послушания и как милостыню. Он всегда выбирал для себя что поменьше и похуже, и даже в епископском дворце носил власяницу и, чтобы скрыть шрамы на висках, прикрывал голову шапочкой из грубейшего полотна, которое не защищало, а только раздражало кожу. Но все это входило в его обычные отношения с госпожой Бедностью, между тем перед смертью надлежало восславить ее, как того требовала любовь. Узнав, что жить ему осталось не много дней, он решил повторить венчальный обряд двадцатилетней давности и, как когда-то нагим уходил от отца, нагим хотел теперь уйти из жизни. Он приказал раздеть себя и положить на землю. Обратив лицо к небу и прикрывая рукой рану с левой стороны груди, он обратился к братьям, которые хоть и плакали, но тоже испытывали в ту минуту необыкновенный подъем духа: «Братья, я исполнил свой долг. Вас же да наставит Христос». Приор, угадав желание Святого, поспешил взять рясу, исподнее и полотняную шапочку и сказал: «Даю тебе взаймы это облачение и ради святого послушания запрещаю тебе передавать его другим, ибо оно не есть твоя собственность».
Святой Франциск, радуясь такому официальному признанию своего союза с бедностью, дал себя одеть, восхваляя Бога; затем утешил братьев благими речами, препоручив им еще раз свою невесту, и попросил, чтобы после смерти положили его опять нагим на землю и оставили лежать ровно столько, сколько нужно, чтобы пройти ровным шагом расстояние в милю.
На рассвете второго октября, в пятницу, после мучительной ночи, он сел на своем жестком ложе, велел принести хлеба, благословил его, приказал разделить его на столько частей, сколько было присутствующих и роздал своими израненными руками по кусочку каждому в память о тайной вечере Господней и в знак того, что он, как и Учитель, любил своих чад до самой смерти и готов был умереть за них, и хотел бы что-нибудь отнять от себя, чтобы передать им. Теперь все было исполнено. В субботу ему стало хуже, и к вечеру, чувствуя, что умирает, он запел псалом, начинающийся словами: «К тебе, Господи, воззвал», и продолжал петь, пока сестра Смерть не забрала у него голос.
В Порциункуле была ночь, и караульные дремали, подложив под голову камни и чурбачки, неподалеку от кельи святого. Вдруг один из них заметил: «Слышите, птицы щебечут? Как на рассвете». «Жаворонки», – отозвался другой. «Какие жаворонки в этот час? В полдень поднимаются они высоко в небо и поют солнцу. Жаворонки это ведь не совы и не филины». И все же над хижиной святого действительно кружила стайка жаворонков, щебеча не то радостно, не то печально. Эти маленькие звонкоголосые птички, которым он всегда радовался как вестницам добра, первыми праздновали его переход к жизни вечной.
* * *
4 октября 1226 г. Франциск скончался; над могилой идеалиста и кроткого миротворца тотчас разыгрались и столкнулись людские страсти, и самый идеализм его послужил новой точкой исхода для крупных и мелких интересов века. Смиренный последователь Христа, считавший себя величайшим грешником, был уже два года спустя признан святым, сам папа Григорий прибыл в Ассизи, чтобы лично канонизировать Франциска, получившего при этом знаменательное прозвище: Pater Seraphicus. Но еще прежде, чем церковь произнесла свой приговор, народ провозгласил его святым, утверждая, что он слышит молитвы тех, кого и сам Господь не слышит.
Затем над телом смиренного нищего, который при жизни не хотел иметь другого крова, кроме древесных ветвей или шалаша, был воздвигнут новый великолепный храм. Преемник Франциска, Илья, пригласил для того прибывшего из Германии зодчего Якова, и на холме близ Ассизи, где по преданию прежде совершалась казнь преступников, и который потом был переименован в «холм рая», стал красоваться первый готический храм в Италии, сделавшийся провозвестником нового стиля в искусстве.
В 1236 г. храм был окончен, и тело Франциска перенесено туда. Во время погребения произошло столкновение между монахами и гражданами Ассизи, побудившее папу издать особую буллу и пригрозить гражданам отлучением от церкви. Булла не разъясняет причины ссоры, а францисканское предание совершенно о ней умалчивает. Поводом могло быть нежелание горожан расстаться с телом Франциска или требование толпы вскрыть гроб святого, чтобы узреть на его теле легендарные раны; во всяком случае можно думать, что эта ссора из-за тела Франциска была причиной того, что место его погребения сделалось потом вовсе неизвестным и считалось тайной генерала францисканцев.
* * *
Идеализм Франциска получил особое значение среди охватившего в то время католическую церковь материализма. Как раз в тот момент, когда сам «наместник Божий», римский папа, стал обращать вверенную ему церковную власть в орудие для приобретения государственной власти и земных владений, Франциск отрекся именем монашества от всякой, даже коллективной собственности, от всяких забот о земном существовании. Но замечательно, что этот реформатор монашества совершенно не задавался намерением вдохнуть свой идеализм в церковь и преобразовать ее согласно с его требованиями. В лице смиренного нищего Франциска восторжествовал принцип безусловного отречения от власти и собственности.
Аскетический идеализм вступает у Франциска в новую фазу своей истории. Основание его остается неизменным: это – отречение от мира, истязание плоти и слияние души с небом. Но все это преобразовано теперь внесенным Франциском новым началом.
Относительно самоистязания Франциск стоял на общемонашеской почве.
Первым и обыкновенным средством смирения тела был суровый и продолжительный пост. Подвиги Франциска в этом отношении вызывали удивление и глубокое почтение к нему даже среди подвижников, но было нечто и новое: францисканцы не обрекали себя на монашескую замкнутость, но, напротив, ходили в народ, чтобы проповедовать слово Божие, и жили подаянием. Таким образом, они относительно пищи были в зависимости от других. Франциск, кроме того, памятовал слова текста, открывшего ему призвание его: «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть». Ему нередко приходилось останавливаться у богатых граждан или знатных лиц, в таких случаях он не отказывался от непривычной для него лучшей пищи и старался с врожденной ему деликатностью не подавать и вида, что в своем монашеском воздержании он брезгует угощением. Когда ему случалось обедать с мирянами и ему подавали блюда, приятные для его вкуса, он, отведав немного, извинялся под каким-нибудь предлогом для того, чтобы не показалось, что он отказывается от них из воздержания. Когда он обедал с братией, то часто посыпал еду золой, говоря братьям, чтобы скрыть свое воздержание, что «сестрица-зола чиста».
Однажды его позвали на обед к кардиналу Уголино, который стал покровителем ордена после смерти кардинала Иоанна, а впоследствии, сделавшись папой под именем Григория IX, канонизировал Франциска. Франциск не отказался пойти на обед к богатому прелату, но предварительно собрал подаянием корки хлеба и этим хлебом милостыни сдабривал роскошный обед. В другой раз случилось с Франциском, что во время болезни он съел кусочек цыпленка. Но потом, когда он оправился и возвратился в Ассизи, то у ворот города приказал своему товарищу надеть ему на шею веревку и тащить его, как вора, по всему городу с криком: «Смотрите – вот обжора, тайком от вас объедавшийся курятиной». Это всенародное покаяние всеми уважаемого подвижника произвело глубокое впечатление, и многие, глядя на него, плакали и взывали: «Горе нам, несчастным, жизнь которых вся проходит в еде и питье».
Самоистязание, составляющее такую мрачную сторону монашества, у Франциска совершенно утрачивает всякую черту фанатизма, благодаря его объективности к самому себе. Он смотрел на свое тело как на нечто постороннее, называя его на своем образном простонародном языке «братом ослом, которого нужно нагружать тяжелой ношей, часто бить бичом и кормить плохим кормом».
Он жил в постоянном молении, словно сам был молитвой, и хотя старался скрывать свои беседы с Богом, чтобы прислушаться к тому, что говорят другие, глаза его выдавали желание погрузиться в себя, и он обрывал несущественные разговоры, закрывая лицо рукой, словно пытался отогнать нахлынувшую рассеянность. Когда же он молился на людях, он не делал ничего особенного и отличался от других лишь набожностью и строгой сдержанностью, словно солдат перед военачальником и вассал перед сюзереном: он всегда стоял, даже во время тяжелых недугов, ни на что не облокачивался, не накидывал капюшона, не смотрел в сторону, не отвлекался. Когда во время странствия он должен был читать молитву, то останавливался, если шел пешком; если же ехал верхом, то спешивался и молился стоя, с непокрытой головой, даже если шел проливной дождь, как было однажды по пути из Рима, когда он до костей промок. Причина этому, как он говорил, была такая: если желудок наш хочет спокойно поглощать пищу, которая вместе с телом станет пищей червей, то тем более и душа должна мирно и спокойно принимать свою пищу, то есть – самого Бога.
Бог был для него конкретной реальностью, и в мыслях своих он никогда не удалялся от Него, ибо жил в Нем. В мире Франциск словно бы отсутствовал – правда, не настолько, чтобы не увидеть божественное в предметах, окружавших его. У него было своеобразное мнение на этот счет: тот, кто навечно погружен в Совершенное, видит все преходящее лучше, чем тот, кто живет лишь в своем теле, со своей душой, как смотрящий на море с капитанского мостика видит его лучше, чем тот, кто плывет, выбиваясь из сил. Если же он чувствовал, что должен сделать что-то, то немедленно переходил от молитвы к действию, хотя и не особенно различал их – действие либо подвигало его на молитву, либо завершало ее, либо продолжало, это была молитва дела, заготовленная в беседе с Богом, и потому он начинал действовать словно бы неожиданно, быстро и споро, без сомнения и раскаяния. Дело не разлучало его с Богом, ибо создания неразлучаемы с Создателем.
Несколько раз, правда, экстаз заставал его во время работы, и он как бы терял чувство реальности, не понимая, где он и кто те люди, которые на него смотрят. Так было, когда он проходил через Борго Сан Сеполкро и не заметил шумной и праздничной толпы, окружившей его со всех сторон. Он глубже проникал в ту действительность, которая всегда существовала внутри него, от нас же она скрыта, ибо чувственный мир привлекает нас. Лишь смерть срывает для нас этот покров, но его не было для святого Франциска. Глаза его видели ангелов небесных, как наши глаза видят собеседников, и для него было естественно оказаться в один миг среди ангелов как среди своих собратьев. Пребывая в экстазе, он просто переходил в другое общество. Когда же состояние это проходило, он делал над собою усилие, чтобы вернуться к прежнему и собранно, бесстрастно говорить об обыденном так, будто ничего не произошло.
Он старался утаить благодать Божью, и такое самообладание обходилось ему дорого. Чем совершеннее становился он, тем сильнее чувствовал, что необходимо посвятить себя всего, без остатка, Богу и одиночеству.
Однажды перед Великим Постом Франциск по его просьбе был перевезен на один из островов Тразименского озера, имея с собой лишь два хлебца.
В Святой Четверг перевозивший Франциска вернулся на островок и обнаружил, что святой молится в пещере, высоко в скале. Казался он чуть бледнее и худее обычного, рядом с ним лежал один из двух хлебцев, но чувствовал он себя хорошо, словно в раздумьях находил себе пищу. Казалось, что озеро отражает свет, который излучало его лицо. Он радовался, что уподобился Господу своему Христу, постившемуся сорок дней и ночей, но был слабее Господа, ибо съел один хлебец; а когда он вернулся к людям, никто не узнал, что за эти недели произошло в его беседах с Всевышним. Знали приблизительно, что он плакал, когда был один, громко молился, бил себя в грудь, кидался на землю, а нередко лежал неподвижно долгие часы.
Однако полное, закрытое от всех одиночество не привлекало его – он стремился увидеть небо, горы, дикие рощи, мир в его первозданности, не измененный человеком, и всегда в своих странствиях находил природные монастыри, в которых отдыхал душою, соединившись с Господом в молитве и экстазе. Там прожил он прекраснейшие мгновения своей жизни.
* * *
Тот, кто хочет представить себе, как он молился, должен прочесть его толкование на молитву Господню, гимны, благодарственные молитвы, каноны, – и тогда обретет он свет и силу, чтобы следовать воле Франциска. Молитвы эти коротки, вдохновило Франциска Святое Писание, и из них идет к людям воля Всевышнего, которая была бы суровой, если бы безграничная вера не смягчала ее. Каждое простое слово наделено глубоким смыслом так, что оно может служить предметом раздумий целый год. Из всех этих молитв самая выразительная – та, которая отражает огонь, полыхавший в сердце святого, и смысл всей его жизни:
«О, Господи, пылкой и нежной силой любви Твоей отвлеки разум мой от всего земного, дабы смог я умереть из любви к Тебе, подобно тому, как Ты удостоился принять смерть ради любви к любви моей».
Если мы не пытаемся понять это стремление слиться с Богом и умереть от любви к любви Его, от благодарной тяги к Создателю и Спасителю, не поймем святого Франциска.
Во время молитвы святой Франциск ощущал, как бьется в нем самый источник радости, и, как свет создает цвета, этот лучезарный источник помогал ему созерцать творения Божьи.
Отсутствие фанатизма можно отметить у Франциска и по отношению к другим проявлениям аскетизма. В истории монашества отречение от семьи очень часто принимало дикий характер и вырождалось в какое-то безобразно жестокое отношение к женщине, совершенно несогласное с духом христианства. У Франциска отречение от семейного принципа выразилось так же кротко и снисходительно, как все прочие его отречения. Оно было основано у него не на презрении к браку, а, главным образом, на соображении, что семья слишком поглощает человека и приковывает его к земным заботам.
Святому Франциску были знакомы и те духовные битвы, которые зовутся искушениями. Его душа радовалась радостью чистых сердцем и от любой скорби отражалась восторгом, как солнечный луч от зеркала. И эту душу два кошмарных года одолевала неотступная мысль: он боялся, что далек от Бога. Мысль эта так мучила Франциска, что нарушила его обычный душевный покой. Чтобы от нее освободиться, он молился, плакал, хлестал себя бичом, постился, скрывался от друзей. Более всего он сокрушался, что не может выглядеть радостным, хотя твердо хотел этого.
И вот, наконец, пришло утешение от Господа. Он молился в маленькой церкви Санта Мария дельи Анджели и услышал голос: «Если будешь иметь веру с горчичное зерно и скажешь этой горе: «Перейди отсюда туда», и будет по слову твоему».
«Что это за гора?» – подумал святой Франциск.
Голос ответил: «Эта гора – твое искушение».
Словно тот, кто полагает, что болен, но по слову авторитетного врача вскакивает с постели, святой взбодрился и воскликнул: «Значит, Господи, да будет так, как Ты сказал». Так он избавился от кошмара и понял, что причина всех наших бед – недостаток веры.
Иногда дьявол испытывал его воспоминаниями о прошлой жизни, желанием вкусить мирских радостей. Однажды зимней ночью в обители Сартеано, когда он пытался заснуть на камне и ветер, продувая келью, пронизывал его до костей, искуситель избрал для своего нападения тоску по семье. Он предложил столь живому воображению святого прекрасную просторную гостиную, горящий камин, ему улыбалась милая женщина, и стайка детей называла его папочкой.
«Спеши получить эти радости, если хочешь. Ты еще молод!» – нашептывал бес.
Чтобы сразу же отогнать незваного гостя, Франциск упал на колени, снял верхнюю одежду и принялся хлестать себя веревкой, приговаривая: «Брат осел, ряса принадлежит Ордену, душа – Богу. Пути назад нет для тебя».
Но нечистый не отставал: «Можно принадлежать Богу и без твоих безумных выкрутасов. От доброго отца семейства пользы больше, чем от тебя». «Ну что ж, сейчас я тебе дам семью», – подумал святой Франциск.
В нем еще оставалось многое от озорного мальчишки, и он выскочил во двор и принялся быстро-быстро лепить фигурки из снега. Всего он изготовил семь фигурок. «Жены тебе захотелось? Вот пожалуйста, самая большая и есть твоя дражайшая половина. Детей хочется? Да вот их целых четверо, два мальчика и две девочки. Но семья получилась не маленькая, понадобятся слуги. Вот и они, лакей и горничная».
Франциск согрелся, занял руки и голову делом, в труде отвлекся от соблазнительных мыслей. При свете луны он разглядывал свое семейство из снега и рисовал в воображении ту суровую грань реальной жизни, которую дьявол предпочел от него утаить: «А теперь, мой милый, поскорее одень их, ведь они умирают от холода. Ну а если тебе трудновато окружить попечением всех этих людей, посвяти себя одному Господу Богу и Ему одному служи».
Эти рассуждения, холод и веселая возня со снегом прогнали дьявола. Франциск в радостном настроении вернулся в келью и тут наткнулся на удивленный взгляд брата, с которым вместе спасался. Он покраснел, а потом с обычной своей простотой объяснил брату значение семи снежных фигурок.
Но дьявол, вытолканный в дверь, возвращался в окно. Как-то поздним вечером в Треви святой вошел в заброшенную церковь. Он решил провести здесь ночь и попросил своего спутника, брата Пачифико, оставить его одного, вернуться в больницу для прокаженных, а на следующее утро прийти за ним в церковь. Святой Франциск очень дорожил свободой и ночами, которые посвящал беседам со Всевышним, но на сей раз в этой заброшенной церкви нечистый использовал против него весь свой арсенал мерзких видений. Чтобы избавиться от них, святой вышел из церкви, перекрестился и приказал дьяволу именем Божьим оставить его в покое.
На рассвете брат Пачифико застал Франциска на коленях перед алтарем. Он тоже стал молиться, но на хорах, и вот напротив Распятия он увидел райскую сферу и множество сияющих престолов. Один из них был выше других и искрился самоцветами. И голос сказал ему: «Брат Пачифико, брат Пачифико, этот престол был Люциферов, а будет – смиренного Франциска».
Видение исчезло, и еще не пришедший в себя Пачифико приблизился к учителю и упал у его ног, как перед святым, сложив руки крестом на груди: «Отец, отец, прости меня и моли Бога обо мне».
Милосердно и мягко святой Франциск поднял его с колен. Брат Пачифико, все еще восхищенный в Боге, спросил его каким-то далеким голосом: «Что ты о себе думаешь, брат?»
Франциск ответил: «Мне кажется, что нет большего грешника на всем белом свете».
И Пачифико вновь услышал голос: «Вот подтверждение виденного тобой. Место, что было отнято у Люцифера за его гордость, будет принадлежать этому человеку за его смирение».
Но в ожидании рая борьба предстояла жестокая и долгая. Ужасным мукам подвергли его бесы однажды ночью в Риме, где он гостил у кардинала Леоне де Санта Кроче, который был очень рад такому жильцу. Франциск занимал маленькую комнату, расположенную в уединенной башне. После мучительной ночи он сказал своему спутнику, брату Анджело Танкреди: «Быть может, Господь наказывает меня через палачей своих, бесов, за то, что пока я пользуюсь для удовольствия телесного гостеприимством монсиньора кардинала, одни мои братья ходят по миру, терпя голод и лишения, а другие живут в разрушенных обителях и в жалких хижинах. Уйдем отсюда, я не хочу подавать дурной пример. Другим будет легче нести свой крест, если они будут знать, что я страдаю, как они, и больше них». И они ушли.
Когда недуг вконец изнурял его, дьявол нашептывал: «Франциск, Франциск, Франциск, Бог прощает всех грешников, которые обращаются, но тот, кто убивает себя слишком строгим послушанием, не стяжает милосердия Господня вовек».
Так, разными средствами – нравственными настроениями и физическими недомоганиями, соблазнительными мечтаниями, сомнениями, тревогами – его низшая воля противоборствовала его воле к святости, и в этой тесной стремнине Франциск страдал. Но гроза проходила, и он видел ее добрые плоды и даже замечал, что искушением испытываются цена и верность души, как войной испытывается солдат. А тот, кто не знает искушений, – раб ненадежный, негодный к службе, побежденный до боя, которого Господь щадит, чтобы не подвергать риску смерти.
Франциск высказывал и более глубокую мысль: он говорил, что искушение – это обручальное кольцо, соединяющее душу с Богом. И в самом деле, союз с Богом приходит не в мире, а в борьбе, не когда мы считаем себя хорошими, но когда наше ничтожество испытывается натиском инстинктов, и мы выходим победителями, когда любому удовольствию мы предпочитаем долг, а осязаемому удовольствию – одобрение Незримого.
* * *
Подобную же мысль можно проследить и по отношению к другому принципу аскетизма – отречению от собственности. Франциск осуждает собственность потому, что она является главным препятствием религиозному назначению человека: «Собственность, – говорит он, – из-за которой люди хлопочут и враждуют между собой, мешает любви к Богу и к ближнему. Труднее попасть на небо из дворца, чем из избы». Поэтому только полное отречение от собственности должно быть у того, кто хочет посвятить себя Христу, или, как выразился Франциск, «обнажившись, человек должен броситься в объятия Спасителя». Совет Христа раздать все свое имущество бедным имел для Франциска безусловное значение. Он был так непреклонен и строг в этом отношении, что отказался принять в число своих братьев ученика, который роздал свое имущество не бедным, а своим родным. «Ты еще, – сказал ему Франциск, – не вышел из своего дома и из родни. Ты лишил бедных их достояния и не достоин причислиться к нищим праведникам».
Руководясь таким взглядом на собственность, Франциск сделал дальнейший шаг в истории развития аскетического идеала. Монахи до него отказывались от личной собственности и от всяких забот о себе – их скудное содержание обеспечивалось монастырем. Но таким образом становилась необходима общая собственность, а ради нее среди монахов снова возникали заботы о земных интересах. Франциск поэтому потребовал, чтобы францисканские общины не имели даже и общей собственности, чтобы его монахи не знали, чем будут питаться на следующий день, и, не ведая никаких земных забот, испрашивали посредством милостыни свой ежедневный хлеб. Но такое нищенство, на которое Франциск обрекал себя и своих последователей, вытекало у него не из отвлеченных соображений о влиянии собственности на людей, не из желания провести более последовательно и до конца принцип отречения от собственности. Нищенский принцип коренился для Франциска все в том же самом живом источнике, откуда он почерпнул свой житейский и религиозный идеал, в образе странствующего, бедного и милосердного Христа. Об этом прямо свидетельствует написанный Франциском устав францисканского ордена. «Братья, – сказано в нем, – ничего не должны приобретать, ни дома, ни земли для себя, ни какого-либо другого предмета, но, как странники в этом мире, служа Господу в бедности и смирении, они должны просить милостыню, не стыдясь этого, ибо Господь ради нас сделался нищим на этой земле».
Итак, в силу только бедности Христа, нищенство становится обязательным для его последователей и приобретает значение религиозного служения и нравственного подвига. В лице Христа нищенство облагородилось в глазах Франциска, стало для него лично источником благоденствия и блаженства. С другой стороны, Франциск видел во всяком нищем образ Христа. «Когда ты видишь бедного, – сказал Франциск однажды своему спутнику, – тебе представляется в зеркале Господь и бедная мать его». И когда этот монах резко ответил одному неотвязчивому нищему, Франциск приказал ему, обнажившись, пасть ниц перед нищим, признать свою вину и просить прощения.
К этому присоединяется еще тесная связь нищенства с милосердием и милостыней: без бедности и нищенства не могло бы существовать подачи милостыни. Прирожденное Франциску милосердие было удвоено его любовью ко Христу. Поэтому его сердце таяло при виде бедных и больных. Он всегда был готов всем помочь, чем только может; встретив в лесу старушку с ношей хвороста, он берет у нее ношу и относит ее к ней в избу. Но в особенности его милосердие не знало пределов при раздаче милостыни, здесь к сострадательности присоединялся его своеобразный взгляд на собственность: по его убеждению, она принадлежит тому, кто больше в ней нуждается.
Однажды, возвращаясь из Сиены, Франциск по причине болезни был одет теплее обыкновенного, имея сверх своей обычной одежды еще плащ. Встретившись с каким-то нищим, Франциск сказал своему спутнику, что надо отдать ему плащ, ибо он ему принадлежит: «Ведь мы его получили взаймы, на время, пока не встретится более бедный». Спутник, зная болезненное состояние Франциска, упорно противился тому, чтобы он в ущерб себе снабдил другого своим плащом. На это Франциск ему возразил: «Я думаю, что всякий милостивец должен был бы счесть за воровство, если бы я не отдал то, что несу на себе тому, кто в этом более нуждается».
Таким образом, этот христолюбивый бедный всегда лишал себя самого необходимого. Когда кто-то выразил Франциску изумление, как он и его спутники в состоянии в своем бедном одеянии выносить зимнюю стужу, он ответил: «Если бы в нас сильнее пылала любовь к небесному отечеству, мы бы и зимнюю стужу легче переносили».
Еще более, однако, было необычно и даже в некотором отношении противоречило средневековым воззрениям то, что Франциск распространял этот взгляд свой на предметы богослужения и украшения церквей, не допуская, чтобы в храме что-нибудь было слишком ценно для милостыни. Когда к обители францисканцев подошла старушка, мать двух присоединившихся к Франциску монахов, прося милостыни, Франциск приказал дать ей подаяние. Ему сказали, что в обители решительно ничего нет, кроме библии по которой монахи читают тексты во время литургии. «Так дайте ей книгу, – решил Франциск, – чтобы, продав ее, она облегчила свою бедность; ибо я думаю, что Господу будет угодно, чтобы мы утолили ее нужду, чем читали библию в храме». А когда потом, при больших ежегодных сборищах францисканцев, среди них оказывалась горькая нужда, и Франциску предложили откладывать на эти случаи что-нибудь из приношений вновь вступающих монахов, Франциск запретил это, сказав, что лучше, чем накоплять деньги, было бы посягнуть на последние украшения с алтаря св. Девы. Таким образом, нищенство, обусловливая собою милостыню и вызывая милосердие, становилось в глазах Франциска служением любви – истинным богослужением. Находясь однажды с учениками в безлюдном месте, где не у кого было просить милостыню, он стал просить подаяния у своих учеников.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?