Текст книги "Участники Январского восстания, сосланные в Западную Сибирь, в восприятии российской администрации и жителей Сибири"
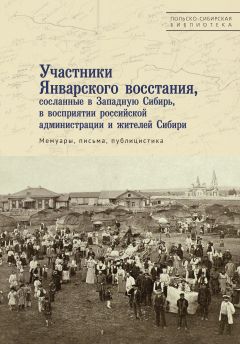
Автор книги: Сборник
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Здесь, как и в Акатуе, было несколько человек, употреблявших свое время, главным образом, на изучение языков французского и немецкого. Двое из них, Константин Вишневский[224]224
Константы Вишневский – род. ок. 1841 г. дворянин Подольской губернии, приговоренный к 10 годам каторги. См.: Spis powstańców 1863 г. więzionych w twierdzy kijowskiej… S. 122; Dziennik Poznański. 1863. Nr 245. S. 2; РГВИА. Ф. 1759. On. 4.Д. 1636. A. 4.
[Закрыть] и Феликс Суский[225]225
Феликс Суский – род. ок. 1843 г., родом из Киевской губернии, студент Киевского университета. Приговорен судом Киевского военного округа к 12 годам каторги. См.: РГВИА. Ф. 1759. On. 4.Д. 1636. А. 18.
[Закрыть], оба бывшие студенты Киевского университета – просили меня помочь им в этом деле; я охотно согласился. Занимались мы почти ежедневно приблизительно по часу или полтора; после моего урока они занимались самостоятельно приблизительно столько же времени, или – даже больше, чтобы заучить записанные во время урока слова и этимологические формы. Оба ученика были люди взрослые, занимавшиеся по собственному желанию и, стало быть, усердно; понятно, что успехи были очевидные и довольно быстрые.
На помощь Вишневскому и Сускому при их занятиях языками уходила небольшая частица моего свободного времени; главным же предметом моих занятий была в то время политическая экономия.
По инструкции, которая была дана комендантскому управлению, вероятно, из Петербурга, мы, арестанты, имели право писать письма исключительно! к родственникам и не более четырех раз в течение года. Еще из Акатуя я написал письмо к одному из студентов Медико-хирургической академии, с которым был в приятельских отношениях со времен детства, титулуя его в письме «любезным дядюшкой» и прося о покупке и присылке мне некоторых книг. Студент узнал из этого же моего письма, что я могу обращаться с письмами только к родственникам; в своем ответе он титуловал меня племянником, хотя в действительности между нами не было никакого родства, и уведомлял, что моя просьба исполнена. Вслед за получением его письма я получил и книги: политическую экономию Милла, сравнительную географию Даниеля и греческую грамматику Коссовича. Даниеля и Коссовича я покамест отложил в сторону, а Миллем занялся немедленно.
Прося о присылке мне сочинения Милля, я упомянул, что желательно иметь его или в английском подлиннике, или во французском переводе, или в немецком переводе, смотря по тому, какая из этих трех книг дешевле. Присланным оказался французский перевод. На русском языке полного перевода этого сочинения в то время еще не было. Существовал в виде отдельной книги полный перевод только первой части трактата (именно – о производстве), сделанный Чернышевским, снабженный его многочисленными и иногда очень обширными примечаниями в социалистическом духе. С этою книгою я ознакомился основательно; потому получивши французский перевод трактата и перелистовавши первую часть его, принялся тотчас же за вторую часть – о распределении. К этой второй части и к трем дальнейшим частям трактата (обмен, экономический прогресс, правительственное влияние) примечаний Чернышевского, разъясняющих, критикующих, дополняющих, у меня в то время не было. В предыдущей главе моего рассказа я упомянул о сочинении Робера «История рабочего класса» и о сделанных мною выписках из этого сочинения; о сен-симонизме, фурьеризме и коммунизме Робер говорит гораздо подробнее, нежели Милл; и эти главы из сочинения Робера были до некоторой степени дополнением к трактату Милля. Новаковский, о котором я говорил в предыдущих главах моего рассказа, Вишневский и Суский, которым я помогал в занятиях языками, и Небыловский[226]226
Винценты Небыловский – род. ок. 1843 г., дворянин, осужденный на 8 лет каторги. См.: Spis powstańców 1863 г. więzionych w twierdzy kijowskiej… S. 83; РГВИА. Ф. 1759. On. 4.Д. 1636. A. 13.
[Закрыть] (все четверо – бывшие студенты Киевского университета) – подобно мне имели расположение к занятиям политическою экономией; ознакомились уже с первою частью трактата Милля по тому переводу Чернышевского, о котором я упомянул выше, и теперь просили меня ознакомлять их, хотя бы только в сокращенном виде, с дальнейшими частями этого трактата по мере того, как сам я буду подвигаться в этом занятии. Я согласился; днем штудировал несколько параграфов трактата, вечером излагал им на русском языке эти же самые параграфы с некоторыми сокращениями, в большинстве случаев довольно незначительными, а иногда даже, напротив, с дополнениями, приходившими мне на память из книг, прочитанных в прежнее время.
Упомянутые четыре товарища бывали по вечерам моими постоянными слушателями и отчасти, так сказать, совопросниками. Очень часто к ним присоединялись Муравский и Волосевич[227]227
Оттон Волосевич – род. ок. 1845 г., родом из Могилевской губернии. Приговорен судом Киевского военного округа к 10 годам каторги. См.: РГВИА. Ф. 1759. Оп. 4. Д. 1636. А. 4; Spis powstańców 1863 г. więzionych w twierdzy kijowskiej… S. 125.
[Закрыть], о которых буду говорить ниже; довольно часто – Турцевич, тот мастер фехтовального искусства, о котором я упоминал впереди; почти всегда еще три-четыре человека, которые, заглянувши к нам, оставались послушать наше собеседование, иные – из любопытства, иные – от скуки, от нечего делать. Нарочно мы никогда никого не приглашали, но в секрете наших занятий отнюдь не держали; всякий желающий мог приходить и слушать. Однажды кто-то из таких случайных посетителей, сохранявший молчание во время нашего вечернего чтения, утром следующего дня подошел ко мне и высказал недоумение такого рода: – При ваших чтениях вы, когда приходится к слову, высказываете согласие с мнениями социалистов, выражаете сочувствие их стремлениям; между тем, главное содержание ваших чтений – книга по политической экономии. Как это у вас странно выходит: ведь социалисты – враги политической экономии, не признают ее. Я ответил ему: – Вы напрасно обвиняете социалистов во враждебном отношении к политической экономии и вообще к какой бы то ни было науке. Они осуждают многие черты нашего теперешнего экономического порядка; предлагают способы улучшить эти черты; другими словами – желают многих и важных перемен в теперешнем порядке производства и распределения предметов, относящихся к нашему материальному благосостоянию. Но эти-то желания перемен именно и налагают на них обязанность исследовать явления, подлежащие, по их мнению, или преобразованию, или совершенному упразднению. О каждом таком явлении надо же выяснить: какие причины вызывают это явление? пока явление существует, какое влияние оно оказывает на наш жизненный строй? когда это явление будет переобразовано или упразднено, какие от этого последствия можно предвидеть с несомненною достоверностью или, по крайней мере, с некоторою вероятностью? Ответы на все подобные вопросы – область политической экономии; социалисту невозможно пренебрегать этой наукой; без нее он, можно сказать, шагу ступить не может. Сделаю сравнение. Вы, насколько мне известно, у себя дома занимались сельским хозяйством. Если бы кто-нибудь захотел ознакомить вас с возникновением какой-нибудь болезни у человека, положим – чахотки, с ходом этой болезни, с проявлениями ее в различных органах нашего тела, со способами лечения – вы, наверное, отказались бы от такой медицинской лекции; вы сказали бы: «Да, зачем мне все это знать? ведь я ни себя, ни других лечить от чахотки не намерен; это по докторской части; они обязаны все это знать, а мне не надо, оставьте меня в покое». Вот то-то и есть: вам не надо, но доктора то обязаны знать. Социалисты – доктора в своем роде. Всякая партия, стремящаяся произвести важные перемены в строе народной жизни, может быть названа доктором, и правильнее всего – акушером; ее задача – облегчить родовые потуги существующего строя, содействовать благополучному рождению и укреплению новых порядков.
Случалось иногда, что вследствие каких-нибудь помех я не успевал приготовиться к обычному вечернему чтению, т[о] е[сть] не успевал проштудировать несколько параграфов трактата Милля. В таком случае я читал пред тою же маленькою аудиторией сочинение Пфейфера «Penossuschaftwesen» (Кооперация)[228]228
Эдуард Готхильф фон Пфайффер (1835–1921) – немецкий банкир, кооператор и общественный деятель. Речь идет о его работе «Ueber Genossenschaftswesen – Was ist der Arbeiterstand in der heutigen Gesellschaft? Und was kann er werden?», изданной в Лейпциге в 1863 г.
[Закрыть]. Не могу припомнить, от кого я получил эту книгу: от «дядюшки» из Петербурга вместе с другими книгами, о которых я упомянул выше, или же из Кадаи от литератора Михайлова после обратной отсылки ему сочинения Робера «Historie de la classe ouvriere». Это сочинение Пфейфера представляло собою книгу страниц в двести с чем-нибудь; после небольшого теоретического вступления, которым эта книга как будто примыкала к трактату Милля (именно к превосходно написанной главе этого трактата – о вероятной будущности рабочего класса), следовало описание английских, французских и немецких кооперативных обществ разного рода: для закупа сырья, кредитных, потребительских и, наконец – производительных рабочих ассоциаций. Изложение было ясное, легкое, так что, раскрывши книгу и следя глазами за немецким текстом, я мог передавать этот текст тотчас же русскими словами, т[о] е[сть] читал своим слушателям, как бы русскую книгу.
5
Ко мне и к упомянутым мною четырем сотоварищам, интересовавшимся политическою экономией, при вечерних чтениях сочинений Милля и Пфейфера присоединялись, как я сказал, очень часто Муравский и Волосевич.
Митрофан Данилович Муравский, уроженец, если не ошибаюсь, Оренбургской губернии, в это время имел от роду лет около тридцати; из нас семерых он был по возрасту старший. Слегка заикался; когда он говорил, то иной раз этот недостаток был почти не заметен, а иногда – очень заметен. Вероятно, этим недостатком была обусловлена обычная манера говорить: методично, без торопливости, с легкими, едва заметными остановками между словами; когда являлась необходимость произнести трудное для него сочетание звуков, он делал паузу очень заметную. На меня (и, кажется, вообще на слушающих его) эта длительная пауза производила тягостное впечатление: я чувствовал желание помочь ему, подсказать или произнести трудный для него слог или слово – и в то же время стеснялся это сделать, как бы опасаясь обидеть его этою помощью, в том роде, как мы остерегаемся наступить человеку на мозоль или вообще толкнуть по больному месту. Впоследствии, конечно, и я, и другие попривыкли к его манере.
Подробностей о его аресте я помню очень мало: он был студентом Харьковского университета, арестован приблизительно в 1859 году; в 1863 году он уже находился в Петропавловской крепости одновременно со мною, и мы с ним успевали перекинуться иногда несколькими словами. Следственная комиссия и затем сенат признали его виновным в одинаковом со мною преступлении, а именно – в распространении возмутительного воззвания; и он был приговорен в 1864 году к девятилетней каторге (в моем приговоре было сделано смягчение по причине моего несовершеннолетия, и потому я был присужден к шестилетней каторге). Какого содержания было воззвание, которое распространял Муравский; где именно происходило распространение; почему следствие и суд тянулись так долго – по всей вероятности, Муравский что-нибудь рассказывал мне об этом, хоть коротенько; но решительно ничего не могу вспомнить.
Волосевич (по имении, кажется, Оттон), бывший студент Киевского университета, познакомился и подружился с Муравским во время дороги из Тобольска в Александровский Завод. Товарищи часто называли его, подшучивая и подсмеиваясь, «молодой человек красивой наружности». Шутки шутками; а название это было, пожалуй, справедливо: человек он был действительно молодой, лет двадцати двух или, может быть, двадцати одного; роста несколько выше среднего, тонкий, стройный; правильные черты лица, легкий румянец, выразительные карие глаза.
При случае они оба охотно вступали в теоретические разговоры. Один из таких разговоров остался у меня в памяти, может быть, вследствие важности и сложности затронутой им темы: кто-то задал Волосевичу вопрос:
– Какими способами вы считаете возможным привлечь войско на сторону народа?
Волосевич ответил ясно и резко:
– Никакими. Войско не может быть полезно народу; оно может быть полезно только врагам народа. По отношению к войску народная партия должна иметь одну задачу – уничтожить войско или, по меньшей мере, деморализовать его.
Спор был довольно продолжителен. Я не имел расположения взять в ним участие, но заметил, не без удивления, что противник Волосевича не заикается ни единым словом о таких обстоятельствах, которые во времена политических кризисов жесточайшим образом усложняют и запутывают положение народной партии. Я с минуты на минуту ожидал, что собеседник спросит Волосевича: а как же быть, если в государстве существуют взаимно враждующие национальности, и их разгорающаяся вражда доходит до междоусобицы? Как быть, если государству грозит война внешняя со стороны другого государства? И в этом случае применить то же правило – уничтожить войско и, значит, покориться иноземному неприятелю без борьбы? Ничего этого собеседник не спросил; и во время всего спора обе спорящие стороны молчаливо подразумевали, что речь у них идет о каком-то воображаемом государстве, однородном по племенному составу и совершенно огражденном от столкновений с другими государствами. При таком упрощении обсуждаемой темы Волосевич, конечно, оказался победителем.
С первых недель 1866 года Муравский стал довольно часто высказываться в вечерних собраниях нашего политико-экономического кружка в том смысле, что нам следовало бы устроиться коммунистически; Волосевич поддерживал это мнение. Отчасти они ссылались на авторитеты Робера, решительного коммуниста, и Милля, относящегося к коммунизму до некоторой степени благосклонно; но главным основанием они оба, а в особенности Муравский, выдвигали то соображение, что наш теперешний житейский распорядок – дюжинный, вульгарный, буржуазный, шаблонный, казенный; и много подобных эпитетов произносил Муравский и убеждал нас устроить коммуну. Он говорил, что первым и важнейшим достоинством нашего коммунистического порядка будет его оригинальность – этот порядок будет недюжинный, не вульгарный и т[ак] д[алее] (все упомянутые эпитеты с прибавлением частицы – не); вторым достоинством будет, что устройством этого порядка мы докажем искренность и глубину нашего сочувствия радикальным идеям. «Говорить-то все можно, язык без костей; а вот поживи-ка сам так, как, по твоим словам, следовало бы людям жить».
Прежде чем излагать дальнейший ход этого дела, считаю уместным сообщить некоторые подробности о прочих членах нашего кружка и о нескольких тюремных сотоварищах, не принадлежащих до того времени к этому кружку.
6
Викентий Небыловский, брунет среднего роста, немножко сутуловатый; грубовато очерченный нос, несколько выдающиеся скулы, крепко сжатые губы – все это давало его лицу оттенок чего-то плебейского, мужиковатого; но чудесные карие глаза, умные и ласковые, смягчали и скрашивали плебейскую жесткость.
Однажды разговор коснулся того времени, когда польские повстанцы Киевской губернии были взяты в плен и отведены в Киев; их было несколько десятков человек, большая часть – студенты Киевского университета, в их числе был и Небыловский. В Киеве пленники были сданы какому-то военному человеку, кажется – коменданту тамошней крепости, чином полковнику или, может быть, генералу; Небыловский называл фамилию этого воина: если память меня не обманывает – Лепарский. Этот воин тотчас же отвел их под конвоем к кузнице, выстроил во фронт; и они один за другим подходили к кузнецу, который накладывал им на ноги кандалы и заклепывал. Воин ходил перед фронтом от одного фланга до другого тихими, степенными шагами и время от времени произносил вполголоса, как бы размышляя вслух: «Великий народ… Народ мученик… Святой народ… Какие герои!.. Сколько жертв!». Произнося эти слова, он взглядывал то на пленников, то на небо, как бы призывая небеса умилосердиться над мучениками; когда же подходил к тому флангу, который был около кузницы, он взглядывал на кузнеца и говорил ему тем же проникновенным, елейным глосом: «Иван, гаечки-то покрепче завинчивай». Небыловский изображал всю эту сцену бесподобно: осанку воина, его взгляды, голос.
Феликс Осипович Суский – блондин среднего роста, хорошего телосложения; но цвет лица бледный, болезненный, и щеки заметно впалые; во время дороги он перенес брюшной тиф с рецидивом. О нем припоминаю два обстоятельства, способные до некоторой степени характеризовать его.
Во-первых, он иногда высказывал осуждение по адресу руководителей восстания: «Пообещали крестьянам по какому-то жалкому кусочку землицы, да и то не сейчас, а там когда-то. Хороши, нечего сказать: по три морга в царствии небесном. И при подобном обещании разве возможно было рассчитывать на сочувствие массы населения?»
Во-вторых, он проявлял заметную наклонность при случае поглумиться над крайними националистами и выразить одобрение космополитизму. Однажды оппонент в заключение своей аргументации обратился к нему с вопросом:
– Да, скажите, пожалуйста: вы то сами по своему происхождению принадлежите к какому племени? Вот вы же причисляете себя к какой-нибудь национальности? к какой же именно?
Суский посмотрел на оппонента внушительно, с достоинством; заложил руки в карманы и, легонько покачиваясь из стороны в сторону, произнес медленно, с расстановкой:
– Я, пане, йестэм гишпан (я, сударь, испанец).
Оппонент махнул рукой и с негодованием удалился. Вишневский был брюнет, ростом немного выше среднего; лицо продолговатое, худощавое, почти смуглое, в общем, не только благообразное, но, можно сказать, изящное. Телосложения он был, по-видимому, не особенно крепкого; но во всякой работе, за которую брался, проявлял замечательное усердие и выносливость.
О Новаковском я говорил в предыдущих главах моего рассказа.
Он, Небыловский, Суский, Вишневский (по возрасту все четверо – однолетки со мной), Муравский и Волосевич – с этими шестерыми я был более близок, нежели с прочими тюремными сотоварищами, отчасти потому, что в политических и политическо-экономических вопросах они, как и я, склонялись к радикальному образу мыслей, и отчасти потому, что в данное время они, как и я, имели явственное расположение к занятиям политической экономией.
Когда Муравский и Волосевич подняли вопрос о желательности учреждения коммуны, я указал, прежде всего, что мы находимся в совершенно ненормальных условиях: пока в тюрьме, мы представляем собою казенных пенсионеров, которые питаются отчасти казенным пайком, отчасти пособиями родственников и друзей; приобретать собственным трудом средства к существованию мы, пока в тюрьме, почти не можем. Значит, если мы порешим учредить коммуну, ход этого дела не представит ничего поучительного для работников, живущих в обыкновенных условиях, т[о] е[сть] на свободе. Положим, наша коммуна будет разрастаться и процветать: экая, скажут, важность – на казенных хлебах да на приятельских субсидиях всякому лежебоке растолстеть можно. Гораздо правдоподобнее, что дела нашей коммуны пойдут плоховато, и она съежится, захиреет, распадется; тогда уже я скажу: экая важность – в казенной клетке, за железною решеткою, под замком самый ретивый работник в конце концов отощает и впадет в уныние. Значит, так ли, сяк ли – для работников, живущих на свободе, наш коммунистический опыт не будет иметь никакого значения.
На это Муравский и Волосевич возразили:
– Но для нас самих этот опыт будет иметь большое значение: рассудком мы пришли к убеждению, что обычный покрой одежды не рационален; давайте же испробуем тот покрой, который считаем рациональным.
Сочувствие остальных четырех слушателей, может быть, не особенно пылкое, все же таки было, очевидно, на их стороне. Когда я заметил им, что семь человек – маловато, они согласились, что это замечание имеет некоторый смысл; прибавили, что найдется еще трое или четверо таких, с которыми надо потолковать основательно, и, по всей вероятности, они пожелают примкнуть к нам.
Так оно, действительно, и вышло. Сообщу некоторые подробности об этих четверых.
7
Болеслав Ярошевский[229]229
Болеслав Ярошевский – род. ок. 1838 г. Судебный чиновник из Киева, осужденный на 12 лет каторги. См.: Spis powstańców 1863 г. więzionych w twierdzy kijowskiej… S. 53; РГВИА. Ф. 1759. On. 4. Д. 1636. A. 21.
[Закрыть] был мелким чиновником в каком-то из киевских присутственных мест, подружился с несколькими студентами, вместе с ними пошел в повстанческий отряд. Стычка с русским войском, плен, киевская тюрьма, российские этапы – все это бывший канцелярист изведал наравне с бывшими студентами, и отношения к студентам сохранились у него хорошие, товарищеские. В Александровском Заводе он стал заниматься стиркою белья; иногда работал один, иногда приглашал одного или двух в качестве временных помощников. На вид ему было поменьше лет тридцати.
Владимир Иванович Петров – уроженец какого-то маленького городка в Царстве Польском. Его дед по матери был человек военный, находившийся немалое число лет в рядах французской армии времен Наполеона Первого. Его отец был офицер русской службы. Ребенок вырос в Польше; воспитание происходило под ближайшим наблюдением матери польки и дедушки поляка; понятно, что польским языком он владел гораздо свободнее, нежели русским. Его фамилию и он сам, и все поляки произносили на польский лад, т[о] е[сть] делая ударение на первом слоге: пане Петров. Возрастом он был, полагаю, равен или почти равен мне, т[о] е[сть] имел в это время двадцать три года от роду. В юношеском возрасте пробыл некоторое время на военной службе в звании юнкера. Ярошевский при стирке белья нередко приглашал его к себе на помощь.
Радзеевский, по имени, кажется, Игнатий – уроженец Царства Польского, годами тремя или четырьмя постарше меня. Образование получил очень скромное, приблизительно в объеме нашей деревенской школы. Был маленьким служащим в помещичьей экономии. Насколько могу припомнить, его главная обязанность состояла в надзоре за поденными рабочими, нанимаемыми в самое горячее для сельского хозяина время; но, кроме того, он что-то упоминал об огороде, о сенокосе, о пашне: то ли он имел помимо службы еще собственный земельный участок, то ли получал этот участок от помещика во временное пользование в виде дополнения к жалованью – не могу припомнить точного смысла его слов.
Политовский (имени не помню): по месту рождения, по роду занятий и по образованию это был как бы двойник Радзеевского, но помоложе его; и притом он был не особенно разговорчив, а Радзеевский любил побалагурить.
Переговоры Муравского, Волосевича и других упомянутых мною лиц с Ярошевским, Петровым, Радзеевским и Политовским закончились согласием этих четырех вступить в коммуну. Теперь нас было одиннадцать человек, и в начале марта 1866 года мы учредили коммуну. Тогда, как и теперь, превеликое множество людей имели смутное, неправильное понятие о значении слова «коммунизм», о том круге идей, который находит себе выражение в этом слове – и тем не менее, несмотря на эту смутность и, может быть, благодаря именно той смутности, при одном названии коммунизма приходили в ярость. Зная это, мы, учреждая свою миниатюрную коммуну, постановили держать это дело сначала в тайне, а впоследствии – смотря по обстоятельствам.
8
Устав нашей коммуны был написан, насколько могу припомнить, Небыловским и был самый коротенький, самый простой: в десяти или в двадцати строчках было выражено, что каждый из нас передает все свое имущество в наше общее распоряжение, и что при устройстве всех наших дел мы будем держаться, насколько возможно, правила: «От каждого по его способностям, каждому по его потребностям».
Небыловский был из числа тех людей, которые способны живо интересоваться теоретическими предметами, не имеющими, по-видимому, почти никакой связи с запросами текущего момента, и рядом с этим охотно принимают усердное, деловитое участие в практических задачах данной минуты. В порядке вещей, что наша коммуна выбрала его именно на должность «хозяина»; и во все время существования нашей коммуны он оставался ее «хозяином», т[о] е[сть] кассиром и экономом.
Мы тотчас передали ему все деньги, какие у кого были; у меня оказалось рублей около пятнадцати, у Новаковского, помнится небольшие, у других поменьше. Потом при нашем общем содействии хозяин произвел перепись всего нашего имущества: одежды, белья, обуви, книг. Те предметы, которые не требовались для немедленного употребления, были сложены в сундуке, ключ был отдан «хозяину», и наблюдение за сохранностью этих предметов лежало на нем.
Во время передачи денег Небыловскому и последовавшей затем переписи имущества Муравский дружелюбно, ласково посматривал то на Небыловского, то на кого-либо из нас; время от времени он улыбался блаженною улыбкою и с умилением произносил: «Kiedy to będzie się odbywać na wielką skalę?» (Когда же это будет происходить в большом размере?). Если бы я был живописцем на религиозные сюжеты, я дал бы такое выражение Симеону Богоприимцу, произносящему приветственный гимн «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко».
У прочих такой сильной взвинченности не было; но все-таки настроение было повышенное.
Вишневский был несколько знаком с переплетным мастерством, Суский – с сапожным, Радзеевский с портняжным. На следующий же день Небыловский отправился в Завод и купил переплетный станок с ножами и набор сапожных инструментов. Вишневский занялся переплетом, прежде всего, наших собственных книг, из которых иные мы получили совсем без переплетов, а у других переплеты были, но порастрепались. Впоследствии переплетные заказы бывали большею частью от тюремных сотоварищей, иногда – от заводских обывателей.
Суский занялся починовкою обуви, прежде всего, нашей собственной. Впоследствии он брал починку также от тюремных сотоварищей. Шить новую обувь он, насколько могу припомнить, не решался ни для нас, ни для посторонних.
Грязное белье; какое у кого накопилось, составило очень порядочный тюк. Когда наступил день, в который баня была предоставлена в распоряжение нашей тюрьмы, а нашею тюрьмою – в распоряжение стирающих белье – Ярошевский захватил тюк и отправился в баню; с ним пошли в качестве помощников Петров, Волосевич и Политовский. Вечером, окончивши стирку и полоскание белья, они развесили его на веревках, протянутых в нашем тюремном дворе; чрез несколько дней, когда белье просохло, они подвергли его прокатке на одном из наших больших столов; и после этого мы разобрали белье по рукам. В общий сундук не положили его, чтобы после, меняя на себе белье, не путаться; таким образом, каждый из нас остался при том белье, которое он имел до коммуны, потому что именно это белье приходилось ему как раз в пору. У некоторых белье было очень изношено, так что чрез два или три месяца оказалось непригодным для дальнейшего употребления; оно послужило отчасти материалом для заплат при починке нового белья, отчасти было превращено в тряпки, которые нужны в известной степени и переплетчику, и вообще по хозяйству. Шить новое белье вместо износившегося мы не стали, потому что общее количество белья у всех нас, взятых вместе, было для нас вполне достаточно; пришлось только некоторым носить белье, сшитое по чужой мерке, но они почти не обратили внимания на это неудобство.
Обыкновенно баня предоставлялась в наше распоряжение еженедельно на один день. Размеры ее были таковы, что шесть человек могли заниматься стиркою с достаточным удобством; поэтому с Ярошевским отправлялись обыкновенно пятеро из нас; в числе этих пятерых много раз бывал и я. Для нашего собственного белья Ярошевскому было бы достаточно иметь только троих помощников, но он брал в стирку белье от некоторых тюремных сотоварищей; получаемую от них плату передавал Небыловскому, который совершенно покупал мыло для нашей работы, а также кой-какую утварь: корыта, рубель, скалку.
Время от времени Радзеевский пересматривал наше белье и откладывал вещи, нуждающиеся в починке; более мудреную часть починки он исполнял сам, а что попроще, то передавал мне, Новаковскому и Муравскому. Я и Новаковский были совершенно несведущи в швейном мастерстве, да и Муравский не очень далеко ушел от нас в этом искусстве. Радзеевский был терпелив; указывал, что надо делать и как делать; мы старались и впоследствии штопали наше белье недурно.
За время существования коммуны ни для кого из нас еще не наступила надобность в новой одежде; довольствовались тою, какая у кого была. Починять ее изредка требовалось; починял Радзеевский.
9
Учреждая коммуну, мы считали возможным, что со временем, число ее членов увеличится. Поэтому, когда через две или три недели Радзеевский сказал нам, что Жураковский[230]230
В списках осужденных на каторгу фигурирует Цезарий Жураковский, 28-ми лет, из Киевской губернии, осужденный на 10 лет каторги, и Войчех Жураковский, 24-х лет, из Подольской губернии, осужденный на 6 лет каторги. См.: РГВИА. Ф. 1759. On. 4. Д. 1636. Л. 8. О Мельхиоре Жураковском вспоминает Вацлав Лясоцкий, но пишет, что он происходил из Волыни. См.: Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. S. 348.
[Закрыть] (если память меня не обманывает, по имени Мельхиор, родом из Варшавы) желал бы присоединиться к нам – мы, хотя до того времени не знали об этом человеке ничего, сочли достаточным, что Радзеевский дает о нем хороший отзыв, и согласились принять его в коммуну. Одежда, белье, обувь – все это было у него в сносном виде по количеству и по качеству; денег совсем не было. По ремеслу он был кондитер. В обыкновенное время ни он сам, ни мы не видели возможности извлечь из его искусства какую-нибудь пользу; но когда стала приближаться Пасха, он, конечно, вспомнил, какое это горячее время в Варшаве для его тамошних собратий, мастеров и подмастерьев кондитерского цеха, и уговорил нас сделать пробу – познакомить здешних обывателей с варшавскими куличами, бабами, мазурками и вообще с разными сластями. Мы согласились, что попытка – не пытка. Небыловский пошел с ним в Завод; они купили некоторое количество кондитерских материалов, на первый раз довольно скромное, и кой-какую утварь: противни, кастрюльки, какие-то трубочки и проч [ее]. Выхлопотали, чтобы кухонная печь была предоставлена в его распоряжение в те дни и часы, когда она не нужна нашим тюремным повару и хлебопеку. Оказалось, что Жураковский действительно знаток своего дела: изделия получались превосходные и были быстро раскуплены заводскими обывателями, хотя цены были назначены высокие.
Спрос на все эти сласти продолжался и после Пасхи; мы повторили эту операцию раза три или четыре. Вся выручка за изделия поступала в нашу общинную кассу, т[о] е[сть] к Небыловскому; что касается Жураковского, мы не предоставляли ему никаких особых преимуществ, строго придерживаясь духа и основного закона нашей коммуны. Ему это не нравилось, и он потребовал выдела. С его уходом вся кондитерская утварь теряла для нас значение; мы отдали ее ему; прибавили несколько денег на первоначальный закуп кондитерских материалов. Он был вполне доволен таким выделом и дальше продолжал заниматься своим ремеслом самостоятельно.
В коммуне он пробыл месяца полтора или два. О его уходе мы не жалели; скорее даже были довольны. Для него пребывание в коммуне было просто способом приобрести кой-какие материальные средства и сделаться самостоятельным ремесленником. Для нас прочих пребывание в коммуне было проявлением нашей идейности; соображение о материальных выгодах стояло на втором плане; дух барышничества и погони за наживой был нам чужд.
При самом начале коммуны мы решили держаться правила: работы, какие по ходу наших дел окажутся нужными, исполнять днем, т[о] е[сть] с утра до вечерних сумерек; вечер предоставлять каждому проводить так, как ему нравится; отступать от этого распорядка разве только в каких-нибудь особых, чрезвычайных случаях, когда мы сами найдем такое отступление необходимым. Жураковскому во время его непродолжительного пребывания в коммуне приходилось работать вечером и отчасти ночью, но за то во всю остальную часть дня он был свободен. Что же касается всех остальных, я не моху вспомнить, чтобы мы когда-либо посягнули на вечернее время кого-нибудь из нас.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































