Читать книгу "Участники Январского восстания, сосланные в Западную Сибирь, в восприятии российской администрации и жителей Сибири"
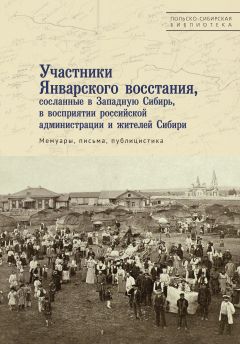
Автор книги: Сборник
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Ваших дел я не знаю; может быть, у вас так оно и нужно. Теперь, пока мы в тюрьме, собственно, и разговаривать об этом предмете не стоит. А когда выйдете из тюрьмы, не вредно будет для вас заметить мой маленький совет; я – человек не из ученых, книг ваших не знаю; но зато я – практик; что видел, то уже своими глазами видел; что считаю для партии полезным или вредным, то уже на личном опыте узнал – это вот полезно, а это вредно. Так вот, значит: когда будете на свободе, и случится вам вступить в тайную организацию, и, положим, станете сердиться, что вот это надо бы делать – а не делают, что-нибудь другое не надо бы делать – а делают – при подобных обстоятельствах не поддавайтесь раздражению, не увлекайтесь заманчивой перспективой отделиться от этой организации и составить новую организацию, о нет! Вместо этого старайтесь вместе с вашими единомышленниками пробраться в центр существующей организации; всячески старайтесь воспользоваться силою, которая уже существует. Новая организация, если захотите непременно основать ее – когда-то еще она разрастется настолько, что будет представлять собою некоторою силу! а может быть, она и совсем не станет расти. Словом «протискивайтесь к центру». Я услышал этот совет и про себя думал, что советчик, кажется, говорит резонно, но только – не в коня овес; ну, какой же я конспиратор?
Несколько лет спустя, я услышал, что Ольшевский по освобождении из тюрьмы поселился в Иркутске, имеет там какое-то маленькое предприятие, то ли папиросы фабрикует, то ли коробки для папирос; еще чрез несколько лет мне сказали, что он уже возвратился на родину; дальше – не знаю.
Ксендз Рох Климкевич священствовал в каком-то захолустном селении Царства Польского; происходил из бедной крестьянской семьи; в раннем детстве перенес оспу, оставившую на его лице очень заметные следы. На вид ему было поменьше тридцати лет. Его ученические годы протекали в обстановке не совсем обычной; подробностей я теперь уже не могу припомнить, но, кажется, он находился на иждивении какого-то монастыря и жил в этом монастыре; жизнь была тяжелая, удручающая. Он читал переведенные мною главы из сочинения Робера, о котором я упоминал выше; относился к моим тетрадкам сочувственно и одобрительно. А так как Робер в многих местах своего сочинения заявляет себя решительным сторонником коммунизма, то некоторые из обитателей нашей тюрьмы укоряли Климкевича за чтение зловредных тетрадок и вообще за его разговоры со мной. Они говорили ему: «Этот москаль – человек вредный, заражает нашу молодежь коммунистическими понятиями; вам следовало бы сторониться от него подальше». Все подобные замечания Климкевич пускал мимо ушей и по-прежнему время от времени любил побеседовать со мною. Между прочим однажды он сказал мне:
– Свобода, равенство, братство; эту формулу я встречал много раз, во многих книгах. По моему мнению слово «равенство» надо бы заменить словом «справедливость». Как только говорят мне «равенство», мне представляется какая-то казарма, у всех одинаковые кровати, одинаковая одежда, одинаковое кушание; в этом есть своя хорошая сторона: каждый получил свой паек, обиженных при дележе нет – вот это хорошо, и с этим я соглашаюсь; но это стеснительно, сурово, а без этой суровости можно обойтись. Когда я вместо того скажу «справедливость», этим я допускаю полнейшее разнообразие жизненной обстановки людей и их житейских привычек; одного желаю, чтобы разнообразие обусловливалось не правами рождения, не насилиями, не случайностями – нет; разнообразие должно обусловливаться нашими понятиями о справедливости. Наше разнообразие, в конце концов, окажется тем же равенством; только вид этого равенства будет другой, более привлекательный; и к нашему равенству – разнообразию мы придем своею дорогою; идти через казарму – нет никакой надобности.
Я ответил Климкевичу приблизительно так:
– У нас, русских, есть поговорка: из песни слова не выкинешь. Тройственная формула, которою вы желали бы немножко исправить, зародилась, как вы знаете, у французов и от них распространилась, можно сказать, по всему свету. В составе каждого народа существует большее или меньшее число людей, которые сроднились с этою формулой. Она сделалась мировым знаменем, святынею. Оставим знания неприкосновенным, не будем спорить о словах. Будем лучше стараться, чтобы понятия, выражаемые этими тремя словами, внедрялись бы в жизнь сильнее и сильнее и приближали бы нас к тому строю, который мы считаем справедливым и потому желательным.
Климкевич ответил привычным для него словом «амен», т[о] е[сть] по русский «аминь».
Я упомянул, что некоторые обитатели нашей тюрьмы советовали Климкевичу сторониться от меня подальше. Один из этих старозаветных людей сказал при каком-то споре Новаковскому (или, может быть, кому-нибудь другому из бывшых киевских студентов), что этого москаля (то есть меня) следовало бы прямо так повесить. Новаковский (или кто-то другой из числа русинов) ответил ему:
– В этой тюрьме найдется человек двадцать таких, которые не дали бы вам дотронуться до этого москаля; и если вы захотели бы непременно повесить его, то вам пришлось бы повесить сначала этих двадцать, а он был бы уже двадцать первым.
Я очень склонен думать, что враждебные по отношению ко мне слова, сказанные старозаветными людьми Климкевичу и Новаковскому, представляли собою просто манеру говорить, усвоенную довольно многими из поляков: по мнению этих довольно многих, поляк, особенно поляк, находящийся в политической ссылке, непременно должен говорить о москале враждебно, о всяком москале; ну а в глубине души, конечно, сам говорящий сознает, что бывают иногда между москалями довольно хорошие люди. Если бы говорившие обо мне враждебно считали бы меня действительно скверным человеком, от которого действительно надо избавиться какими-нибудь способами – они нашли бы возможность делать мне разные мелкие неприятности, и этим путем отравили бы мне жизнь, принудили бы меня просить комендантское управление о перемещении в другую тюрьму. Но я никаких неприятностей ни от кого не испытывал.
Прибавлю несколько слов о Климкевиче. В 1866 году начальство сочло нужным поместить всех ксендзов в одной тюрьме, именно в этом самом Акатуе. Мне говорили, что Климкевича прочие ксендзы не любят за его начитанность и за подозреваемое ими вольнодумство, хотя никаких доказательств религиозного вольнодумства с его стороны не было; среди этого сонма почтенных священнослужителей его жизнь была, надо думать, не особенно сладка. Осенью 1867 года все ксендзы были перевезены из Акатуя в Тунку, селение Иркутской губернии, и акатуйская тюрьма была упразднена; о дальнейшей службе Климкевича ничего не знаю.
9
Летом 1865 года в акатуйскую тюрьму был привезен Хохряков[213]213
Василий Харлампиевич Хохряков (1839-?) – учился в Казанском университете и Медико-хирургической академии. Арестован в июне 1862 г., заключен в Петропавловскую крепость. В январе 1863 г. приговорен к 9 годам каторги, позже приговор уменьшен до 5 лет. В 1867 г. ему разрешили вернуться в родную Вятскую губернию. Работал врачом. См.: Деятели революционного движения в России… Т. 1. Ч. 2. Стб. 437.
[Закрыть] (имени и отчества не помню). До ареста он был, как и я, студентом Медико-хирургической академии, в которую поступил годом или двумя раньше меня. Я не раз видел его в коридорах академии во время промежутков между лекциями; изредка случалось и разговаривать с ним во время студенческих сходок. От некоторых товарищей я слышал, что он принадлежит к студенческому кружку, поддерживающему правильное, систематическое общение с десятком или, может быть, с двумя десятками молодых людей из числа фабричных рабочих. О времени и обстоятельствах его ареста ничего не моту припомнить. Мои товарищи студенты говорили мне в Петербурге понаслышке, и Хохряков подтвердил в Акатуе, что старания упомянутого студенческого кружка помочь фабричной рабочей молодежи в ее стремлении к свету имели очень заметный успех: эти рабочие стали интересоваться вопросами политики и политической экономии, стали читать лондонские издания Герцена и подпольные листки, появлявшиеся в России; по поводу прочитанного возникали недоумения, вопросы, рассуждения, споры. Мне кажется, этот кружок, по справедливости, может считаться зародышем российской рабочей партии. Из числа студентов, прикосновенных к этому кружку, жандармские сети уловили одного только Хохрякова; он был приговорен к ссылке в каторжные работы на небольшой срок, года на два или на три; его поместили в Петровском Заводе (Забайкальской области), том самом, где в свое время содержались декабристы; когда начальство сочло нужным упразднить тюрьму Петровского Завода, Хохряков был отправлен оттуда в Акатуй.
С того времени, как я видел его в Петербурге, прошло около двух с половиною лет; за это время его наружность изменилась очень мало, и я узнал его с первого взгляда. Ему было на вид лет двадцать шесть или двадцать семь. Разговаривая с ним о разных разностях, я упомянул о здешних фехтовальных состязаниях; он сказал мне:
– Конечно, владеть рапирою, саблею и тому подобным оружием – было не вредное, но для нас, русских, гораздо целесообразнее научиться владеть другим оружием – простою деревянною дубинкою, т[о] е[сть] толстою палкою. Это оружие тем хорошо, что его можно добыть всегда, везде, в каком удобно количестве; и, кроме того, всегда можно иметь при себе, не возбуждая подозрений. А вот, посмотрите, как можно действовать этим простецким оружием.
Он сделал несколько быстрых и легких скачков, то почти приседая к земле, то значительно подпрыгивая; при этом он быстро описывал своею толстою, суковатою палкой правильные, отчетливые круги над головой, то в правую сторону, то в левую.
При этих фехтовально-гимнастических упражнениях даже лицо Хохрякова как будто преобразилось, как-то посветлело, стало мягче, веселее. Обыкновенно же он имел вид человека сердитого, раздраженного, как будто у него или только что произошла жестокая перебранка с кем-нибудь, или сейчас произойдет. Такое выражение лица было у него в Петербурге. Какие причины раздражали его там, в Петербурге, я не знаю; здесь же, в Акатуе, он чаще всего высказывал негодование по адресу Обручева[214]214
Владимир Александрович Обручев (1836–1912) – сын генерала, выпускник Николаевской академии Генерального штаба. В августе 1859 г. подал в отставку. Сотрудничал с Н. Г. Чернышевским. Арестован за распространение воззвания «Великорусе» в октябре 1861 г. и заключен в Петропавловскую крепость, приговорен в феврале 1862 г. к 5 годам каторги и пожизненному поселению в Сибири. В 1872 г. получил разрешение покинуть Сибирь, а через три года ему разрешили вернуться в родную Тверскую губернию. Во время русско-турецкой войны ходатайствовал о назначении в армию рядовым добровольцем. Ему вернули офицерское звание и разрешили поступить на государственную службу. Служил во флоте, вышел в отставку в 1906 г. в звании генерал-майора. См.: Деятели революционного движения в России… Т. 1. Ч. 2. Стб. 286–287.
[Закрыть], сосланного в Сибирь в 1862 году за распространение листка под заглавием «Великорусе» и находившегося в Петровском Заводе то ли одновременно с Хохряковым, то ли немного раньше его. Хохряков сердился на Обручева за то, что тот по отношению к другим ссыльным держался, так сказать, особняком, и, объясняя кому-то причину своей сдержанности, выразился в том смысле, что «теперь время особенное, необходимо быть осторожным, под видом ссыльных могут быть присланы настоящие шпионы». Вот эти-то слова сердили Хохрякова; он кипятился и выкрикивал: «Да как он смеет это говорить? какие у него на это данные?». Я возражал приблизительно так: «Насколько вижу из ваших слов, Обручев не высказывал подозрений ни против вас, ни вообще против какого-нибудь определенного лица. Он говорил вообще, что под видом ссыльных могут явиться шпионы. Ну и что же? Конечно, могут. Вы и сами этого не станете отвергать». Но Хохряков продолжал кипятиться; вероятно, он чего-то мне не договаривал.
Мимоходом он как-то сказал мне, что в этой самой акатуйской тюрьме умер один из декабристов – Лунин[215]215
Михаил Сергеевич Лунин (1787–1845) – сын богатого помещика, подполковник гвардии. В 1815 г. ушел с государственной службы. Участвовал в деятельности тайных обществ. В восстании декабристов в декабре 1825 г. участия не принимал, но на волне репрессий после восстания был сослан на каторгу, где и умер. См.: Декабристы. Биографический справочник, ред. М. В. Нечкина. М., 1988. С. 279–280.
[Закрыть]; и существуют толки, что его смерть не была естественная. Хохряков имел намерение порасспросить кой-кого в Закрайке и в Акатуе; не знаю, исполнил ли он это намерение, и удалось ли ему выяснить что-нибудь.
В акатуйской тюрьме Хохряков пробыл недолго; чрез неделю или через две его увезли куда-то на поселение. Много лет спустя, мне говорили, что он получил разрешение возвратиться в Россию и окончил курс медицинских наук в казанском университете.
10
В конце августа или в начале сентября 1865 года, часу в десятом или одиннадцатом утра я сидел в своей камере около столика и что-то читал; товарищи еще спали или, точнее, нежились в утренней полудремоте. С наружной стороны двери послышался какой-то особенный звук, как будто кто-то задвинул железный засов. Я подошел к двери, толкнул ее – не отворяется; с наружной стороны двери, из коридора какой-то незнакомый мне голос говорит: «Командир приказал запереть все камеры; ежели будет вам надобность выйти из камеры, постучите в дверь; выпускать будем только по одному человеку».
За десять месяцев пребывания в этой тюрьме ничего подобного не бывало; мы были в совершенном недоумении. Чрез несколько минут где-то в коридоре, далеко от нас послышались какое-то неясные крики, как будто какие-то люди там ругаются между собой; какое-то шарканье, как будто кого-то или что-то тащат по полу; и опять все тихо. Ясно, что произошло что-то необычайное; но что же именно? Товарищи встали и оделись; один из них (кажется, Новаковский) решил отправиться на разведку; после довольно продолжительного стука в дверь казак выпустил его и тотчас же опять задвинул засов.
Минут через десять разведчик возвратился и сообщил нам следующее. В далеком от нас конце коридора находилась камера, в которой помещались Тваровский, Выджга[216]216
Скорее всего Людвиг Выджга, помещик Седлецкого уезда. Участвовал в Январском восстании. В 1864 г. сослан в Сибирь. См.: URL: http://rosgenea.ru/?а=3&г=4 &s=%C2%FB%E47oE6%E37oE0 (дата обращения: 11.04.2018).
[Закрыть], Чехович (Мавриций)[217]217
Мавриций (Мауриций) Чехович – дворянин Свенцянского уезда. Заключен в Динабургскую крепость. За политические преступления осужден в ссылку с лишением прав состояния и конфискацией имущества. См.: НИАБ. Ф. 319. On. 1.Д. 479. Л. 32; URL: http://rosgenea.ru/?a=24&r=4&s=%D7%E5%F5%EE%E2 %E8%F7 (дата обращения: 11.04.2018).
[Закрыть] и еще кто-то, которого фамилии не помню. Названные трое до ареста были служащими в какой-то помещичьей экономии или, может быть, в разных помещичьих экономиях где-то в литовских губерниях. Тваровскому было на вид лет около двадцати двух или трех; человек, как мне говорили, малограмотный; прочие двое – постарше и с некоторым образованием. Утром этого дня Тваровский умывался в коридоре над глиняною миской, поставленной на табурете; вода расплескалась, и около табурета образовалась лужица. Прапорщик Едрыхинский, командир той кучки казаков, которая сторожила нашу тюрьму, проходил по коридору и мимоходом сказал Тваровскому: – Эка; лужу какую наплескали; надо умываться поосторожней. Тваровский ему: – А вы дайте нам медные тазы и умывальники; тогда луж не будет. Едрыхинский уже с некоторым раздражением: – Не прикажете ли поставить у вас серебряные тазы? Тваровский ему: – Для нас хороши и медные мазы; над серебряными пусть умываются прапорщики. Едрыхинский вышел из себя: – Как вы смеете грубить мне? Я посажу вас в карцер. Тваровский ответил: – Попробуйте. Едрыхинский тотчас собрал всю свою команду и, предвидя возможность сопротивления со стороны заключенных, велел предварительно запереть все камеры находящими на дверях железными засовами; потом отпер камеру Тваровского и приказал казакам отвести его в карцер. Он и его сотоварищи сопротивлялись; казаки пустили в ход ружейные приклады; после непродолжительной потасовки Тваровского утащили в карцер и заперли там. Должен сознаться: я не знал даже, что в акатуйской тюрьме существует карцер, помещающийся в каком-то закоулке этого же коридора.
Чрез несколько дней казаки отперли все камеры и сказали нам: – Соберите ваши вещи; выносите к воротам; приказано отправить вас в Александровский Завод.
У тюремных ворот стояли три или четыре подводы для наших вещей; сами же мы должны были идти пешком, конвоируемые казаками. Тваровского среди идущих не было, да и его сотоварищей по камере я что-то не припоминаю; должно быть, они все были оставлены в акатуйской тюрьме.
Погода была хорошая; расстояние от Акатуя до Александровского Завода незначительное, верст около восемнадцати; почти все мы – люди молодые; при таких условиях наше путешествие в Александровский Завод представляло собой как бы прогулку. На ходу разговаривали, шутили, пересмеивались; весь инцидент с Тваровским представлялся в такой степени вздорным, глупым, что ни на виновника его – Тваровского, ни на Едрыхинского даже и не сердились.
Месяца чрез полтора или через два приехала из Иркутска какая-то комиссия для расследования этого дела. Кроме Тваровского и его сотоварищей по камере, комиссия привлекала к допросам только Едрыхинского и состоявших под его командою казаков; арестантов, находившихся во время инцидента в прочих камерах тюрьмы, комиссия не допрашивала ни в качестве обвиняемых, ни в качестве свидетелей. По прибытии в Александровский Завод комендантское управление распределило нас по разным тюрьмам, которых в этом заводе было четыре. Спустя три или четыре месяца после отъезда следственной комиссии обратно в Иркутск, комендантское управление собрало нас изо всех четырех тюрем на заводскую площадь и объявило нам приговор военносудной комиссии, конфирмованный генерал-губернатором Восточной Сибири. Этим приговором Тваровскому было назначено телесное наказание, если не ошибаюсь пятьдесят ударов розгами; все же прочие арестанты, находившиеся во время происшествия в акатуйской тюрьме, были лишены права переходить из разряда испытуемых в разряд исправляющихся. Кроме того, в конце приговора было сказано, что генерал-губернатор объявляет выговор всем членам военносудной комиссии «за слабое и неответственное обстоятельствам ведение дела».
В действительности Тваровский не был подвергнут телесному наказанию; чем оно было заменено, не знаю; кажется, карцером. Кстати, уже упомяну все, что известно мне о его дальнейшей судьбе: чрез несколько лет мне говорили, что по освобождении из тюрьмы он находился в какой-то деревне Иркутской губернии в звании ссыльнопоселенца; любил попьянствовать, а денег не было; стал поворовывать и за конокрадство попал вторично в тюрьму, но уже в качестве арестанта уголовного – не политического.
В скором времени после объявления нам упомянутого приговора военносудной комиссии были обнародованы всемилостивейшие манифесты и указы, значительно сократившие сроки каторжных работ, назначенных полякам судебными приговорами. Таким образом, поляки, находившиеся в акатуйской тюрьме во время инцидента с Тваровским и переведенные оттуда в Александровский Завод, были освобождены из тюрем этого Завода и отправлены на поселение даже раньше того времени, в которое они были бы перечислены в разряд исправляющихся и получили бы разрешение жить «на вольных квартирах», если бы дела шли обычным порядком, т[о] е[сть] если бы не было ни инцидента с Тваровским, ни приговора военносудной комиссии. Благодаря манифестам и указам, полякам не пришлось сожалеть об отнятии у них права ознакомиться с «вольными квартирами».
Но кроме поляков в Акатуе было двое русских: я и Степанов. Ни к нам двоим; ни ко всем вообще русским, содержавшимся в политических тюрьмах вместе с поляками, упомянутые манифесты и указы не были применены. Таким образом, для меня и для Степанова приговор военносудной комиссии имел некоторое ощутительное последствие, состоявшее в том, что я пробыл в тюрьме сполна все шесть лет, назначенные мне петербургским судебным приговором, и затем из тюрьмы был отправлен прямо на поселение; Степанов же впоследствии, почти год спустя после моего выхода из тюрьмы, был освобожден из нее несколько ранее срока, назначенного ему петербургским судебным приговором, и отправлен на поселение прямо из тюрьмы, как и я. Нас обоих миновала стадия пребывания в разряде «исправляющихся»; и мы не узнали личным опытом положения арестанта, которому разрешено жить «на вольных квартирах».
В разряде исправляющихся я и Степанов были бы освобождены от кандалов; вследствие же приговора военносудной комиссии мы по спискам комендантского управления до самого выхода из тюрьмы числились закованными в кандалы. Но это последствие приговора имело значение чисто, так сказать, бумажное: в Александровском Заводе, как и в Акатуе, мы надевали кандалы в очень редких случаях; обыкновенно они спокойно лежали под кроватями, не причиняя нам никакого неудобства.
Глава 5Александровский Завод: контора и первый номер
1
Александровский Завод (бывший когда-то сереброплавильный) – большое село, отстоящее от Нерчинска[218]218
Нерчинск – город в Забайкалье, центр Нерчинского горного округа.
[Закрыть] верст на двести с лишним, насчитывавшее в 1865 году до двух тысяч жителей.
На одной из окраин этого села находилась площадь – квадрат, которого сторона содержит в себе около двухсот шагов. Три стороны этой площади были заняты зданиями и заборами трех тюрем, носивших названия: «контора», «первый номер» и «полиция». На четвертой стороне небольшое пространство занято было зданием бани, которым пользовались в случае надобности обитатели «полиции», обитатели же «конторы» и «первого номера» имели другую баню, расположенную в дворе «первого номера».
Шагах в шестидесяти от четвертой стороны площади протекала небольшая речонка Талман (приток Газимура), чрез которую были положены мостки. За мостками, на расстоянии приблизительно полуверсты, находилось несколько казенных амбаров. Недалеко от амбаров по сторонам дороги виднелись кое-где кучи камня, похожего видом и мелкими размерами на щебень, употребляющийся для ремонта шоссейных дорог: это были кучи серебросодержащей руды, оставшиеся от производившихся когда-то заводских работ.
На тюремной площади, поближе к «первому номеру», находилось небольшое здание – гауптвахта для казачьего караула.
Была еще четвертая тюрьма, которая называлась «казармы» и находилась в другой части Завода. Кроме того, была больница, расположенная недалеко от тюремной площади – здание не обширное, но довольно опрятное и снаружи, и внутри. Больные бывали там редко и в небольшом числе; большею частью больница стояла пустая: ведь огромное большинство заключенных составляли люди молодые, в цвете сил. Правда, у иных были в прошлом мытарства российских этапов – но уже далеко позади; болезненные отзвуки уже затихли.
Мы, бывшие обитатели акатуйской тюрьмы, по прибытии в Александровский Завод были разделены комендантским управлением на четыре неравные части; каждая часть была отведена в ту или другую из четырех тюрем и присоединена к арестантам, которые уже содержались там с первых месяцев существования комендантского управления. Человек десять или двенадцать, в этом числе и я, были отведены в контору.
Здание конторы имело около сорока шагов в длину и двадцати шагов в ширину. Двор поменьше, чем в Акатуе, и был огорожен высоким забором обыкновенного устройства, из досок (в Акатуе был частокол). Окна большие; снаружи окон железные решетки, но камеры тем не менее были достаточно светлые. Всех камер было, кажется, пять или шесть. Число заключенных в этой тюрьме колебалось после нашего прибытия из Акатуя от сорока до пятидесяти.
2
Полковник Кноблох[219]219
Адольф Егорович Кноблох (ок. 1810 – после 1873) – полковник, в 60-е гг. комендант Нерчинской каторги. В 1873 г. получил звание генерал-майора и ушел в отставку. См.: URL: http://www.rusgeneral.ru/general_k3.html (дата обращения: 21.03.2018).
[Закрыть], комендант, почтенного вида старик, но еще довольно добрый, посещал тюрьмы очень редко; о его посещениях нас предуведомляли, и мы надевали кандалы. Под его начальством находилось четверо офицеров, из которых один назывался плац-майором, другой – плац-адъютантом, третий – ротным командиром и четвертый – смотрителем тюрем. Эти офицеры заходили в тюрьмы довольно редко, и при них мы оставались в нашем обыкновенном виде, т[о] е[сть] без кандалов.
Отряд, исполнявший караульную службу при тюрьмах, состоял приблизительно из сотни казаков; на гауптвахту их отряжали в количестве человек двадцати, сменявшихся ежедневно. При тюремных воротах постоянно находился караульный казак, без ружья, пропускавший нашего старосту без дальних разговоров и хлопот; староста заходил на гауптвахту и оттуда отправлялся по Заводу в сопровождении конвоира, тоже без ружья. Если кто-нибудь желал идти вместе со старостой, на это надо было получить предварительно разрешение начальства, и разрешение давалось не так легко, как в Акатуе; что касается лично меня, я о таком разрешении не просил ни разу, не интересовался хождением по Заводу.
Около семи или восьми часов вечера конвоиры замыкали снаружи дверь, ведущую со двора в сени нашей тюрьмы; и до рассвета мы не могли выходить из наших камер во двор. В остальные часы ходили по двору свободно.
Осенью 1865 года и зимою 1865–1866 г[одов] начальство не привлекало нас ни к каким принудительным работам. Весною 1866 года, приблизительно в середине мая, наш староста сказал нам, что начальство требует от нашей тюрьмы человек пятнадцать, которые обязаны будут заняться уборкою завалин от дома комендантского управления и от каких-то других казенных зданий. Без дальних рассуждений решили, что завтра пойдут пятнадцать человек из числа обитателей тех камер, которые расположены ближе всех ко входу: из первой и из второй камеры все, помнится – по шести человек из каждой, и из третьей камеры трое. На завтра в часу десятом или в одиннадцатом пятнадцать человек, конвоируемые одним или двумя казаками, отправились к дому комендантского управления, получили там несколько железных лопат и несколько небольших тачек. Земля завалины, оттаявшая, рыхлая, выбрасывалась на тачки и отвозилась в какой-то огород, расположенный неподалеку. Чрез час или полтора работавшие были отпущены обратно в тюрьму. На другой день это же самое проделали пятнадцать человек из числа обитателей следующих по порядку камер, на третий день остальные. При этих работах физической усталости не было; командных окриков, способных задеть самолюбие арестантов, тоже не было; в итоге получился – моцион, предписанный нам [отсутствует часть текста][220]220
В рукописи не хватает страницы 171.
[Закрыть].
3
Хозяйственною обстановкою тюрем заведывал, как и в Акатуе, особый чиновник, который назывался комиссаром и имел помощника, называвшегося приходорасходчиком.
Мебель в наших камерах: топчан, столы, табуреты – все это, как и в Акатуе, было из дешевого материала, топорной работы, но к употреблению пригодно.
Казенный паек давал возможность иметь для каждого из нас, как и в Акатуе, ежедневно полтора фунта ржаного хлеба и обед, состоявший из «крупника» с куском мяса, весом около половины фунта.
Но почти каждый из нас имел привычку пить утром и вечером чай (правда, в большинстве случаев – кирпичный); очень многие курили табак, некоторые – третий сорт, некоторые простую махорку (к слову скажу, что в последнее время пребывания в Акатуе, я тоже стал курить, и эта привычка укоренилась во мне на десятки лет); редко кто стирал белье сам – обыкновенно белье отдавалось или в Завод, какой-нибудь прачке, или одному из сотоварищей, промышлявшему этим ремеслом; наконец, время от времени оказывалось необходимым отдать в починку белье, одежду, обувь. Все эти расходы надо было покрывать своими средствами.
Большинство обитателей конторы получало эти средства от родственников, присылавших деньги по почте; обыкновенно комендантское управление выдавало адресату присланные деньги все сразу; в тех только случаях, когда присланная сумма превышала 25 рублей, деньги выдавались частями, по 25 рублей в месяц; об этом я говорил в предыдущей главе.
Из тех, которые не получали денег с родины, несколько человек имели кой-какой заработок, обслуживая своих более состоятельных тюремных сотоварищей; таковы были: повар, хлебопек, портной (правильнее сказать заплаточник), чеботарь и занимавшийся стиркою белья; все пятеро были не настоящие ремесленники – тюремная нужда заставила их взяться за ремесло. Но было двое заправских ремесленников: один – столярный подмастерье из Варшавы; другой – подмастерье кондитер, тоже, помнится, из Варшавы. Когда нас по прибытии из Акатуя водворили в конторе, столяр уже имел кой-какой заработок, получал заказы то от комиссара, то от некоторых лиц из нашего начальства; впоследствии являлись заказы также от туземцев, т[о] е[сть] от коренных обывателей Завода. Чрез несколько месяцев после нашего прибытия в контору дела кондитера приняли также довольно сносный вид; об этом мне придется еще говорить подробнее.
Было в конторе трое или четверо таких субъектов, которые денег ни откуда не получали и ремесла никакого не знали. По временам тот или другой из них являлся помощником у занимавшегося стиркою белья. Баня, находившаяся во дворе первого номера, в некоторые дни недели предоставлялась в пользование обитателям конторы; часть этих дней назначалась нами самими для тех из нас, которые желали вымыться в бане; остальные дни для тех, которые желали заняться в той же бане стиркою белья. Дрова для топки бани находились во дворе первого номера всегда в достаточном количестве; воду брали из колодезя, находившегося в том же дворе; колодезь был хороший, с большим, широким срубом и с удобно устроенным воротом для вытаскивания воды; вода употреблялась не только для стирки белья и для других надобностей в том же роде, но также для приготовления кушанья, для печения хлеба и для самоваров. Во дворе конторы был также колодезь, размерами гораздо меньше, чем в первом номере, но с такою же хорошею водою пригодною для всякого употребления.
Деревянный станок и металлические свечные формы, о которых я говорил в предыдущей главе, были помещены в первом номере на том основании, что туда была водворена наиболее значительная часть бывших обитателей акатуйской тюрьмы – человек двадцать или двадцать пять. В зимние месяцы свечелейство пошло в ход, и трое или четверо из числа обитателей первого номера получили сносный заработок.
У нас, в конторе, являлась мысль – составить такую же складчину, которая составилась за год пред тем в Акатуе, и устроить миниатюрный свечной завод, какой существовал в Акатуе и теперь переместился в первый номер. Но эта мысль осталась без осуществления по скудости наших денежных средств.
По некоторым другим признакам также было заметно, что в конторе мы живем беднее, чем в Акатуе. Во-первых: при обеде второе кушанье появлялось теперь чрезвычайно редко; и если появлялось, то исключительно в виде кашицы с маленьким количеством мяса – жаркое исчезло совершенно. Во-вторых: не ужинал почти никто; а если кто-нибудь изредка и отступывал от этого правила, он ограничивался повторением вечернего чая или, еще проще, куском хлеба с водой; бифштекс, котлеты и Дому] п[одобное], появлявшиеся и в Акатуе очень нечасто, в конторе отошли решительно в область преданий. В-третьих: многие курильщики, и я в том числе, постепенно и незаметно перешли от табака картузного к листовой махорке.
4
Из трех мастеров фехтовального искусства, названных мною в предыдущей главе, Свенцицкий и Зубек по прибытии нашем в Александровский Завод угодили в ту тюрьму, которая носила название «казарм»; третий же Турцевич, оказался помещенным в конторе. Человек он был уже не молодой, но добрый, деятельный; тем не менее фехтовальные упражнения и состязания происходили в конторе гораздо реже, чем в Акатуе.
Песни слышались редко; обыкновенно пение было в одиночку и неполным голосом – мурлыкает человек что-то себе под нос. Хор составлялся очень редко. Иные коротали время игрою в шашки или в шахматы. Игр в карты, кажется, совсем не было, даже коммерческих; по крайней мере, я не моту припомнить, чтобы видел в конторе картежную игру хотя бы один раз, или слышал бы разговоры об игре.
Книги кое у кого были, по преимуществу, конечно, на польском языке, и, главным образом, беллетристического содержания. Как исключения, припоминаются мне Осовский[221]221
Возможно, речь идет о Любомире Оссовском или Викторе Оссовском, уроженцах Киевской губернии, братьях, приговоренных к 10 годам каторги. См.: Spis powstańców 1863 г. więzionych w twierdzy kijowskiej… S. 88.
[Закрыть], не только читавший, но, можно сказать, штудировавший Гизо «Memories pauz servival historie de mon temps»[222]222
Речь идет о работе французского историка и политика Француа Гизо (1787–1874) «Memories pour servir a 1'histoire de mon temps», изданной в восьми томах в 1858–1867 гг.
[Закрыть], и Межиевский, усердно читавший в подлиннике различные сочинения Бастия, которые он называл «евангелием нашего времени»[223]223
Фредерик Бастиа (1801–1850) – французский экономист и публицист, пропагандист либерализма и критик социалистических идей.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































