Читать книгу "Участники Январского восстания, сосланные в Западную Сибирь, в восприятии российской администрации и жителей Сибири"
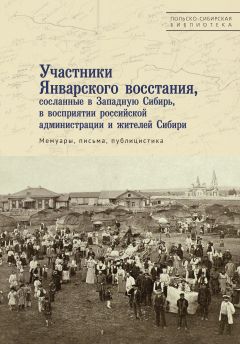
Автор книги: Сборник
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
17
В тобольской тюрьме промелькнули пред моими глазами три польские дамы. Первая – Кольке[148]148
Ошибка Стахевича. Речь идет об Отылье Рольке, которая отправилась в ссылку вместе с мужем Леоном, чиновником из Варшавы. После освобождения из ссылки они поселились в Тифлисе. См.: Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T. 2. Na Syberji. Kraków, 1934. S. 311.
[Закрыть] (Атолия Станиславовна), следовавшая в Сибирь добровольно за своим мужем (Львом Романовичем), счетным чиновником какого-то присутственного места в Варшаве. Они помещались в дворянском коридоре. Чрез много лет я увидел их в Иркутске.
Госпожа Жебровская[149]149
Мария Жебровская – хозяйка дома в Варшаве, сосланная в Сибирь за помощь повстанцам, освобождена в 1867 г. См.: ГА РФ. Ф. 109. Оп. 42. Д. 15. Ч. 72.
[Закрыть], варшавская домовладелица, и госпожа Гудзинская[150]150
Юзефа Гудзинская, владелица пивной в Старом городе в Варшаве. Укрывала членов руководства восстания, сослана на работы в рудниках в Усолье. Когда она умерла в 1866 г., ее похороны стали патриотической манифестацией, в которой приняли участие многие ссыльные. Образ Гудзинской описал Людвиг Зеленка, а на картинах увековечил Александр Сохачевский. См.: Jastrzębiec Zielonka L. Wspomnienia z Syberyi od roku 1863–1869. Kraków, 1906. S. 158–167; Caban W., Michalska-Bracha L. Kobiety powstania styczniowego na Syberii. Zesłanki do Usola i Kunguru // Postawy i aktywność kobiet w czasie powstania styczniowego 1863–1864, red. T. Kulak. Wrocław, 2013. S. 174–175.
[Закрыть], содержательница кофейни в Варшаве, помещались в женском отделении тюрьмы, в котором я не был ни разу.
Мне говорили, что русские власти считали кофейню Гудзинской притоном, в котором происходили собрания членов народного правительства, или, по меньшей мере, важных лиц из организации; чтобы вынудить у Гудзинской имена посетителей – заговорщиков, ее в военносудной комиссии секли розгами несколько раз и не только обычным порядком, но также по животу, не взирая на ее тогдашнее состояние – она была беременна.
Бывая в дворе, я видел Гудзинскую несколько раз довольно близко; по наружности она показалась мне здоровою, цветущею. Означало ли это, что внешность была в этом случае обманчива (как это бывает и во многих случаях)? Или организм ее замечательно крепок, вынослив, и потому она быстро оправилась от истязаний? Или, наконец, рассказ об истязаниях преувеличен? С нею лично я ни разу не разговаривал; упоминание об истязаниях слышал от нескольких поляков, в правдивости которых не сомневаюсь, и которые все говорили об этом в одинаковых выражениях.
Видел я в тобольской тюрьме нескольких иностранных подданных. Один был венгр, фамилии не помню; он говорил по-польски свободно. Другой уроженец Вены, не говоривший и не понимавший по-польски ни слова, хотя фамилию носил настоящую славянскую: Вишневский. Я полюбопытствовал, спросил его по-немецки: – Да как же вы попали в польское восстание, когда ни слова по-польски не знаете? – Кровное родство подействовало; кровь потянула. Один из поляков, которому я перевел этот вопрос и ответ, заметил скептически: – Рассказывай там… Кровь… Должно быть, авантюрист. Наслышался от какого-нибудь пустозвона, будто в наших отрядах жалование дают громадное; прибавил от себя фантазию о возможной военной добыче – вот и затесался в наш отряд. А то – кровь. Так я ему и поверил.
Был француз, которого фамилию я забыл, и который по-польски тоже не понимал ни слова. Он говорил мне, что по каким-то причинам, его не должны бы посылать сюда; дело, кажется, в том, что французское правительство хлопотало о нем, и хлопоты были уважены, но произошло какое-то недоразумение, и его отправили в Сибирь. «Меня как будто толкнули в длинный, предлинный тоннель и надавливают в спину поршнем; станция за станцией, я от своей Франции все дальше; и не знаю, где, наконец, меня из этого тоннеля вытолкнут. Конвойные солдаты, офицеры, чиновники – никто ничего и слушать не хочет от меня. Я ничего не понимаю, и они ничего не понимают и понимать не хотят. Здесь был какой-то чиновник; как будто понял меня; напишу, говорит, о вашем деле какому-то там начальнику; но только ответ нескоро будет, вы тогда уже далеко отсюда будете; я ответ перешлю следом за вами; но только нескоро». На лице француза был заметен некоторый, можно сказать, ужас.
18
Пробыл я в тобольской тюрьме пять с половиною месяцев; пред моими глазами прошли многие сотни поляков; если бы я захотел обрисовать их взаимные отношения немногими словами, я сказал бы: это были хорошие отношения – товарищеские. За все это время ни одной драки, ни одного случая воровства, ни одного случая грубой ругани, т[о] е[сть] с употреблением площадных слов. [Случались споры и перебранки, но в формах сдержанных, допускаемых нашими житейскими обычаями; и где же люди живут без подобных перебранок?]. Было одно отступление от доброжелательного, благодушного строя тобольской тюремной жизни поляков. В первой общей камере был помещен на несколько дней поляк – шпион, шпион самого дешевого сорта, из числа уличных оборванцев; в чем он провинился пред русскими властями, за что его присудили в Сибирь – не знаю. Он почти не выходил из-под нар; а когда показывался оттуда, тотчас раздавались с разных сторон сердитые выкрики: шпег, лайдак, галган, пся крев и т[ому] п[одобное]; бывшие поближе присоединяли к этим клеймящим словам пинки и толчки, более или менее чувствительные. Он не раскрывал рта для возражений, не пробовал обороняться от пинков, и, конечно, если бы попробовал – подлил бы масла на огонь. Он старался покончить как можно скорее то дело, ради которого вылез из-под нар; например, подскочивши к ушату с водой, проворно зачерпывал воду ковшом, проворно подносил ковш к губам, быстро делал несколько глотков и стрелою летел обратно в свое логовище, под нары.
19
В течение этих пяти с половиною месяцев случаев обратной отправки из Тобольска в Варшаву было немного; обратно в Вильно – не помню ни одного. Разумеется, тобольские власти отправляли человека в Варшаву вследствие требования тамошних властей, а тамошние власти требовали человека вследствие открывшихся новых улик против него, и обыкновенно улик тяжелых – из-за пустяков не стали бы себя беспокоить новым делопроизводством. Понятно, что отправляемый из Тобольска имел вид печальный и более близкие к нему из товарищей были тоже сумрачны. Чрез несколько недель поляки, приехавшие из Варшавы, на обращенный к ним вопрос об отправленном обратно человеке обыкновенно отвечали: повешен. Однако, были и такие случаи, что человек оставался жив, и варшавские власти отправляли его в Тобольск вторично.
20
В июне 1864 г[ода] в тобольскую тюрьму был привезен из Петербурга Николай Гаврилович Чернышевский и пробыл тут с неделю. Обо всем относящемся к нему я предполагаю рассказывать в одной из будущих глав моих воспоминаний.
В июле 1864 г[ода] получился от петербургских властей ответ о лицах, приговоренных к каторжной работе в крепостях. Смысл ответа был тот, что не следует сибирским властям обращать внимание, к какому именно роду каторжных работ приговорен ссылаемый, к работе ли в заводах, или в крепостях, или в рудниках; в каких пунктах казна имеет свободные помещения для заключения ссыльных, туда и отправлять их, 22-ое июля было последним днем моего пребывания в тобольской тюрьме.
Глава 3От Тобольска в Акатуй[151]151
Акатуй – населенный пункт в Забайкалье. При тамошнем руднике, входившем в состав Нерчинского горного округа, в 1832–1917 гг. действовала тюрьма для каторжников.
[Закрыть]
1
22 июля 1864 г[ода] я был отправлен из Тобольска в Томск в составе довольно значительной партии политических арестантов; нас было около двухсот человек и уже, во всяком случае, не меньше полутораста. Мы были помещены на большой барже, которую буксировал пароход. По середине баржи, во всю ее длину, был оставлен довольно узкий проход; направо и налево от него наши места; нижний этаж – на полу, верхний [этаж] на нарах: палуба была потолком. Свет проникал к нам через небольшие окна, проделанные в боковых стенах баржи; пространство около окон было освещено с грехом пополам, но серединный проход и лесенки, по которым приходилось подниматься из него на нары, оставались почти темными даже и среди дня. По палубе мы могли расхаживать свободно. Конвойных солдат было мало; – на сколько могу припомнить, не больше человек пятнадцати; – и они как-то совсем стушевывались: офицер разрешил им ходить не в форме, а, так сказать, по-домашнему – иной в рубашке и шароварах, у иного поверх рубашки еще куртка, почти все босиком. Все вооружение было сложено на пароходе, где помещался и сам офицер с несколькими солдатами.
Погода была хорошая; летняя жара умерялась прохладою от больших рек, по которым мы плыли: Иртыша (плыли вниз по течению) и Оби (вверх по течению). Обь во многих местах очень широка, так что я с трудом различал ее отдаленные, низменные, пустынные берега. Все кругом мертво: не было человеческих жилищ, ни даже лесов; я догадывался, что вблизи берегов почва сырая, болотистая, и потому лес отодвинулся куда-то подальше. Время от времени пароход приставал к берегу, чтобы запастись дровами; но даже около этих дровяных складов я совсем не помню человеческих жилищ. [При одной из таких остановок к нашей барже подплыли и взобрались на палубу трое или четверо остяков, грязные и на вид как будто болезненные. По-видимому их привлекло к нам одно только любопытство: они не привезли с собою ни рыбы и вообще никаких предметов для обмена; и у нас они ничего не просили; но некоторые из нас пожалели этих «пасынков природы» и сунули им по куску хлеба, булки и т[ому] подобного]; – они тотчас же съели].
Около Cypiyra и Нарыма стоянки были продолжительнее обыкновенного: несколько поляков с разрешения офицера отправились «в город» (ну уж и города!), купить чего-нибудь съестного. Мы в Тобольске были предупреждены о пустынности мест, через которые поплывем, и потому запаслись съестными припасами; ели, правда, все больше всухомятку, но кипяток могли получать в неограниченном количестве. При таком положении дел нам не было необходимости знакомиться с Сургутом и Нарымом; но от нечего делать почему не сходить? Некоторые и пошли; купили порядочное количество рыбы; больше ничего подходящего не оказалось.
Пока они ходили туда и назад, пока матросы таскали на пароход дрова, я и конвойный офицер, по фамилии, кажется, Каргопольцев (человек еще молодой, приблизительно лет около двадцати пяти), расхаживали по берегу вперед и назад и беседовали о разных разностях. Офицер интересовался мною, как бывшим медицинским студентом, и вел разговор преимущественно о теории и практике тех действий, которые ныне носят название «нео-малътусианства?»[152]152
Неомальтузианство – концепции, возникшие из теории населения Томаса Р. Мальтуса (1766–1843) и мальтузианства. По словам Мальтуса, поскольку население растет в геометрической прогрессии, а производство продуктов питания – в арифметической, то неизбежно перенаселение. Увеличение численности населения при постоянном (ограниченном) снабжении землей приводит к
[Закрыть]. В те времена название это не существовало, или, по крайней мере, я его никогда не слышал. Давно ли возникла теория нео-мальтусианства, я не знал и не знаю; но что касается практики, я хорошо знал, что она существует в Петербурге, и довольно бойкая; а в зачаточном, т[о] е[сть] не усовершенствованном, виде эта практика существовала, должно быть, с очень давних времен, и в самых различных местностях. Офицер был очень доволен сообщенными мною сведениями о петербургской практике: – Это хорошо, очень хорошо; это помогает людям жить веселее, в свое удовольствие; ну что хорошего в аскетизме?
Я возражал ему приблизительно следующими словами:
– Я тоже не сторонник аскетизма. Предположите, что вы, я, другой, третий, много нас – что мы обращаем свои усилия на перестройку существующих общественных порядков в социалистическом направлении; предположите, что наши усилия увенчались некоторым успехом. Это означало бы, что масса населения живет зажиточно; что каждый человек имеет возможность удовлетворить все потребности своего организма, те все здоровые, нормально-человеческие, не звериные потребности, в том числе и потребности половые. Это будет жизнь совсем не аскетическая; и однако же она не будет нуждаться ни в вашем предохранительном аппарате, ни в разных там абортивых микстурах и операциях. – Но ведь это – журавль в небе; улита едет, когда-то будет. Между тем аппарат действует сейчас же; человек имеет возможность сейчас же дать себе кое в чем волю; некоторое стеснение жизни отпадает, а потому улучшается самочувствие человека, хоть на некоторое-то время. Зачем же упускать синицу из рук?
– Организм человека – предмет очень сложный, исследованный во многих отношениях недостаточно. Вы тянете из него одну нитку, а она тянет за собою десять ниток, и в числе этих десяти снижению производительности труда в сельском хозяйстве. В этой ситуации сельскохозяйственное производство не может идти в ногу с ростом населения, и поставки продовольствия будут снижаться до тех пор, пока снижение численности населения, вызванное голодом, не достигнет уровня, при котором можно будет обеспечить достаточное количество пищи.
могут оказаться такие, которых вы совсем не желаете трогать. Синицу взять, конечно, дело не вредное; но не пришлось бы за нее расплачиваться, и, может быть, дорого расплачиваться. Возьмите, например, водку: она тоже улучшает самочувствие человека на некоторое время – и, однако, дикари гибнут от нее, да и цивилизованным людям не мешало бы, кажется, обращаться с нею поосторожнее. Ваш предохранительный аппарат не окажется таким же коварным другом человечества, как и водка? Фальшивая поправка фальшивого положения. Но, мне кажется, что одобряемые вами средства не приведут людей к победе над аскетизмом. Вообще, если ставится задача: изменить существующие общественные отношения во имя потребностей человеческого организма – не сомневаюсь, что такая задача может быть разрешена, и стараюсь по мере сил содействовать ее разрешению. Если же ставится задача: изменить человеческий организм во имя охраны существующих общественных отношений – думаю, что и эту задачу можно решить, но считаю ее несравненно труднее первой задачи; и кроме того, какая легкая бы она ни была, не желаю содействовать ее разрешению.
Само собою разумеется, я не убедил офицера, он не убедил меня.
Во все время нашего плавания мы не испытывали от него никаких придирок и стеснений. Из Оби мы вошли в ее приток Томь и прибыли в Томск 29-го или 30-го июля 1864 г[ода]. На пристани виднелась толпа любопытствующих зрителей, не особенно, впрочем, большая. На палубе нашей баржи собралась изрядная кучка певцов, и они пропели одну из песен, упомянутых мною во 2-ой главе: «Наш Стефан Баторий Великий»[153]153
См. примечание 131.
[Закрыть]. Публика, стоявшая на пристани, одобряла, по-видимому, напев этой песни; слова едва ли они могли разобрать и понять, но я стоял недалеко от певцов и заметил, что они изменили несколько слов текста, а именно: вместо слов «громил московских бояр» они пропели слова «громил турок и татар».
2
В томской тюрьме мы пробыли дня два или три; желавшие могли сходить в город, даже, помнится, без конвоя. Отсюда нас отправили дальше на подводах, так называемых – обывательских. Подводы, числом около сотни, собрались перед тюрьмою. Это были обыкновенные крестьянские телеги, запряженные большею частью двумя лошадьми, немногие – одною лошадью; троек почти не было. На большей части подвод ямщиками были крестьяне, молодые или средних лет, на некоторых – старики, на некоторых – подростки или даже совсем дети. Мы разместились на подводах, по два человека на каждой, с вещами. На трех подводах были дамы; мне сказали, что они сопровождают своих мужей добровольно: госпожи Крупская, Рудницкая и Чаплинская.
Конвойных солдат было человек пятнадцать или, может быть, даже двадцать. Отдельных подвод для них не было; но у многих поляков вещей было совсем мало, на телеге просторно, вот к ним и подсаживались конвойные. Конвойному офицеру был подан тарантас, запряженный тройкой.
Пока мы длинною вереницей ехали по городу, вид нашего поезда был довольно стройный; но на расстоянии двух или трех верст от города стройность начала разрушаться. Дело в том, что лошади были, разумеется, не одинакового достоинства: некоторые – молодые, горячие; другие, напротив, старые, вялые, или с разными изъянами. Из поляков многие знали в лошадях толк, умели быстро и верно определить, на какой подводе можно будет ехать попроворнее – на нее и садились. Когда мы были уже за городом, они выехали из нашей вереницы в сторону, обогнали те подводы, которые подвигались не так быстро, и умчались вперед. Между подводами, отставшими от этих передовиков, произошел дальнейший, так сказать, отбор в том же порядке: у кого лошади были побойчее, те точно также обогнали флегматиков. В конце концов оказалось, что на первом же переезде наша партия разорвалась на четыре или на пять маленьких партий; и, когда последняя из этих маленьких партий подъезжала к станции, передовики (впоследствии мы называли их загонщиками) были уже дальше, верстах в десяти от станции.
Из Томска мы выехали довольно поздно, часу в одиннадцатом или даже в двенадцатом; потому в первый день проехали только две станции, в сумме верст около пятидесяти или шестидесяти. В следующие дни мы проезжали по четыре и по пять станций. Лошади стояли везде в полной готовности. Некоторые подводы выставлены из селений; расположенных неподалеку от станций, а некоторые из довольно отдаленных, верст из-за тридцати; из-за пятидесяти; припоминается мне даже один случай, когда ямщик говорил, что от его деревни до этой станции сто верст. Многие жаловались, что они по неделе и по две живут на станции; оторваны от домашних работ и принуждены тратиться на свое содержание. От нас они не получали никакой платы; упоминали о каких-то контрамарках, по которым казна имела заплатить им когда-то какие-то пустяки.
По выезде из Томска наш первый ночлег был не в этапном здании: там помещение оказалось тесным и неудобным – и мы разместились по крестьянским избам. Однако же, редко кто лег спать в самой избе: мы опасались насекомых и улеглись, кто в сенях, кто во дворе, кто в сарае; ночь была теплая, тихая.
Пред выездом из Томска, когда я подошел к одной из незанятых подвод, поставил на нее свой сундучок, положил около него перетянутый веревкою сверток, в котором находилась моя зимняя одежда – к этой же подводе подошел молодой человек, приблизительно одних лет со мною, которого я несколько раз видел в тобольской тюрьме, в последние дни моего пребывания там, и на барже; но разговаривать нам еще не случалось. Он положил на телегу свой маленький сверток, очень похожий на солдатский ранец, но только сделанный из клеенки, не из кожи; подал мне руку.
– Новаковский [154]154
Юзеф Новаковский – род. ок. 1843 г., дворянин Волынской губернии, приговоренный к 10 годам каторги. См.: Spis powstańców 1863 г. więzionych w twierdzy kijowskiej, oprać. M. Micel. Przemyśl, 1995. S. 84; РГВИА. Ф. 1759. On. 4. Д. 1636. A. 13.
[Закрыть], из Руси (Русью поляки называют то, что на нашем официальном языке называется «Юго-Западный край»; т[о] е[сть] губернии Киевскую, Подольскую и Волынскую). Хочу сесть с вами. Нам не будет тесно? А может быть у вас уже есть компанион? Никого нет. – Пожалуйста, залезайте на телегу, и усядемся.
Дорогою он сообщил мне свое curriculum vitae, я ему-свое. Его имя и отчество – Иосиф Александрович, происходит из дворянской семьи, владеющей поместьем среднего размера в Подольской губернии; по окончании гимназического курса поступил в Киевский университет, кажется – на математический факультет. Но время подошло такое, что большая часть студентов-поляков книгами и лекциями почти не занимались; ознакомление с устройством ружья и с правилами его содержания, стрельба в цель, фехтование, военная гимнастика, приемы рукопашного боя штыками – эти отрасли военного искусства и другие подобные им наполняли почти все время юношей, приготовлявшихся к восстанию. Наконец, получили приказание: выйти из города через такие-то заставы в такие-то часы; сборный пункт там-то. Со сборного пункта направились куда-то далеко, спешили, измучились сильно. «Можете себе представить: я спал на ходу; и, конечно, не я один; иду и какой-то сон вижу; толкнет мне сосед – подниму голову, очухаюсь». Чрез два или три дня русское войско настигло их; завязалась перестрелка; несколько человек было убито и ранено; остальных отвели в киевскую тюрьму. «Я и многие из нас дня три спали почти без перерыва; проснусь, протру глаза, попью воды – и опять сплю». При отправлении в Сибирь им дали арестантскую одежду; все бывшие при них деньги и вещи отобрали. Погнали их этапным порядком, и они всего натерпелись, как и отправленные из литовских губерний, о которых я упоминал во 2-ой главе. В Тобольске некоторые получили помощь от родственников, поделились с товарищами, все кой-как принарядились. «А до того времени вид у нас был очень обтрепанный, можно сказать – до невероятности». Новаковский владел русским языком очень удовлетворительно.
Избушка, в которой мы с ним остановились на ночлеге, была из числа небогатых: самовара у хозяев не было. Мы извлекли мой небольшой самовар из сундука; чай, сахар, хлеб, булку, сыр мы имели с собою, хозяйка подала нам крынку молока и десятка полтора яиц. За день мы проголодались и ужинали с отличным аппетитом. [К чаю Новаковский относился с некоторым пренебрежением, больше налегал на молоко; я – обратно: наливал себе чашку за чашкой].
Легли мы спать не поздно, часу в десятом. Утром проснулись часу в шестом; умылись из глиняного рукомойника, висевшего на крыльце; съели по ломтю хлеба, запивая поданным хозяйкою молоком, и спросили ее: – Сколько же вам заплатить за молоко, яйца и вообще за все это беспокойство? – И, батюшка! Какое беспокойство? Что пожалуете, то и ладно будет.
Этот ответ нам пришлось услышать в последствии множество раз. На первых порах он приводил меня и Новаковского в большое затруднение; со временем мы ориентировались в ценах довольно твердо, расчет за припасы и за хозяйственные услуги происходил у нас и к обоюдному удовольствию сторон.
Приготовленные подводы стояли около многих домов, большею частью на улице, кое-где внутри дворов; стояла подвода и около наших ворот. Мы вынесли наши вещи, уселись и тотчас же двинулись в путь. Отъезжавшие от ворот подводы виднелись и впереди нас, и позади. Весь поезд разбился на небольшие группы по три, по четыре подводы в каждой; между группами были разрывы, более или менее значительные, образовавшиеся отчасти случайно, отчасти преднамеренно вследствие желания едущих держаться подальше от облаков пыли, поднимаемых передовыми группами. И в этот день, и в дальнейшие дни нашего путешествия подводы трогались в путь неодновременно: самые ранние – около шести часов утра, самые поздние – около восьми часов и даже девяти. Вследствие этого обычным явлением было, что самые поздние подводы подъезжают к первой станции, а в этот же час самые ранние – уже ко второй станции.
Проехавши две станции, я и Новаковский, переложивши вещи на новую подводу, зашли в первую попавшуюся избу и спросили: не продадут ли нам крынку простокваши? Продали; вместе с простоквашей подали нам хлеб и пшеничную булку. День был жаркий и наш завтрак для такой погоды был очень подходящий. Поехали еще две или три станции, остановились на ночлег, немногие – в этапном здании, большинство – по крестьянским избам.
Селения по тракту из Томска в Иркутск вообще зажиточные и довольно большие по сто дворов, по полтораста и больше. В каждом селении мы могли купить хлеб, пшеничную булку, молоко, творог, масло, яйца; некоторые домохозяйки предлагали заготовленные ими для продажи мясные продукты: кусок зажаренного мяса, жаренную курицу, утку, гуся. В Томске мы получили кормовые деньги на несколько дней вперед; размера кормовых денег не помню, а также не помню с точностью цен, по которым можно было купить хлеб и прочие названные мною припасы. Помню, что при сравнении этих цен с петербургскими и киевскими, о которых я и Новаковский имели некоторое понятие, мы находили сибирские цены очень умеренными. И, однако, мы оба, хотя довольно воздержные, не прихотливые, не могли пропитаться на казенные кормовые деньги; требовалось прибавить из собственных средств приблизительно столько же.
3
Я упомянул, что конвойные солдаты подсаживались на те подводы, на которых ехали поляки, имевшие при себе мало вещей. На другое же утро по выезде из Томска некоторые солдаты встревожились, что трех или четырех из них нет налицо. Нисколько не сомневаясь, что отсутствующие находятся или в кабаке, или неподалеку от кабака, они направились туда и некоторых привели под руки, а некоторых, совершенно бесчувственных, даже принесли на руках; стали просить поляков, чтобы они потеснились, уселись бы на некоторых подводах втроем и таким образом освободили бы две подводы для этих пьяниц: «Мы их на этих подводах усадим и уложим, и в дороге за ними приглядим». Поляки охотно согласились; и таким образом трезвой части конвоя пришлось хлопотать около своих пьяных товарищей.
Мое путешествие от Томска до Нерчинских заводов продолжалось три с лишком месяца. Дорожный распорядок был во все время такой, как описан мною перед этим: партия растягивалась на десятки верст; конвойные рассаживались, как случится – одна группа подвод везет пятерых или шестерых солдат, десятки групп – ни одного; часть конвойных, иногда чуть не половина, в состоянии пьяной невменяемости; на ночлегах по крестьянским дворам ни офицер, ни конвойные не заглядывали к нам, о какой-нибудь поверке по четыре дня, по пять дней не было и помину; перекличку нам сделали только в Томске, в Красноярске и в Иркутске. По-видимому, все удобства к тому, чтобы множество арестантов бежало.
И за все три с лишком месяца на протяжении трех с лишком тысяч верст – ни одного побега, ни одной попытки к побегу!
На первый взгляд это странно, почти невероятно. Но только на первый взгляд.
Преодолеть расстояние в несколько тысяч верст от Сибири до Варшавы или до Вильна, пройти все это расстояние пешком – это само по себе не испугало бы не только жмудинов… какое физическое напряжение может испугать эту по истине «черноземную силу?»… это не испугало бы почти никого из щеголеватых варшавских ремесленников; этого не испугались бы даже очень многие интеллигенты. Но ведь во всю длинную дорогу надо чем-нибудь питаться. В те времена по Сибири слонялось множество бродяг; они пропитывались или подаянием от крестьян, или воровством. Поляки, как интеллигенты, так и простолюдины, не могли превратить себя ни в нищих, ни в воров; это было для них (за ничтожными исключениями) прямо-таки немыслимо, в том роде, как немыслимо для человека превратиться в лошадь или в корову. Значит, чтобы иметь возможность прокормиться в пути, беглец должен бы был запастись деньгами, и не маленькими.
В России население гораздо гуще, чем в Сибири; всякого начальства гораздо больше. Поэтому даже обыкновенные бродяги, т[о] е[сть] бежавшие из Сибири уголовные арестанты, в огромном большинстве случаев успевали пробраться только до Пермской губернии – тут их ловили и опять засаживали в тюрьму. Бежавшего поляка поймали бы тем скорее, что он обращал бы на себя внимание своим акцентом, оборотами речи, разными мелочами своего житейского обихода.
Бежать через китайскую границу? То – есть попасть в руки монгольских властей, которые стали бы допрашивать беглеца с таким усердием, что он, пожалуй, и умер бы под пытками допроса; а если бы остался жив, его, конечно, препроводили бы обратно в пределы Российской империи…
4
На четвертый или на пятый день по выезде из Томска мы приехали в Красноярск, где нас заперли в тюрьму. В ней производились значительные ремонтные работы, было тесно, и нас поместили в тех же камерах, где содержались уголовные арестанты, «бриганы», как их называли поляки. [Спать нам пришлось на полу. Приготовивши свою постель, т[о] е[сть] разостлавши на полу шубу и свернувши полушубок в виде изголовья, я снял очки и положил их по обыкновению в свою фуражку, а фуражку поместил около изголовья. Проснувшись утром, с огорчением усмотрел, что мои очки исчезли. Я просил уголовного старосту, чтобы он посодействовал возврату]. Мне сказали, что в тюремной больнице находится Мартьянов[155]155
Пётр Алексеевич Мартьянов (ок. 1834–1865) – в 1861 г. уехал за границу и в Лондоне установил контакты с Александром Герценом и Николаем Огарёвым. Осенью 1862 г. опубликовал в «Колоколе» открытое письмо Александру II, в котором призывал между иным к созыву Думы. При попытке вернуться в Россию был в апреле 1863 г. задержан на границе. Заключен в Петропавловскую крепость, а затем приговорен к 5 годам каторги. Умер в тюремном госпитале в Иркутске в сентябре 1865 г. См.: Деятели революционного движения в России. Т. 1. Ч. 2. Стб. 335–356.
[Закрыть], русский, по какому-то политическому делу; я пошел к нему. На вид ему было лет поменьше тридцати; высокий рост и широкие плечи указывали бы на хорошее телосложение, но грудь была заметно впалая. О себе и о своем процессе Мартьянов рассказал мне следующее.
– С малых лет я служил по торговле хлебом. Был приказчиком у крупной фирмы; послали меня в Лондон; там я познакомился с Герценом; читал «Колокол», читал получаемые из России журналы и газеты. Вышел манифест об освобождении крестьян, а вслед за ним пошли известия из разных мест о крестьянских волнениях и об усмирении их суровыми способами; в университетах беспорядки, в Польше манифестации, в Петербурге подпольные листки. В Лондоне слышу кругом себя разговоры Герцена и других дельных людей; все на том сходятся, что надо бы царю созвать земский собор. Читаю в «Московских ведомостях»: Катков[156]156
Михаил Никифорович Катков (1818–1887), защитник царского самодержавия, проводивший в 1863–1867 гг. на страницах «Московских ведомостей» ожесточенную антиполъскую кампанию.
[Закрыть] над Герценом издевается; Герцен, дескать, поджигает молодежь, толкает ее на всякие революционные предприятия, а сам сидит себе в Лондоне, и, спрятавшись за спиною лондонского полисмена, чувствует себя вне всякой опасности. Ну, Герцен на эту статью, можно сказать, внимания почти не обратил: собака лает, ветер носит. А меня взорвало. Написал я письмо к царю о необходимости созвать земский собор, подписал письмо своим именем; через несколько времени попросил Герцена напечатать это письмо в «Колоколе»; а еще через несколько времени объявил ему, что еду домой, в Россию: хочу показать Каткову и подобным ему господам, что мы, его противники, не отказываемся подвергать себя всякому риску, когда находим это нужным. Герцен всячески отговаривал меня, но я остался при своем и поехал в Россию; на границе, как только развернули мой паспорт, тотчас же арестовали.
– Мне кажется, что напрасно вы не послушались Герцена. Ведь те люди, которых мнение вы уважаете, и Герцен уважает, и все сочувствующие вам уважают – эти люди сразу оценили выходку Каткова так, как она того заслуживала. Мужественный Катков изобличает трусливого Герцена, который прячется за спиною лондонского полисмена; Катков не прячется; московские народовые, сыщики, жандармы существуют совсем не для него, они за него никогда не заступались и не заступятся… Согласитесь сами: ведь это такое нахальство, на которое невозможно даже сердиться – над ним можно только смеяться. И неужели вы надеялись, что ваш поступок окажет какое-либо воздействие на этих меднолюбных людей? Что же касается людей противоположного лагеря, они и без всяких ваших стараний были одного мнения с вами. Зачем же вы отдали себя на съедение?
– Что сделано, то сделано. И я не сожалею, тем более что в Сибири-то я пробуду недолго. В Англии у меня составились хорошие знакомства, надежные; между прочим, есть и в Пекине такие англичане, которые помогут мне; я намерен направиться через Китай.
Человек предполагает, Бог располагает – через полтора или через два года после этого разговора дошла до меня весть, что Мартьянов умер в иркутской тюремной больнице. Разные люди в разные время подтверждали известие о смерти Мартьянова и Серно-Соловьевича[157]157
Николай Александрович Серно-Соловьевич (1834–1866) – один из основателей и руководителей «Земли и воли», арестован в июне 1862 г. и посажен в Петропавловскую крепость. В декабре 1864 г. приговорен к 12 годам каторги и пожизненному поселению в Сибири, затем наказание было ограничено пожизненным поселением в Сибири. Умер в Иркутске в феврале 1866 г. См.: Деятели революционного движения в России… Т. 1. Ч. 2. Стб. 372–373.
[Закрыть] (которого я никогда не видел) в иркутской тюремной больнице. Некоторые подтверждали коротко: слышал, что такие-то умерли там-то. А некоторые прибавляли, что, по слухам, оба умерли при обстоятельствах довольно подозрительных. Я пытался расспросить об этих обстоятельствах: значит, умерли не от болезни? От какой же причины? Отравлены? Удушены? Когда же это произошло? Кто свидетели последних дней их жизни? Получал ответы неопределенные: «Не знаю; об этом мне не говорили; сам я там не был; ни того, ни другого не видел». В марте 1909 г[ода], когда я читал Петру Давыдовичу Балл оду эту главу моих воспоминаний, он сказал мне, что Мартьянов умер на его глазах в 1865 г[оду], весною или летом, месяца он не может припомнить с точностью. Его, Баллода, везли через Иркутск в составе небольшой партии политических ссыльных, их было человек пятнадцать или двадцать. Эту маленькую партию поместили в казенной палате, т[о] е[сть] в той части казенно-палатского здания, которая представляла собою временное отделение иркутской тюрьмы, устроенное местными властями вследствие переполнения иркутского тюремного замка. В той камере, куда поместили Баллода и нескольких привезенных вместе с ним поляков, находился Мартьянов. Он был в последнем градусе чахотки, не вставал с постели; лекарств не принимал, зная состояние своей болезни, не имея ни малейшей надежды на выздоровление и считая поэтому всякое лечение бесполезным. О смерти Серно-Соловьевича Баллода ничего не слышал. Об иркутской тюремной больнице я слышал отзывы, вообще говоря, не худые; вот только в связи с именами Мартьянова и Серно-Соловьевича передавались мне слухи очень нехорошие. Из слов Баллода вижу, что по отношению к Мартьянову эти слухи лишены всякого основания; по отношению же к Серно-Соловьевичу считаю их подлежащими большому сомнению. Из разговоров со многими поляками осталось у меня в памяти название города Камышлова[158]158
Камышлов – уездный город Пермской губернии, расположенный на Большом сибирском тракте между Екатеринбургом и Тюменью.
[Закрыть]. Я упомянул, что поляки, отправленные в Сибирь в пеших арестантских партиях из Литвы (в очень большом числе) и из Руси (этих было сравнительно немного), почти не имели при себе вещей, сколько-нибудь ценных: у них отбирали все, что они имели из дому; давали им арестантскую одежду и в таком виде отправляли в дорогу. Все-таки иному удавалось спрятать при обыске несколько денег, или во время дороги родственник, или просто сочувствующий поляк успевал передать немного денег или порядочный полушубок, или хорошие валенки и т[ому] п[одобное]. Если подобный обладатель нескольких рублей или полушубка, или валенков захварывал в дороге, и партионный начальник оставлял его в камышловской больнице – он из нее уже не выходил, умирал там непременно. Поляки скоро заметили эту особенность камышловской больницы; старались предостеречь тех соотечественников, которые еще не дошли до Камышлова; и, если кто-нибудь, пришедши в Камышлов, чувствовал себя нехорошо – товарищи всячески старались скрыть его болезнь и заявить о ней уже во время дальнейшей дороги, когда камышловская чудодейственная больница останется позади.









































